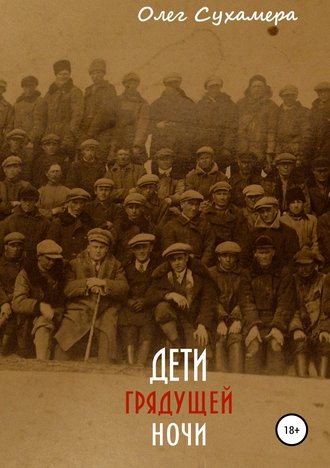
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
– Мрут-таки мужички? Не скрывайте. У меня везде свои уши.
– Случается, товарищ командующий. Недостаток в провианте, инфекции, – спокойно, будто об утренней яичнице, отвечала Мира, равнодушным взглядом скользя по шеренге изможденных людей.
– Что ж… это революция. Наглядный, так сказать, урок буржуазной гидре, вздумавшей поднять голову. Пусть. Будет наука хозяйчикам. Да, Сергей? – от Булата не ускользнуло, что товарищ Гвоздев как уж очень доверительно, на правах старого знакомого, обращается к брату.
– Д-да. Может быть, – видно было, что в отличие от этих двоих проходка вдоль серых рядов скорбно молчащих скелетов заставляет Сергея страдать и прятать взгляд.
Осознав, что еще немного, и шанс ускользнет, Булат выдохнул, сам не узнавая сип своего севшего голоса:
– Сергей! Брат! Я здесь!
Сергей дернулся, будто его перепоясали вожжами, и вперился в Стаса, не веря собственным глазам.
– Это я, Сергей. Мира… это я.
– Стас?! – Сергей бросился было к брату, но Мира с перекосившимся не то от удивления, не то от омерзения лицом жестко одернула его за рукав:
– Вашкевич! Общение с задержанными запрещено! Соблюдайте субординацию, товарищ!
Гвоздев остановился и с интересом, будто рассматривая диковинную зверушку, уставился на Булата живыми колкими глазками. Командарм привычно ждал, что узник отведет взгляд, признавая тем самым его могущество и власть, но, наоборот, получив холодный, даже презрительный, отклик зрачков Стаса, недовольно обернулся к Сергею:
– Знакомый твой?
Сергей только открыл рот, чтобы ответить, но Мира быстро, нарочито ласково взяв его за руку и просительно заглядывая в глаза, фальшиво рассмеялась, как бы призывая любовника поддержать ее шутку:
– Это у них такая практика, правда, товарищ Вашкевич? Пытаются выдать себя за шапочных знакомцев, чтоб выбраться. Не в первый раз такое. Правда же, Сергей?
Сергей в растерянности переводил взгляд то на Миру, то на Стаса, то на застывшего в выжидательной позе товарища Гвоздева.
Булат, сообразив, что проклятая ведьма вертит братом как хочет, не давая тому пути для колебаний, жарко и с нажимом произнес:
– Сергей, это я, брат твой. Стась.
Товарищ Гвоздев, обнажив крупные белые зубы в совершенно очаровательной улыбке, рассмеялся:
– Вот как? Дело приобретает-таки совершенно неожиданный поворот…
– Чушь. Не стоит внимания. Обычный сошедший с ума мужлан. Брат товарища Вашкевича, наш героический командир, умер от тифа. Мы все скорбим. Не так ли?! – почти истерически запричитала испуганная Мира.
Булат в ожидании ответа вперился в брата, словно пытаясь взглядом подчинить его своей воле.
Сергей же сник, как сдутый шарик, опустил голову и, рассматривая что-то важное в месиве лагерной грязи, безжизненно вытолкнул из пересохшего горла:
– Мой… брат… умер.
– Ты… ты… – Булат пошатнулся, как от удара. – Умер, говоришь? Что ж… царствие небесное тогда! Мой – тоже. Бывает… – Стас сглотнул комок, подступивший к горлу, отвернулся и, гордо выпрямив спину, открыто глядя в свинцовое небо, прошел сквозь расступившуюся вдруг в страхе недоумевающую толпу, как остро отточенный, закаленный яростным пламенем, нож.
Той же ночью, преодолев колючку по перекинутым тряпкам, придушив вздумавшего не вовремя проснуться Башмака, Булат и Войцех сбежали…
* * *
Васька лежал третий (или пятый?) день не в силах даже приподняться, чтобы взять здоровой рукой крынку с водой, стоящую рядом у изголовья.
Помутнение в мозгу рассеялось, и он четко осознал, что всё – отныне его прежняя разгульная жизнь закончилась, и вместо бравого продуполномоченного Василия Каплицына имеет место быть человеческая руина, гадящая под себя, полуживая рухлядь из мяса и костей, которая не может связать и пары слов.
Прошла вечность, прежде чем появилась наконец-то Ганна. Васька замычал и затараторил радостно «тататтатата!», но жена лишь посмотрела сквозь Ваську, нахмурилась каким-то своим потаенным мыслям и молча поднесла крынку с водой к высохшим губам несчастного.
Каплицын пил жадно, но и тут была засада: особо не получалось, язык не слушался, горло не хотело глотать, и вода заливалась внутрь, болезненно перекрывая дыхание. Ваську в такие моменты бил сильный кашель, буквально выворачивающий наизнанку. Он плакал бессильными слезами: что за питье? Утопление же! Но и без воды было туго.
«Где наши? Почему никто не приходит?!» – Васька заглядывал в пустые глаза Ганны, пытаясь хоть мысленно задать ей волнующий вопрос. «Почему так? Почему меня все бросили?»
Ганна лишь кивала в такт однообразному «тататтата», но однажды, видимо, поняв волнующую Ваську тему, бросила вскользь:
– Дружки твои поразбежались все. Линия фронта рядом. Говорят, еще неделя-две, и немец будет здесь, в Перебродье.
– Татататата! – возмутился Васька.
– Может, и не правда. Чай на дворе не четырнадцатый, а восемнадцатый, – согласилась Ганна. – Только слух прошел, что в Двинске немцы всю вашу советскую шайку-лейку развешали на столбах прямо на площади. Не сказать, что наш народ сильно обрадовался такому, но и грустить по нечисти вашей не стал. По-собачьи вели себя, вот и заслужили. Бог все видит!
– Млять! – зло сплюнул Васька и отвернулся к стенке, словно обиженный ребенок.
– Тебя, Вась, тоже повесят. Не посмотрят, что инвалид. Скажу тебе напоследок, ненавидела тебя все время, а сейчас так вот благодарна тебе. За Владика… такой мальчик… спасибо, что не убил его вместе с родителями. Нет, я серьезно. Боженька вспомнит это, глядишь, не в самое пекло угодишь. Там, в аду.
Васька выгнулся дугой от возмущения, из кривого рта его поперла пена.
– Тататата-та-та! Млять! Тататата! Тататата!!! – собрав остатки сил, Васька дотянулся и грохнул об пол крынку.
– Ну, твое дело, Вась. Можешь не верить, – спокойно возразила Ганна.
Тихо, как тень, зашла Софья. Посмотрев как-то странно на Ваську, мягким движением приподняла Ганну с табурета.
– Иди, дочка. Там малой криком изошел весь. Покачай, успокой ребятеночка.
Ганна, почуяв в словах матери легкую фальшь, попыталась возразить:
– Мам, так надо б простыни перестелить? Вонь же…
– Потом, потом… – рассеянно улыбнулась Софья и почти силком вытолкала дочь за двери.
Оставшись наедине с Васькой, Софья, стараясь не глядеть на больного, деловито связала домотканую простынь двумя крупными узлами. Один сделала над головой Каплицына, второй – у ног, соорудив таким образом импровизированный кокон, в середине которого оказался Васька.
Предчувствуя нехорошее, Каплицын замер.
Софья же перекрестилась на красный угол, вздохнула тяжко:
– Господи, прости душу грешную. Так лучше всем будет… – потянула изо всех сил за узел над Васькиной головой, стаскивая его с постели.
Голова Василия повисла, покоясь на простыне, а ноги безвольно ляпнулись о половицы.
– Сука! Дура тупорылая! Скотина, что ты делаешь, тварь! – заорал Васька и заплакал, услышав все то же прежнее «татататата».
– Отбегался, Васек. Чем у немца в петле болтаться, лучше уж так… Не серчай. Заслужил ведь, – почти ласкового приговаривала Софья, потянув куль с зятем прямо через двор в сторону озера.
– Млять… – жалобно выл Васька.
– И то верно. Поругайся, дорогой, все легче будет. Мат вон прет из тебя, а человеческий язык исчез. Потому, думаю, что бес сожрал изнутри. Сам в себе его вырастил. Эх, Вася, – остановилась Софья, чтоб перевести дух. – Ты не волнуйся, водичка еще теплая, тебе хорошо в ней будет. Много там в ней. И хороших людей. И таких, как ты. Набист всех примет. Мож, помолишься? Ну нет, так нет. Поехали… чуть до берега осталось, потерпи уж, зятек дорогой.
Больше Василия Петровича Каплицына в деревне никто не видел.
Вопросы ни Софье, ни соломенной вдове Ганне, никто не задавал: односельчане справедливо рассудили, что Васька сбег вместе со своим треклятым комбедом, а коли сгинул где в революционное лихолетье, то и черт с ним.
Одним словом, по давней перебродской привычке на плохие воспоминания плюнули, растерли и забыли, совсем так же, как делали это предки, из века в век пронося хорошее, не грустя о потерях, веря, что за горем и бедами всегда наступают лучшие времена.
* * *
По перрону сновали парочки с баулами, солдатня, дети, бабы с корзинами провизии, сомнительные типчики с надвинутыми на глаза картузами, патрули, мешочники и важные железнодорожные служащие в одинаковых черных пиджачках.
– Миш, ну что такое? Где улыбка? Глазки, как у побитого щенка. Не переживай! Главное, мы вместе! Впереди – новая, лучшая жизнь. А это… Какой-то Витебск. Со всех сторон – окраина. Минск! Там, в Минске, мой дорогой, тебя с руками любая редакция оторвет. Там ты – Дядька Михал! Там знают, чьи пьесы в Питере ставятся! Кто ты был здесь? Маляр? Эх, Мишенька, душа моя! Что мы теряем? Ровным счетом ни-че-го!
Мишка грустно подумал, как это Влада ухитряется болтать на ходу, тащить здоровенный баул с вещами и при этом еще что-то жевать.
Встали. Влада села на баул, рассеянно и счастливо щурясь на серое небо, а он наблюдал в отупении за клубами приближающегося паровоза, за этой снующей яркой, дурно пахнущей толпой. Прислушивался к трубному реву многотонной туши стонущего уже рядом, за красно-пегими домами, чугунного монстра, улетая мыслями куда-то на дно, в темные глубины себя. Ласковый дьявол шептал в левое ухо: «Да, все верно. С такой, как Владка, не пропадешь. Такая и коня – на скаку. И избу… сама подпалит, чтоб у всех на виду войти. Наверное, это судьба. Да! Точно. Это судьба! В конце концов, у настоящего творца может быть только одна любимая – муза».
«А, как же Полина?..» – робко пискнула совесть. «Не думать о ней! – жарко дышал бес. – Будем сублимироваться в творчестве. Такой путь. Все правильно. Жизнь с нелюбимой ради…» – «Ради чего? Почему ж так мерзко на душе? А? Потому что, признайся честно, дружок. Ты зассал. Предал любовь, променял ее на существование с …этой. Бабой. Точно, бабой». – «Что с того! Зато жив! Живой же! Эх, дурень!»
Лязг, грохот, воняющие углем мокрые клубы пара, вырывающиеся из-под черно-красных огромных колес, вытянули Мишку из скорбных раздумий.
Владка с готовностью овчарки, получившей команду «фас», резво вскочила с баула и потащила его почти бегом в сторону вагона, возле которого уже успела образоваться разношерстная толпа.
– Товарищи! Товарищи!!! Расступитесь! У нас бумага от предреввоенсовета! – орала Влада, расталкивая мужичков и их дородных супружниц локтями, освобождая оробевшему Мишке проход к зеленым поручням.
Мишка лениво плелся, чувствуя себя не то безвольным тянущимся дерьмом, не то маленьким мальчиком, которого дергает за руку властная дурында-мамаша.
– Мишенька, – ноги! Осторожно, ступенька! Товарищ, что мы встали в проходе? Из-за вас людям невозможно зайти! Да уберите же свой чемодан, наконец!
Мишку вдруг осенило.
Влада была в своей стихии! Она наслаждалась решительностью и верткостью, умением пронырнуть сквозь толпу, обернуть чужую неорганизованность в собственную выгоду.
Ее счастье и предназначение было в этом: преодолевать, обеспечивать быт и комфорт, прогрызать препятствия. Не для себя, нет! Для того, кого она выбрала в подопечные. Себе бы постеснялась, а для него, для своего мужчины-ребенка, всё: украсть, убить, предать! Главный жизненный приз, святой Грааль, смысл существования, все сошлось воедино на нем для этой женщины. Ради него она унизится и тут же восстанет вновь из пепла, и все это – не задумываясь и не рефлексируя, только потому, что выбрала себе его в качестве креста или даже флага, с которым, ошалелая от собственной удачи побежит по жизни, перепрыгивая любые барьеры и препятствия на кураже. «Что я? Все ради любимого! Он гений, я тень. Он все, я никто».
Влада вела внутрь вагона мягко, но настойчиво, затягивая Мишку в новую жизнь с неумолимостью Ельнянского топкого болота.
Мишка понимал, что все, за этим жизненным порогом, который по прихоти судьбы принял очертания вагонной подножки, исчезнет его прежнее я. Перешагнув его, он навсегда останется предателем и слабаком не для окружающих, нет, прежде всего для себя. Где-то в глубине души появится та червоточина, которая не затянется никогда, а будет только расти, пожирая волю, разъедая крепость духа и превращая характер в мягкий, скользкий и приторно сладкий кисель.
Вдруг он почувствовал, как спину царапает чей-то пристальный взгляд. Не было смысла оборачиваться: только один человек в этом мире мог так резонировать с ним, вызывая дрожь, оторопь и восхищение – все это сразу и вместе, заставляя сердце петь и кувыркаться, не думая о последствиях, беспечно и радостно подпрыгивая, как маленький ребенок в лужах под проливным дождем.
Мишка все ж обернулся, но лишь потому, что не мог не сделать этого.
Какая-то сила более могущественная, чем его собственное желание, заставила быстро, в полвзгляда, отыскать в толпе эти бездонные, полные слез и разочарования, но все еще надеющиеся на какое-то божественное чудо, глаза.
Сердце Мишки трепыхнулось, сделав замысловатый кульбит, и он, позабыв на мгновение о смертельной опасности, все еще держащей его жизнь в своих цепких холодных лапах, рванулся было туда, к ней, к лучшей половине себя.
– Полина!
Мишка рвался туда, наружу, но какая-то сила, ухватив его за шиворот, неумолимо и жадно втягивала обратно внутрь.
Трещал воротник твидового пиджачка.
– Что вы стоите! Не видите?! Он же падает! Держите же!
Воздух стал тягучим и липким, время остановилось, застыло время, и только лишь мощный, растянутый до баса голос Владки бил по ушам могучим колоколом:
– Держите же его!
Перед глазами Мишки, все еще барахтающегося, как осенняя вялая муха, залетевшая в паутину, по инерции все еще стремящегося туда, навстречу Полине, навстречу своей гибельной любви, вдруг ярко вспыхнула картинка. Мертвая ладошка доктора, судорожно сжимающая раздавленную оправу модных очочков.
Мишка дернулся еще, но тут обмяк, будто агонизируя, и сдался, позволяя чужим, ломающим его волю, рукам втянуть себя в чрево вагона.
«Пусть так. Зато уцелел… А душа? Заживет. …Наверное».
* * *
(1942)
… Вынырнув из воспоминаний, выверенных годами в одну четкую болезненную линию, Михаил, пытаясь согнать с себя давний морок, задумчиво постучал пальцами по лаку стола. Потом стукнул ладонью сильно, до боли, пытаясь отвлечься от шевелений не зажившей за десятилетия самоедства совести.
Отметив, что друзья-писатели все еще переговариваются на балконе, демонстративно не желая возвращаться в номер, Михаил напрягся, писательским нутром учуяв, что есть в поведении приятелей некая натяжка. Что уже где-то не за горами маячит некая кульминация этой его странной поездки в Москву.
Усилием воли заглушив тревожные колокольчики, Вашкевич наполнил было рюмку, но вдруг ощутил, как легкая паранойя заставила неприятно протрезветь, перелил рюмку в стакан и, долив до половины, легко, не поморщившись, залил обжигающую жидкость в горло.
Теплая волна разлилась, позволив на секунду расслабиться и получить обманчивое, но такое необходимое сейчас ощущение уравновешенности и покоя.
Захотелось курить. Михаил потянулся за папиросами, размял одну, засунул в рот, чертыхнулся в поисках спичек, но, так и не найдя, нервно смял папироску и с сожалением выбросил ее в урну под столом.
– Здравствуйте, Михаил Иванович. Что ж вы так… попросили б огоньку, нашелся бы.
Голос, донесшийся из-за спины, заставил вздрогнуть. Не столько из-за неожиданности, сколько из-за знакомых интонаций, оттуда, из прошлого. Этот вкрадчивый голосок мог принадлежать лишь одному человеку, и его Вашкевичу хотелось бы видеть меньше всех.
– Ч-черт. Думал мерещится, что кто-то маячит сзади. Здорово, Зубенко. Выпьешь? Или сразу потащишь мою душу к себе в ад?
– Не смешно. Отчего ж не выпить со старым приятелем? С большим даже удовольствием.
Так же неслышно, словно материализуясь из воздуха, Константин вышел и мягко опустил свою изрядно подобревшую тушку на стул напротив.
Почуяв, как похолодело внутри, Михаил невольно глянул за спину нежданному визитеру, в сторону балкона, где топтались приятели, и тут же отвел взгляд, проклиная себя за наивную надежду на какое-то чудо.
Зубенко, нюхом опытной ищейки почуяв слом настроения, хищно осклабился и, ловко наполняя рюмки, шепнул:
– Они не выйдут, Миш. Ты ж не маленький. Все понимаешь. Ну, за встречу? – Зубенко, смакуя, медленно выпил, причмокнул от удовольствия.
– Пей, Миш, пей. Придется ли еще? Не знаю. Кхе-кхе.
– Так этот весь карнавал с юбилеем – твоя идея?
– Миш, ну хватит уже изображать невинную девицу. Право слово… Так глупо повелся… Какой юбилей? В большей степени так придумано было для Владки твоей сумасшедшей. Ты ж ее знаешь. Начала бы трезвонить по всем инстанциям. Нам оно надо?
– Понятно. Тогда не чокаясь? – Михаил опрокинул рюмку, показавшуюся сейчас безвкусной и безрадостной.
– Хорошая шутка. Могешь, Миша! Главное, уместная и по делу. Не так я представлял этот момент, но… все впереди. Так сказать, нам обоим предстоит еще насладиться будущей капитуляцией.
Зубенко, не церемонясь, ловко выхватил папироску из лежащей пачки. Чуть помедлив, щелкнул золотой зажигалкой, невесть как оказавшейся в руке, и прищурился, отчего стал похож на облысевшего сытого кота. Сделав паузу, хмыкнул какой-то посетившей его мыслишке и, ткнувшись табаком в огонек, затянулся глубоко и с видимым наслаждением пустил в потолок густую струю дыма.
– Мы, Михаил Иванович, кто? Мы люди служивые. Желания наши не всегда совпадают, кхм, с партийной линией. Приходится терпеть. И ждать-ждать, Миша, когда случится такое чудо, и личные чаяния совпадут с начальственной установкой.
Не поверишь, не могу сказать, что все эти годы говно во мне кипело. Взгляды меняются, м-да… Но… Как бы это? Чувство незавершенности? Точно. Оно. Зудит, родимое. Годами, представь, себе. Вот, кажется, пора б забыть. Чего там, в юности, только не было?
Женщина эта, с которой живешь скорее по привычке, чем …не важно, одним словом. Старый приятель-предатель. Их адюльтер этот детский. Да вроде б, черт с ними! Плюнь и разотри. Дела минувшие. Иди дальше.
Но вот же ж нет! Как не помнить?!
Когда в те редкие моменты, когда добрался до жены, когда ей хорошо в постели этой треклятой, чувствуешь, чуешь, я ж не идиот, а ведь она не с тобой, Костя, сейчас. Нет, все хорошо. Скажем так, терпимо. Физически, имею в виду. Но! Каково себя чувствовать таким вот протезом для удовлетворения духовной похоти?
Самое плохое, что привыкаешь к этому… к тебе. Есть мы двое, и третий ты, дружок мой ситный, в нашем не очень счастливом супружеском ложе. А что делать? Терпишь. Сам факт того, что мог бы раздавить, как жабу, все средства для этого есть. Довлеет. Но. Низз-зя! Служба-карьера, мать ее! Талант, классик литературы, так сказать. Велено не трогать, значит – не моги!
Ох, Миша, от невозможности укусить такая тоска наваливается. Завыть бы. Мыслишки эти …бегают-бегают, чешутся, зудят смертельно, так, что кажется порой, все: вот пуля – вот выход. Но нет! Не дождетесь! Шиш вам с маслом!
Михаил смотрел на этого маленького пухлого человечка, развалившегося на стуле, и ему было почти жалко его. Все это повелительно-хамское поведение, кажущаяся сила, укрепленная броней высокого звания, окрыленная положением, – вся эта махина самомнения, все это выстроено на гнилом стержне из обид и неудовлетворенности.
Зубенко нервно раздавил окурок прямо о тарелку с нарезкой и продолжил.
– Пойми ты меня, Михаил Иванович. Когда в ведомство пришла эта информация, что фашисты переименовали улицу… в Вашкевича, пусть не того Вашкевича, а брата твоего. Что с того? А я обрадовался. Вот он, думаю, шанс! Поквитаемся!
Пиши, думаю, Костя, сыпь аналитическими выкладками наверх. Пуля дырочку найдет!
Печатаем. Преамбула: я, простой генерал наркомвнудела, искренне недоумеваю, как же так? Наш моральный ориентир, писатель с мировым именем, чем же он так угодил оккупантам?
Абзац. Развиваем тему.
Вырезочек из интервью побольше, сдобрить это дело цитатами из произведений, ну и фотографийками из зарубежных командировок.
Еще припомним нечаянное участие в съезде меньшевистском – оп-ля – блюдо готово! А что там у нас такое вкусное вышло? Да фуррор! Объеденьице! Под нашим моральным знаменем, если поскрести, сплошной сепаратизм, оказывается, да не один, а вкупе с махровым национализмом и антисоветчиной! Документально запротоколировано! Ссылочки, все как мы любим, тут же – в сопроводиловке. Страница такая-то, абзац такой-то. Тут не только наградой, тут повышением за версту тянет!
Одно «но»: у кого надо, возникает резонный вопрос. Ай-я-яй! Как же вы там, в надзорных наших органах, такую писательскую гадину проморгали? Как так вышло, что вот этого скрытого фашиста пригрели? Как вот это печатали в наших советских издательствах? Ответьте! А товарищ Зубенко готов! Стопочка докладных – фьють – туда, на верхний стол. С такого-то года, прошу учесть, сигнализировал. Уфф. Дальше – дело техники.
Вот, собственно, и ура. Без шума и пыли, как видишь, сам приехал в лапки правосудия.
Сидишь, корчишь из себя крепыша. Но мы-то помним тридцатый год, да–нет? Не понимаешь еще, но ты уже не классик, а так… вонючее дерьмо на палочке. Ничего-ничего… осознаешь! Всему свое время.
Поверь, дружок мой, Мишенька, Я свои дела всегда, ВСЕГДА, довожу до конца. На всю страну каяться будешь, недобиток фашистский! Считаю, что наша с тобой и Полиной история прекрасно замкнула круг.
Страшно? Правильно. Это прелюдия только. По-настоящему страшно еще будет.
Зубенко достал аккуратно сложенный носовой платочек, вытер испарину на лысине.
– Фуух. А ведь полегчало! Не поверишь, прямо вот крылья чую за спиной! Ну? Мишка! Как же я рад тебя видеть! Давай, что ли, на дорожку, дорогуша ты моя? Ведь как поется в одном романсе, нас ждут прекрасные мгновенья в щемящей нежной тишине!
– Пей, Костик, пей. Мне что-то не хочется, да и противно, по правде сказать, выпивать со смешным карликом, возомнившим себя титаном. Чего глазки выпучил? Хочешь правды? Тогда кушай.
Да не страшно. Отбоялся, хватит.
Смотрю на тебя и не понимаю, как так вышло, что я предал всех, кто был мне по-настоящему дорог, всех, кого люблю?.. Как я, Михаил Вашкевич, из-за неудовлетворенных амбиций одного маленького мстительного ублюдка сломал столько судеб? Если б вернуться туда, на двадцать лет назад, ни секунды бы не думал. Лучше было б сдохнуть, чем играть в твои сатанинские игры. Скулишь тут. Ай-я-яй. Карьера есть, а судьба не задалась. Не задумывался, почему?
Потому что, ты, Костик, плесень серая, и все, к чему ты прикасаешься, все светлое, настоящее, заболевает и начинает гнить. Полину жалко, а тебя и себя нет. Годами, говоришь, строил планы, чтоб цапнуть меня побольнее? Молодец, служака. Держи медаль, заслужил!
Михаил приподнялся и смачно, со вкусом, харкнул точно на лацкан серого пиджака.
Увидев испуг и растерянность в глазах генерала, Вашкевич улыбнулся ему навстречу той радостной улыбкой, человека, наконец-то сбросившего опостылевшее за десятилетия тягостное ярмо внутренней несвободы.
Очарование хмеля улетучилось, голова стала ясной, а в крови Михаила забурлил, вспениваясь, яростный кураж, когда наплевать, что будет потом, а важно лишь то, что здесь и сейчас.
Пока побагровевший Зубенко в возмущении пучил глаза и хватал ртом воздух, Михаил пружинисто подошел к выходу и хлопнул дверью от души, словно подводя черту затянувшемуся, уродливому, извращенному сосуществованию с этим повизгивающим, топающим ножками мужчинкой.
Краем глаза заметил, как от стены отделились две сгустившиеся тени, такие же серые, как и их вопящий начальник.
Не обратив на них ни малейшего внимания, с той уверенностью, которая обычно повергает в ступор служак – людей зависимых по определению, – Михаил подошел к перилам, ограждающим лестничный пролет, и быстро, пока те не заподозрили ничего плохого, двумя ловкими движениями перелез через перила, тут же оказавшись один на один с бездной из спирали убегающих куда-то далеко, в чрево фойе, лестничных пролетов.
Михаил все еще держался одной рукой за поручень, но уже перенес вес тела вперед и застыл на мгновение, будто вглядываясь в малюсенькие квадратики кафеля там, внизу.
Он не раздумывал, нет. Спонтанное решение было единственно правильным, выстраданным всей судьбой раскаянием в многочисленных, ежедневных уступках собственным слабостям, в молчаливом принятии наезженной колеи, по которой катилась с горки его внешне успешная, а по сути несчастная своя-чужая жизнь.
Где-то за спиной, далеко, на другом краю вселенной, верещал Зубенко:
– Держать! Держите же его!
«Орет, как Владка когда-то давно на том злополучном вокзале. Надо было еще тогда… Надо. Вырваться!» – подумал Мишка и шагнул вперед.
Пустота приняла его кротко и повлекла вниз, в глубину, убаюкивая воздушными руками нежно, по-матерински.
Мишка падал, свободно раскинув руки, радуясь короткой невесомости, улыбаясь восторженно, будто вспомнил вдруг о своем давнем, украденном из счастливого детского сна умении летать…
КОНЕЦ
Витебск, 2018 год


