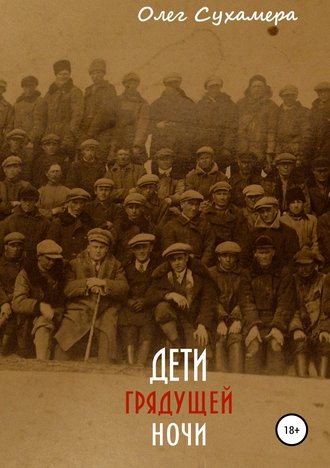
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
Глава третья
Близ есть, при дверех…
(1937)
Такое простое желание: закрыть веки, на секунду, на мгновение. Нет. Нельзя. Все же боль от направленной прямо в глаза яркой лампы можно терпеть, в ней нет унижения. Душе не так больно, как от примитивных оплеух и пинков яловыми сапогами по почкам.
«За что? Все ж не последний автор. Столько искренних слов рождено для родной советской литературы, чуть ли не живой классик. Как так можно? Кому понадобилось растоптать все человеческое, свести работу ума до примитивного, животного – избежать позор от унизительных побоев.
Почти сутки одно и то же. Затекшие, стонущие от неподвижности мышцы; балансирование на краешке прикрученной к бетонному полу табуретки; удары при малейшем желании пошевелиться; робкие попытки спрятать слезящиеся глаза под набрякшими веками; очередные выверенные тычки остроносых сапог».
Михаил покачнулся и тут же, уже инстинктивно, вжал в плечи гудящую от побоев голову. Неясная тень человека (человека ли?) там, за ярким световым пятном, чиркнула спичкой и глубоко вздохнула, запахло дымом.
– Курите, Вашкевич? – Михаил даже удивился. Часов десять или больше тень просто молчала, скрипела изредка тоненьким перышком по бумаге, покуривала каждые полчаса, кряхтела, сморкалась, сопела, старательно выводя буковки, шелестела документами, но не разговаривала. Не хотела говорить. Поначалу Михаил попробовал «навести контакт», ляпнул что-то навроде «здравствуйте», но тут же, получил урок – хлесткие, по-мясницки отточенные пинки от маячившего сзади солдатика в фуражке с малиновым околышем. Уроков было много, все болезненные и унизительные. Экспериментальным путем выяснилось, что двигаться, моргать, шевелиться нельзя. Можно сидеть на остром ребре табуретки исключительно прямо, не пытаясь отвести взгляд от мерцающего карболитового «гуся» казенной лампы.
– Не бойтесь. Отвечайте. Можно.
– Да. Наверное, – Михаил едва сдержался, чтоб не дернуться: из болезненного светового пятна ловко выскочила маленькая, почти детская ладонь с аккуратно отполированными ногтями на гладких пальчиках, между которыми была зажата папироска.
Внутренне радуясь хоть какой-то смене обстановки, Михаил неловко взял набитую табаком гильзу, привычным движением смял кончик, сунул в рот, поморщился, разбитые высохшие губы саднили. Из-за лампы всплыла горящая спичка, пальчики поднесли колышущийся огонек к папиросе, и, чуть подождав, пока Михаил затянется, спичка затухла от резкого взмаха и растворилась в сполохах жаркого электрического света.
– Курите-курите, Михаил Иванович, когда еще придется… – голос человека с другой стороны света был странно знаком. Даже не голос, интонация. Было в ней что-то личное. Обида, что ли? Или затаенная вражда?
Михаил жадно затянулся, наслаждаясь не столько терпким привычным дымком, сколько сменой мучительной картинки.
«Вот оно, человеческое нутро. Минуту назад – страх, безнадега и отупение, и, поди ж ты, пару затяжек – и снова хочется жить. Господи, чего б я не отдал сейчас, чтобы это был просто сон. Проснуться, открыть глаза и сбросить с себя ночной кумар. Слава Богу, всего лишь кошмарный сон… Через пару дней Новый год. Тридцатый. Дожить бы…».
Невидимый человек нетерпеливо постучал по столу костяшками и, посчитав прелюдию законченной, начал вкрадчиво вещать:
– Следим за вашим творчеством. Изучаем. Мощные есть вещи. Серьезно. Весь этот ваш гуманизм, боль за судьбу маленького человека… трогает. Я не о себе. Там, наверху, так считают. Рады?
– Чему радоваться? Я ж здесь. В чем меня обвиняют?
– К этому придем. Поверьте, Михаил Иванович, ситуация более чем серьезная. Судьбоносная. Кха-кха, для всей нашей национальной, так сказать, литературы. Ну и для вас лично, увы. Так вот о творчестве. Есть мнение, что вам надобно более пристальное внимание уделять не самокопанию, а, например, прославлению успехов социалистического строя. Мы не настаиваем, конечно, но… Лирика она хороша для буржуазного общества. А у нас – передовые свершения. Люди труда. Руководители. Не дурачки, которых вы выписали в этой своей пьеске, а вожди. Мудрые. Дальновидные. Как считаете?
Михаил горько поморщился, надо же, там, в светящемся круге поселился знаток его творчества, людоед-литературовед. Вслух же выдавил, подыгрывая вкрадчивому тону:
– Считаю, все верно. Ошибался. Вы скажите, этот допрос из-за …моей оплошности в творчестве?
– Что вы! Допрос даже не начинался! А вот тот факт, что наша дружеская беседа состоялась, это да. Если смотреть вкупе, безусловно. Цепочка неверных шагов, и – оп-ля – вы на краю обрыва. Открою тайну. Внизу – бездна. Что касается нашего ведомства, мы за чистоту рядов, как по нам – падайте, не заметим. В общей, так сказать, яме, будете «один из». Но …наверху, увы, вас читали. И посчитали не безнадежным. Не врагом. Заблудшим. Это везение. Большая удача. Поверьте, знаю, о чем говорю.
– Понятно. Отпустите меня? Или…
– Отпустим-отпустим… Одна формальность. Малость. Подписать надо. Заявленьице. Прошу прощения, что казенным языком от вашего имени, вы ж у нас литератор. Не переживайте за стиль, для документооборота сойдет. Почитаете?
Ладошка ткнула в лицо Михаилу стопку стандартных листиков, испещренных аккуратным убористым почерком. Михаил попытался читать, но буковки расплывались, вместо текста перед глазами плясали витиеватые зайчики, как нити накаливания от злосчастной лампы. Следователь же елейно продолжал журчать, но теперь с легкой издевкой в голосе:
– Может, я какие-то фамилии упустил? Михаил Иванович, вы уж гляньте, пожалуйста, дорогой. Пустячок, список шпионов германской разведки, маскирующихся под белорусских поэтов и писателей. Одна незадача. Все – ваши друзья-приятели. Бывшие, естественно. Благодарим, что выводите этот гадюшник на чистую воду. Все верно. Так их, негодяев! Сепаратисты. Националисты. Отребье. Ни одного порядочного человека. Спасибо, как говорится, вам большое от органов за своевременный сигнал. Ах, да…Вот ручка. Прошу не сомневаться, наши информаторы известны только нам. Ну-с. Ваш автограф – и… Свобода! Вперед, как говорится, к новым творческим высотам!
Михаилу почудилось вдруг, как голос старика Еленского прошептал в самое ухо «… остаться человеком при любых обстоятельствах…».
Обидно, что вот он – последний день на земле, так неожиданно, не вовремя, на взлете. Все надежды, разочарования и планы вдруг скукожились, стали смешными и глупыми на фоне этой дохнувшей холодом предстоящей вечности небытия. Так, оказывается, сложно «остаться человеком». Михаил с сожалением утопающего, отпускающего спасительный круг, разжал пальцы, и бумажки мягко спланировали на стол.
– Подите… к черту…
Повисла жутковатая пауза, во время которой Вашкевич успел почувствовать себя маленькой песчинкой, проваливающейся в узкую горловину гигантских песочных часов. Каждая клеточка тела замерла, ощущая момент падения туда, вниз, к отцу, к пану Еленскому, к миллионам таких же, как он сам, душ, время существования которых тоже когда-то истекло.
– С-сука! Думаешь, мне не хочется раздробить каждую твою косточку?! Да у меня другой мечты нет, только чтоб ты, тварь, сейчас слизывала собственную блевотину с моих сапог!
Из-за светового ореола пулей вылетел неожиданно мелкий, обрюзгший от ночных бдений человечек, завопил кукольным голоском. Михаил автоматически сжался, предполагая, что это визжащее и брызгающее слюной существо сейчас толкнет табурет и теперь уже на пару с охранником будет выбивать из него то немногое человеческое, что еще теплилось в душе.
Но нет, почти карлик просто визжал, сверля ухо пронзительным дискантом:
– Думаешь, я не умею?! Еще как! Не таких, как ты, сволочь интеллигентская, переламывал! Если б не отмашка сверху… Ты, говно, умирал бы у меня каждый день! По чуть-чуть, по капле! Ты умолял бы меня о смерти, но нет… Я бы дождался, пока ты, бумагомаратель доморощенный, не сойдешь с ума. Подождал, пока от твоей поганой личности не осталось и следа! А животное, которым ты бы стал, не грех и прикопать в общей яме, полуживым… За все. За Полину. За все, что ты, паскуда, наделал!
Михаил едва не привстал от удивления. Так вот откуда знакомые интонации!
– Зубенко? Как же?!
– Для тебя, вша тюремная, я сейчас гражданин начальник! Подпись! Это я тебе в общих чертах обрисовал, не завидую, если придется узнать, КАК оно на самом деле будет!
* * *
– …Ты сидишь у камина и смотришь с тоскою,
Как печально дрова догорают,
И как яркое пламя то вспыхнет порою,
То бессильно опять угасает…
Костя сделал вид, что половчее перехватывает гриф гитары, на самом же деле попытался взглядом оценить эффект от свежевыученного романса.
Дядя, Степан Макарович Крылов, отрешенно жевал, погруженный в тяжкие начальственные думы председателя Витебского реввоенсовета. Полина и Влада кисло улыбались, делая вид, что им все нравится. Разгильдяй Мишка демонстративно позевывал.
Пробуя как-то переломить творческий провал, Зубенко сильнее тренькнул по струнам и завыл во всю мощь писклявого голоса, внося в припев драматические нотки, коих в оригинале не было отродясь.
– О, поверь! Что любовь – это тоже дрова!
Что сгорают, как лучшие грезы!
И вся разница в том, что любовь дорога…
– Но дрова нынче вдвое дороже! – неожиданно ляпнул очнувшийся Мишка. Девушки дружно прыскнули в кулачки. Степан Макарович одобрительно хмыкнул, махнул рюмочку беленькой и одним вялым жестом заставил племянника заткнуться.
– Так говорите, молодежь, тяжко в Питере… Угу. Только от революции не сбежишь. Вы – сюда, а она уже тута.
Костя отложил гитару и на правах организатора группы беженцев дипломатично попытался увильнуть от скользкой темы.
– Мы, дядя Степан, в большей степени, сменить картинку. Учебы нет, с работой тоже никак. Вот и решили. Ты ж обещал устроить…
– Тебя – да. При мне будешь! У-у-у… Костя, племяш мой любимый! Человека с тебя сделаю. В комиссию по раскулачиванию нам как раз надо. А с друзьями твоими… ну… Звиняй, прямо не знаю, что и придумать.
Влада вдруг вспыхнула, встала и выпалила, бросив на обеденную тарелку вилку, что аж воздух зазвенел.
– А мы не набиваемся в родственники! Я шить могу. Мишку с руками любая газета оторвет. Полина в театр устроится, у нее талант. Справимся сами. Не нужно нам ваше участие!
Степан Макарович вытер платком лысую голову и, подумав, неспешно налил себе еще рюмочку. Выпил махом, крякнул от удовольствия и, вытерев щегольски подкрученные усищи, глянул исподлобья на Владу, которая тут же осеклась и села, пытаясь слиться с пестрыми шпалерами, обвисшими за ее спиной.
– Сами, так сами. С усами, б-г-г… Гордые они. Слы, Костик, ты это секи. С такими друзьями радости мало в наше время, а вот горя хапнуть легко.
– Дядя Степан, это Влада так, не подумав, сказанула. Если есть какая-то возможность посодействовать…
– Нету! В следующий раз кумекать будете. Артисты, журналисты, мать их… Голодно станет, сами приползете. Потому как я тут бог, царь и падишах. А вы… тьфу, пустое место. Щенки, мля.
Мишка, поняв, что пьяная беседа пошла совсем не в то русло, которое ожидалось изначально, пробормотал:
– Благодарим за прием. Прекрасный ужин, Степан Макарович. Ну, а с пропиской, продуктовыми карточками – все, как обещали? Проблем не будет?
– Поймал за метлу. Ага! Молодца. Раз обещал, значит – ик… будет.
– Спасибо огромное! Раз так, не будем мешать. Надо еще вещи разобрать, и все такое…
Дородный Крылов выпил еще рюмку, мотнул лобатой головой, словно отмахиваясь от надоедливой мухи, и, вцепившись пристальным взглядом в Мишку, с тихой угрозой в голосе прошептал:
– Не-а. Не угадал. Сидеть. Никого не отпускал еще…
Молодые люди переглянулись. Атмосфера расслабленности испарилась, вдруг резко стало как-то неуютно. Костя потянулся было за гитарой, но передумал, разумно решив, что отвлекать пьяное внимание родного дяди на себя ему тоже сейчас ни к чему.
К счастью, затренькал черный лаковый телефон, стоящий прямо в центре стола, между супницей и большим кузнецовским блюдом с остывшей обглоданной курицей.
Степан, удовлетворенный наведенным на молодежь страх, злорадно повел бровью и, кряхтя, потянулся к телефону крепкой лапищей. Костя услужливо подскочил и подал трубку.
– Крылов! У аппарата! Угу. Докладывай… На станции? Сколько, пять тысяч? Едрить твою маковку! Ох, ты ж мля… А… разоружились? Сами? Ты так говори! А то, мля, чуть не обосрался… Чо делать, чо делать?! Оружие ихнее на подводы и – на соляные склады. Там рядом. Офицеров под конвой. Ой, хули с ними цацкаться! Да! Под конвоем – в лес! Да мне похер, сколько их там наберется! Пока не очухались и не подняли мятеж. Герасимова с расстрельной командой усилишь бойцами гарнизона. Ну. Со солдатней утром будем решать. Запишем в красный дивизион. Или… Все! Ща буду! Конец связи!
Крылов резво вскочил из-за стола, оказавшись квадратным с жирком мужичком небольшого, как и Костя, роста.
Не обращая внимания на притихших ребят, Степан Макарович схватил висящую на спинке стула портупею с болтающимся на ней маузером, бережно прижал к груди спутанный ком и, тяжело затопав по паркету короткими кривыми ножками, вздыхая и негромко матерясь, выбежал.
… Поселились в районе Елаг в старом домике красного кирпича, который Костин дядя милостиво предоставил молодежи для временного проживания. Степан Макарович мельком обронил, что дом раньше принадлежал какому-то купчине, который свалил со всей семьей куда-то за границу. Ребят немного смутило, что купец оставил не только мебель и предметы интерьера, но даже целый ворох женской и детской одежды в шкафах.
Впрочем, выбирать не приходилось. Время наступило такое: повезло – уехал, не повезло – сгинул без следа. Зачем думать о чужих бедах, когда своих ешь не хочу.
Мишка сидел на уютной кухоньке, в пляшущем пятне лампы, прикуривал одну за другой папиросу от подрагивающего горячего воздуха над стеклом керосинки и думал.
Мысли путались, перескакивая в ведомом только им порядке, не несущем никаких выводов. Были лишь впечатления, эмоции, смутное ощущение, что спонтанный побег из революционного Питера в революционный Витебск ничего не изменил. Что избежать уготованных роком страданий не удалось. Сменилась лишь декорация, но суть осталась та же: насилие, кавардак, всплывшее в бурлящих вешних водах перемен человеческое дерьмо, заполнившее лакуны власти в самых разных ипостасях и комбинациях. От себя не убежишь. Себя не обманешь. Можно сколько угодно думать, что бежал от проблем, а не просто помчался сломя голову за уезжающей Полиной, ничего от этого не менялось.
– Не спится? Мне тоже… Дурацкий вечер, правда? – Мишка удивленно обнаружил, что Полина сидит на стуле напротив, закутавшись в чужую мохнатую шаль и поджав под себя босые ноги.
– Угу. Подкралась тихо, привидение прямо. Даже испугался.
– Это не я. Сам провалился куда-то. Сидишь такой, смотришь в одну точку. Жуть!
– Ну, знаешь, думать никогда не вредно.
– Ерунда! Слушай сердце, оно никогда не обманет. Зачем усложнять?
– Женская позиция.
– Точно! Но другой у меня нет. Ты любишь Владу? Извини, что так прямо. Можешь не отвечать.
– Нет. Я Владу не люблю.
– А она тебя любит.
– Знаю.
– Жаль. Она хорошая. Лучше меня.
– При чем тут ты? Мы сами как-нибудь разберемся.
– Не-а. Думаешь, не заметно?
– Что?
– Как ты смотришь …Костя прямо дергается, когда ты смотришь на меня. Смешной…
– Кто? Я?
– Не ты. Зубенко. Вчера замуж мне предложил. Вот…
Мишку как будто окатили ушатом холодной воды, папироска вдруг сделалась безвкусной, а в груди медленно начало набухать странное чувство – что-то среднее между злостью и ревностью. Сам того не желая, скорее злясь на себя из-за душевной слабости, чем стараясь укусить Полину словами, ляпнул, чуть не плюнув в ее сторону ядовитой слюной, зло и безрассудно:
– Ну так выходи! Совет да любовь!
Полина напряглась Ее зрачки вдруг по-кошачьи сузились, а губы презрительно сжались в тонкую щель.
– Дурак! У тебя не спросила! Мне казалось, что ты… а ты обыкновенный трус.
Спокойной ночи!
… Красить Мишке нравилось. Монотонная работа позволяла думать над сюжетами новых статей, которые пусть и через пень колоду, туго, но публиковали «Наша нива» и «Витебский курьер». Приятно было, что псевдоним Дядька Михал стал в редакциях синонимом качественного материала. Эх, если б еще прожить на скудные гонорары, было бы совсем хорошо. Впрочем, грех жаловаться. Спасибо Константину. Став начальничком, тот не забыл о товарище, и через комиссара по искусству, чудаковатого художника Шагала, посодействовал с лицензией на покраску фасадов.
Так появился постоянный заработок, который не было стыдно отдавать в общий котел «коммуны», которой зажили питерские беженцы. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хрена с два стронулся бы с места, если б не тот злосчастный случай на питерском балкончике.
… Когда это было? Вечность назад. Конец весны был, что ли? Стоял тогда на балконе, курил, думал. Там, за окном, надрывался Зубенко с гитарой, пел очередную ресторанную чушь. Полина заливисто хохотала. Смех ее вызывал смешанные чувства: радость вперемешку с ревностью. Все так не вовремя, столько работы, не успеваешь за событиями, газеты требуют материал, денег нет, разруха везде, и вот, поди ж ты… накрывает любовь.
Не время. Потом, когда все устаканится, может быть, но не сейчас. Что я могу дать этой смешливой яркой птице? Совместную нищету? Воззвание к крестьянам, которое из рук вон плохо оплачивается? Время, которого хронически не хватает? Если бы подождать… если бы чуть-чуть.
– Ты чудак. Веселись, пока молодой, будь дураком, как твой дружок. А ты – молодой старик. Думал об этом? – Влада мягким движением забрала дымящуюся папироску, зажала ее тонкими губами, жадно втянула в себя дым и сразу закашлялась, бросила тлеющую сигарету на зеленые проплешины городской травы.
– Думал. Так получилось, с самого детства старик и есть. Никогда не чувствовал себя ребенком. Самому странно.
– Ты ей нравишься.
– Знаю.
– И? Не боишься, что этот займет твое место?
– Значит, не судьба.
– Нет судьбы. Если чего-то сильно хочешь, при чем тут?.. Делай все, что возможно и не возможно, тогда и жизнь повернется к тебе праздничной стороной. Судьба для слабаков. Для таких, как ты, как Полина. Вы оба слабые, вам нельзя быть вместе. Пропадете.
– Ага. Понятно. А за тобой как за каменной стеной? Верно я понимаю?
– Хоть бы и так. Полинка увлекающаяся, сегодня ты, завтра Зубенко споет красивую песню, и сама не заметит, как попадет под его очарование. Месмеризм, слышал про такое? Магнетизм, телепатия. Слабые поддаются ей, сильные обладают. А я надежная. Если полюбила, то навсегда! Я так сделаю, что б ему было хорошо со мной.
– А если он… не любит тебя?
– Ничего. Полюбит. К хорошему не надо привыкать, оно сразу нравится. Дай тебе третью руку, сам не заметишь, как начнешь ей пользоваться. Не понимаешь пока. Это же счастье, когда на твоем пути встретится такая… удобная? Да! Удобная! Как мама! Которая покормит, сопли вытрет, белье твое погладит и при этом будет слушать любую твою чушь и таять от любви. Разве это плохо? А страсть, она пройдет с годами. Задумайся, если ты с юности старик. Красота поблекнет, а вздорный характер станет лишь хуже. А я тебя любить буду. Всегда. В бедности, пьяного, несчастного, всеми презираемого. Мало тебе?
– Влада, это что сейчас было? Неужто объяснение в любви?
– Понимай, как хочешь. Совет. Погуляй с Полиной, я не ханжа, главное, что б ты понял, ничего, кроме страдания и проблем там нет. Я умею ждать. Моей любви на двоих нас с лихвой хватит. Вспомни эти слова, когда будет совсем тяжко, вспомни, пожалуйста.
Мишка вздохнул и, опасаясь продолжения щекотливой беседы, начал с поддельным интересом рассматривать группу подгулявших матросов, которые, пьяно галдя и бряцая мосинками, ввалились в парадную на противоположной стороне улицы.
– Смотри-смотри. Чего им надо в купеческом доме?
– Переводишь тему? Не можешь ответить по-мужски? Или оставляешь путь к отступлению?
– Ты отличный друг, Влада. Всех это вполне это устраивает.
– Друг. Друг рядом – это лучше, чем ребенок или капризная игрушка. Ты поймешь. Совет: не стой на балконе, не жуй сопли. Твой Зубенко уже уговорил нас уехать в Витебск, там у него дядька – важный чин в городской управе. Морковный чай кончился, голодно. Мы с Полиной почти решились уехать, вот…
– Что за… А учеба?
– Между учебой и шансом протянуть ноги что бы ты выбрал?
– Так резко все бросить? Почему мне никто не сказал?
– Вот. Я сказала. Потому что хочу видеть тебя рядом. Костя не сказал по понятной причине. Все очень просто.
– А Полина? Как-то странно…
– Полина – ребенок, она всегда выберет того, кто сможет решать за нее.
– Да глупости! Скоро лето. Можно перетерпеть!
Неожиданно вечернюю тишину прорезал тонкий женский крик. Женщина визжала, взрезая вечернюю тишину. Звук ее голоса, тонкий, неестественно механический, напоминал вибрирующую пилу, упершуюся в неподатливый сучок. Каким то первобытным чувством Мишка понял, что в окнах напротив происходит нечто, находящееся за гранью человеческого, по сравнению с чем даже смерть – событие приемлемое и не столь ужасное. Он взглянул на побледневшую Владу, попытался вдохнуть поглубже, чтобы не показать девушке ужас, который парализовал его за доли секунды, но ничего не получилось. Будто завороженный он смотрел, как брызнули стекла в соседнем доме, и из черного проема окна прямо на мостовую вывалилась полуобнаженная девушка лет четырнадцати.
Ее тело тяжело хлопнулось о брусчатку. Не в силах оторвать взгляд, Мишка смотрел и смотрел на неестественно согнутые белые ноги девушки, на бесстыдно подогнутый, медленно намокающий бордовым подол ночнушки.
В окно высунулся один из давешних матросиков. Он басовито заржал и, пьяно куражась, заорал кому-то внутри комнаты:
– Сбегла! Верткая, сучка! Ничо. Придется вам, мамаша!
Влада решительно схватила Мишку за руку и потянула с балкона, горячо шепча ему на ухо:
– Перетерпеть?! Ты думаешь, вот это все можно перетерпеть?! Чего встал? Пулю хочешь, дурень?! Уезжаем! Уезжаем!
… Мишка махал кистью, примотанной проволокой на длинную палку, и думал, как здорово, что они не разбежались по витебским щелям, не зажили каждый сам по себе, а вместе и с большего дружно. Пользовались Костиным завидным пайком с сахаром и тушенкой, Владкиными выручками за шитье и штопку одежды на Сенном рынке. Ну, и Полина, пусть изредка, но что-то вносила в общий котел с выступлений театральной агитбригады. Одним словом, если не шиковать, то жить было можно.
Но главное не относительно сытая жизнь, а то, что в провинциальном Витебске не было массовых чисток, под которые рисковал попасть в Питере любой мало-мальски прилично выглядящий человек.
Мишка вначале удивлялся, когда, болтаясь на лесах, замечал знакомую фигуру очередного университетского преподавателя. Потом перестал, осознав, что от раздрая колыбели революции драпанули в Витебск все, чей интеллигентский вид не вписывался в новые этические представления.
Посвистывая, налегке и не напрягаясь, Мишка домалевывал последние куски облупившейся штукатурки. Настроение было прекрасное. Теперь, после долгих раздумий и сопротивления обожженного опытом ума, он наконец-то решился раскрыться перед Полиной.
«Дурак. Струсил тогда. Стерпел унижение. Но все изменилось. Хватит сопли жевать, встану и скажу перед всеми: «Прости. Все понял. Люблю. Не могу без тебя. Выходи за меня замуж». Время подходящее, день рождения любимой. Праздничный ужин. Пусть эффект и дешевый, главное, чтобы она поняла: я не слюнтяй и готов к самым решительным поступкам».
На праздник Мишка припоздал. Пока оттер липкую краску в теплой двинской воде, пока нашел обожаемые Полиной белые розы, черт-те где, у незнакомой бабки на краю города. Потом долго не мог дождаться конки, две пересадки… В общем, сам не заметил, как вместо запланированного на все про все часа ушло два с лишком.
Он чуть помялся перед дощатыми дверями, прислушиваясь. Судя по редким всплескам девичьего смеха, Костя рассказывал очередной тупой анекдот. Мишка поправил купленную по такому случаю бабочку, огладил лацканы твидового пиджака, пристально осмотрел туфли, чистые ли, и, спрятав полыхающее от волнения лицо в кучу белоснежных бутонов, решительно открыл двери.
– О! Мишка! Где ты запропастился? Садись! Полина, смотри, какие розы! Твои любимые! – захлопотала Влада, переставляя тарелки и освобождая место рядом с собой.
Сердце Мишки вдруг запрыгало, откуда-то появилось ощущение, что за шиворот закинули полное ведро колотого льда. Дыхание сперло, и вымученная долгими раздумьями речь испарилась из головы, как проколотый шарик, оставив свист в ушах и легкое чувство общей ошалелости.
Неловко протиснувшись между шкафом и сидящим Костей, Мишка мельком оценил взглядом празднично одетую Полину, вдохнул запах ее тела, смешанный с ароматом роз, и, смутившись от нахлынувших чувств, неловко ткнул букетом вперед.
– Боже! Какие красивые! Спасибо, Мишка! Ты настоящий друг! – Полина зарылась носиком в бутоны и улыбнулась так широко и радостно, что последние сомнения в собственной решимости у Мишки растворились, и он, все еще обливаясь холодным потом от страха, начал:
– Полина! Дорогая моя Полина… Прости меня за… Да, прости! Ну, за глупость и нерешительность!
Полина засмеялась, словно тысячи серебряных шариков покатились по полу.
– Конечно же, прощаю! Тем более сегодня такой день…
– Да! Такой день! И в твой день рождения я бы хотел тебе признаться…
До сих пор криво улыбающийся Костя напрягся и даже встал со стула. Нервно откручивая пробку от бутылки с шампанским, он деловито, как обычно, по-хамски, перебил товарища:
– Мишаня, отличные цветы! Молодец! Ты давай, присаживайся! Хороший тост. Тем более что у нас тут двойной праздник. Мы с Полей объявляем о помолвке! Сегодня, в этот знаменательный день, она согласилась стать моей женой! Сюрприз! Не ожидали?! Ур-ра!!!
Шампанское громко выстрелило, Мишка покачнулся и осел на стул.
Ему показалось, что злосчастная пробка угодила не в потолок, а пробила сердце, разорвав его пополам, и то, что он все еще жив, – сон и какое-то досадное недоразумение.
Мишка как зачарованный смотрел на плывущие стены, мимолетно отмечая вытянувшееся посерьезневшее лицо Влады, победный блеск в глазах Зубенко, плавную линию изгиба Полининой шеи и ее отчего-то погасший, смущенный взгляд. Стены плыли, приближаясь все ближе и ближе, сжимая со всех сторон и грозя раздавить тело в плоскую лепешку, стол с салатами и нарезками вдруг начал вращаться все быстрее и быстрее, сливаясь в одно большущее разноцветное пятно. Пятно нахлынуло и поглотило Мишку, закружив задыхающееся тело в огромной, стремительно ускоряющейся карусели. Он попытался как-то зацепиться за реальность, но было поздно, карусель выбросила его куда-то в бездну, в холодную черноту падения, еще мгновение – и бывший Мишка Вашкевич схлопнулся в одну темную точку, дрожащую от ужаса, и исчез.
… Десятки тысяч мертвецов стояли ровными рядами. Босые заиндевевшие ноги; мерзлые, щедро присыпанные инеем яблоки глаз; высохшие, примерзшие друг к другу фигуры. Мертвые, мертвые, мертвые… Застывшие в камень женщины, дети, мужчины и старики – стена покойников встала от края до края, превращаясь где-то там, вдалеке, в бугристую линию фиолетового горизонта.
Мишка с ужасом понял, что умер, что здесь, в этом монолите вмерзшей друг в друга людской массы нужно выискать себе местечко и встать тут навеки вечные.
Отчаяние быстро переросло в тупое оцепенение. Мишка брел понуро вдоль страшной полуистлевшей, обветренной, обугленной, искалеченной шеренги, высматривая пустую, свою, нишу. Откуда-то сверху, с продрогшего над покойниками неба донесся знакомый голос:
– Пей, пей, мой хороший… Надо пить. Все будет хорошо.
Вдруг его рот наполнился жидкостью, которая проникла через глотку прямо внутрь живота, согревая, неся с собой жизнь и в то же время запирая дыхание. Он испугался, что сейчас захлебнется, закашлялся, затрясся в конвульсиях, пытаясь исторгнуть из себя проклятый настой. Вдохнул яростно, на разрыв легких, и тут же сжался от страха: какая-то могучая сила выдернула его над толпой и понесла, понесла, ускоряясь куда-то вверх, к сияющему радужному теплу.
– Еще чуть выпей… Эх, ты. Как же так, бедолага мой?
Мишка почувствовал, как что-то течет по подбородку прямо на грудь. Стало неприятно и мокро. Он открыл глаза и обнаружил, что лежит в постели. Прямо над головой маячило круглое лицо Влады. Девушка пыталась напоить его из кружки, теплая вода лилась на исподнее.
– Очнулся! Умница! Слава Богу! Все прошло! – от избытка чувств Влада прильнула к Мишке так крепко, что тот ощутил податливую мягкость ее больших упругих грудей.
Он пошевелил непослушным языком и с трудом вытолкнул изо рта бессвязный набор слов:
– Что? Н-не надо… вода… мокрый… Припадок… Жить… Хочется…
Влада вдруг заплакала, Мишка поморщился, на его лицо закапали мелкие капли слез, а уже через мгновение они исчезли под горячими Владкиными поцелуями.
– Родной мой! Любимый! Мне ничего не надо, только живи. Любимый мой. Что я без тебя? Собакой твоей буду… не гони. Все, что хочешь, для тебя… Мишенька…
Не чувствуя сопротивления, Мишка мял колышущиеся над ним груди, чувствуя, как горячая волна переполняет его тело, заставляя вибрировать и оживать еще пару мгновений назад умирающие клетки. Мягкая податливость женского тела, вжавшегося в него в отчаянном стремлении слиться и стать одним целым, пробудила в душе что-то древнее. Мишка почти без усилий, с долей злорадства, погасил остатки благоразумия – будь, что будет – и поплыл, поплыл… уносясь все дальше и дальше, не думая, наслаждаясь моментом обоюдного растворения в извечном потоке жизни.
* * *
Тимофей Ильич Лаевский, переживший вместе с полком голодную зиму, чувствовал себя заправским воякой. Возможность мановением пальца решать судьбы солдатиков придавала армейскому быту определенную пикантность, о которой и не смелось мечтать в суете штабных интриг.
Тимофей Ильич отрастил окладистую бороду и стал мнить себя стратегом, этаким заматеревшим в боях «слугой царю, отцом солдатам». Откуда-то прорезался командный голос, а место прежних робких и просительных интонаций заняло разухабистое «Молчать!».
Новый образ до жути нравился полковнику, что отразилось в письмах обожаемой Августине Карловне. Тимофей Ильич недвусмысленно намекал, что нрав на войне меняется, снося ненужную шелуху с характера, вытаскивая наружу первобытное и настоящее. «… Дорогуша вы моя, Августина Карловна, где вы привыкли видеть мою мягкость и рассудительность, под воздействием критических обстоятельств обнаружилась холодная стальная воля. Богом данный мне путь, благородную миссию по защите нашего Отечества несу с кротостью агнца, сражаясь с супостатом с яростию сущего льва».


