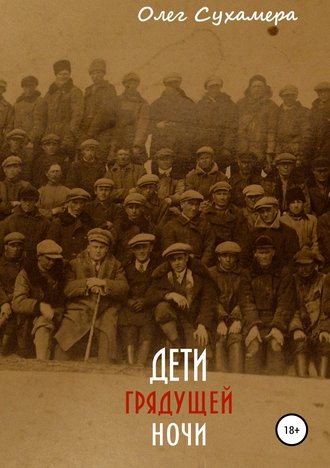
Олег Сухамера
Дети грядущей ночи
Посреди подвала, почти до самого потолка, громоздилась огромная куча человеческих тел, кое-как прикрытых ставшим почти черным от многочисленных пятен крови, заскорузлым брезентовым полотном.
Это уже были не отдельные трупы людей.
Куча, сплетаясь руками и ногами в нечто единое, презревшее пол, возраст, социальное положение, напоминала огромный лесной выворотень, выпятивший бесстыдно свои доныне спрятанные под землей, спутавшиеся в клубок, обвисшие белесые корневища-руки; но хищный, готовый в любой момент жадно поглотить новый материал для своего страшного роста.
Мишка чувствовал, как мозг, будто издыхающая от перенапряжения электрическая лампочка, вспышками выхватывает кадры дьявольского синематографа.
Щелк – рыжая, аккуратно перехваченная атласной лентой, тонкая, как крысиный хвостик, гимназическая косичка, торчащая из черного месива головы. Щелк – гипсовая, идеальная женская фигура с бесстыдно разбросанными в стороны ногами. Темнота. Вновь – вспышка – и страшное: ладонь, беспомощно сжимающая раздавленные очочки в модной красной бакелитовой оправе, вывернувшаяся откуда-то из-под чужого раздувшегося, пошедшего трупными пятнами тела.
Мишка поплыл, теряя сознание. Мозг засверлил почти явственный голос владельца очочков: «Господи. ГОСПОДИ!» Слышать эту застрявшую заезженной пластинкой мольбу соседа-доктора было невыносимо. Мишка зажал руками уши, чтобы не слышать, как внутри него, наплевав на его свободную волю, вырываясь наружу, кто –то чужой и незнакомый истерически вопит.
– Я… я все понял. Я уеду! Отпустите меня, пожалуйста! – ноги Мишки подогнулись, и он кулем обвалился вниз, прижался мокрой от слез щекой к чужим, пахнущим скипидаром и кровью яловым сапогам. Ему так страстно захотелось жить хотя бы для того, чтобы дышать этим вонючим воздухом, быть униженным, раздавленным, но теплым, живым, что он обнял, ухватился за чужие сапоги, как за спасительный круг, рыдая взахлеб:
– Я… больше не буду! Отпусти…
– те
ме-ня
пожа-луйста!!!
* * *
– Тише-тише… – ладонь Миры мягко прикрыла рот Стаса.
Затаив дыхание, он думал, как странно, откуда и каким образом оказалась на нем эта обнаженная, текущая струйками горячего пота, мягкая, жаркая женщина? Как так вышло, что вот сейчас прямо над его носом упруго колышутся эти груди?
Булат пытался всмотреться в ее полузакрытые от вожделения глаза, надеясь найти ответ в ее взгляде, но лицо Миры пряталось за спутанными мокрыми волосами, и вопросы так и остались вопросами.
Дышать сквозь тесно прижатую к губам ладошку не выходило, Стас попробовал втянуть воздух сквозь ноздри – ничего.
Чувствуя, что вот-вот задохнется, он попытался освободить руки из-под округлых елозящих по нему бедер женщины, но не тут-то было. Руки не слушались, словно омертвели и налились чугуном. Булат дернулся, пытаясь извернуться как-то, чтобы сбросить эту навалившуюся, трясущуюся в сладких конвульсиях самку, не признающую здесь и сейчас никого и ничего, кроме собственной похоти. Только Мира была в сотню раз тяжелее и сильнее, чем можно было бы представить. Стас закричал, но получилось только зашипеть, выдавив из легких последние остатки драгоценного воздуха. Мира же, будто почуяв предсмертную агонию, ускорилась, впечатывая его в постель резкими движениями.
С ужасом осознав, что сдохнет сейчас так глупо, так постыдно для воина, в постели, да еще под извивающейся озабоченной женщиной, Стас что было силы впился зубами в запершую дыхание ладонь, пытаясь выгрызть свое право на глоток воздуха. Мира лишь захохотала, будто боль раззадорила ее, и сладко выгнулась назад, отбрасывая с лица пряди длинных пропитанных потом волос. Булат обмер. Увиденное не помещалось в воображении. Вместо лица у стонущей в оргазме женщины была все та же гладкая, покрытая мелкими пупырышками и легким пушком, как на ее плоском животике, кожа. Запаниковав впервые в жизни, Булат выдернулся из-под страшной безликой твари, теперь лишь отдаленно напоминающей его возлюбленную. Заглотил спасительный воздух и тут же, со слизью и болью исторгнув его из легких, заорал.
И проснулся.
– Тише-тише. Что ж так орешь, батька? – расплывчатая тень у изголовья сгустилась и приняла очертания Войцеха. Булат задышал с наслаждением, часто, жадно. Боец заулыбался всей своей хитрой рожей. Был он в исподнем и, судя по худобе, черным кругам под глазами и торчащим клочьям на обкорнанной наспех голове, только начал поправляться от серьезной болячки.
– Вот и чудо. Слава те Господи. Выкарабкался. Не чаяли уже. Фелдшер еще третьего дня говорил «не жилец», а поди ж ты. Организм, значить! Великое дело. Тифозная вша не выбирает. Эпидемья, однако. Да… надо ж как угораздило… Водички?
– Угу, – попробовал улыбнуться Стас.
Тут же у губ образовалась серая жестяная кружка с чистой колодезной водой. Пил жадно, ощущая, как с каждым глотком вливается внутрь капелька силы. С трудом оторвавшись от холодной влаги, Стас повел глазом, осматриваясь. Глядя на покрашенную белой известью мебель, понял, что находились они в импровизированном полковом лазарете.
– Войцех.
– Ну? Вашбро… тьху ты, товарищ командир.
– Давно я тут?
– Дней девять. Такие дела. Грешным делом думали, мерку снимать придется. За неделю душ десять из полка оградкой обросли. Я ж брату вашему так и сказал: не допущу, чтоб командир мой боевой там без меня сгинул. Сказать по правде, так и сбег. Как думаешь, батька, мне за дезертирство расстрел полагается?
Не дождавшись ответа, Войцех почесал кое-как остриженную голову и горестно вздохнул:
– Приехал, чую, худо мне тож. Озноб. Далее помню плохо. Сам вот чуть не сгорел. Дело известное – эпидемья! Дохтур меня к вашбродию, тьху ты, к вам, короче, не хотел пущать. А я ему: «зараза к заразе не липнет!» Резонно, говорит. На том и порешили. Скажем прямо, уговорил коновала нашего на том, что желаю, чтоб друга моего сердечного в последний путь самолично проводить. Не серчай, Булат.
– А полк? Тут? Где?
– Ну, такое дело, значит… – Войцех неуклюже попробовал соскочить с неприятной для него темы. – Навару? Мигом соображу! Курица по двору шастает. Наглая такая, давно пора с ней это самое… в щи!
– Полк! Мой. Где… Командование. Кто?
– Вот любишь ты, батька, в нахрап, аллюр три креста. Где-где… в этой самой… тута! Рядом! Недалеча, верст сто. Мира твоя всем заправляет. Командир-то при смерти, вот и взяла поводья в свои лапки! Приказ, грит, с самого верху. Ох, ну, давай писать губерния! На деревенских батарею развернули …что б им… Постами и разъездами всю гмину оцепила! Мышь не проскочит. Поля с пшеницей жечь закомандовала. Говорит, подождем, когда крестьяне с голоду дохнуть начнут. Небось, говорит, пусть думают впредь, как супротив Советов бузотерить. Темные силы бунтуют, грит, против нашей власти рабочих и крестьян. Без жалости, со всей пролетарской ненавистью душить эту собственническую гидру. А чтоб совсем веселей было, мать ее, заложников понабрала! Детей да баб! И ультиматум им, срок два дни, чтоб главные повстанцы самолично в плен посдавались. Сука. Не вовремя ты, Булат, хворать вздумал, ох, как не в дугу!
– А Сергей?
– Комотряда? Что он? Как теля возле мамки, бают, куды титька, туды и он! С ума рехнулся. Я так мыслю, комиссарша наша ведьма поди. Тебя вона и других… Таких бравых вояк охомутала. Тут без колдовства никак. Не обижайся, товарищ командир, но такие слухи давно по полку ветер носит.
Стас поджал губы, новости ранили прямо в сердце. Самое обидное, что прав был этот бесхитростный, преданный ему до мозга костей, друг. Сказал, как нарыв вскрыл. Зачаровала чертова баба. Сладостью своей как подпоила, заставляя думать только о ней.
Вот и сейчас проклятый чертик сомнения, подселенный ведьмой, зашевелился в еще не совсем ясном сознании.
Нет, не о мерзкой карательной экспедиции стучал он острым молоточком в темя. Первая мысль была о ней. «Как же так? Почему не проведала? С кем она? Только ли с братом? А что, если еще с кем?»
Войцех, как будто прочитав по лицу командирские думки, тяжко вздохнул.
– Брось ее, батька. Плюнь да разотри. Думаешь, только твоя? Как бы не так. Мужики они хуже баб языками чешут порой. Давеча пулеметчик Жовнерович хвастался, как комиссаршу на сеновале драл. Мишка Батон, ну, тот, который по байкам спец, тоже такое с ней замутил, что слушать стыдно было, право слово… а казаки, которые свояки, Михеевы которые, те так вообще… эх, шлюха, одно слово.
– Закрой пасть. Достаточно! – Стас вскочил с постели, но тут же покачнулся и едва не упал обратно, ноги были чужими и отказывались держать иссушенное тифом тело.
Стас не сдался, схватившись руками за спинку кровати, кое-как выпрямился и, застыв натянутой струной, скривив брови в болезненной гримасе, железным, не терпящим возражений тоном, приказал:
– Поехали. Форму тащи. Форма где?!
– Знамо где. Спалилася вместе с моей.
– Разыщи, братка, одежду и транспорт. Мне в полк надо. Срочно…
– Да как же… батька? Ты ж мертвый, почти…
– Боец! Мне повторить? – голос Стаса был тих, но от того не менее страшен.
Войцех быстро кивнул клочковатой башкой, да и выскочил пробкой, как будто какая-то неведомая сила выперла его из лазарета.
* * *
Проснулся Васька от того, что отлежал руку. Попробовал пошевелить ставшей будто чужой конечностью, но куда там, рука не слушалась. Пытался и так и сяк, но проклятая правая рука была ватной и совершенно не подчинялась. Ваське ничего не оставалось, как взять и, осторожно согнув в локте, положить лентяйку на грудь.
Полежав с полминуты и покумекав над странностью, Васька решил, что виной всему вчерашняя самогонка и что пора как-то завязывать с этим делом. Вслед за угрызениями совести в память незваным гостем проникли воспоминания сегодняшней страшной ночи. Мысли были тяжелыми, как жернова, и безрадостными, как похороны близкого. Мельтешили они в Васькиной чугунной башке произвольно, как вихрь из холодных снежинок, перескакивали с события на событие, путаясь, заставляя ежиться в жутком недоумении « как так могло выйти-то?». Васька попытался уловить какую-то логику и последовательность роящихся страшных картинок, но быстрый доселе мозг будто взбесился, не только отказываясь давать оценку, но и осмысливать произошедшее. Все еще ничего не соображая, сетуя на проклятую руку, решил встать, чтобы опорожнить переполненный мочой пузырь, да только не тут-то было: правая нога тоже была чужой. Чувствуя, как липкий страх расползается по телу, он снова и снова, настойчиво, как заведенный, пытался приподняться с тахты, но не мог даже сдвинуться с места: половина туловища стала неудобным, тянущим книзу мертвым куском мяса. Страх рос, множился, стучал в виски и хватал за горло жесткой волчьей хваткой. Не в силах справиться с ним, почувствовав себя беспомощным и маленьким, Васька залился слезами, заорал что было мочи то единственное слово, которое приходит в те самые мгновения, когда с ужасом осознается, что все прежнее существование исчезло, рассыпалось и расползлось по швам, оставив после себя отныне никому не нужную пустую шелуху воспоминаний:
– Мама! Ма-моч-ка! МАМА! АААА!!! – вопил Васька, в сотый раз пытаясь приподняться, чтобы стряхнуть с себя невидимые оковы. Но искусанные в кровь губы почему-то бубнили дурацкое: «Та-та-та-тата. ТАТАТА-тата!!!! Млять…»
Васька орал и дергался, ссать хотелось невыносимо. Ему показалось на мгновение, что еще чуть-чуть – и подпершая снизу жидкость вырвется наружу, пробив пульсирующим напором хрупкую крышку черепа. Задница вдруг стала мокрой, Васька почти обрадовался, почуяв, как потекла под спину теплая жидкость, принеся долгожданное облегчение.
– Тататата! – выругался Васька.
Скрипнули половицы, на шум в комнату зашла полуодетая Софья.
Женщина втянула воздух ноздрями и брезгливо поморщилась, неодобрительно рассматривая растекающуюся по полу зловонную лужу.
– Опять нажрался, что ли? А? Зятек дорогой…
– Пошла ты на хер, старая дура! Не твое собачье дело, коза тупорогая!!! – сказал, как плюнул в физиономию тещи, Каплицын и с ужасом услышал, как идиотский язык старательно выстукивает вместо тирады все ту же пулеметную трель: тататтата! Тататататата!!!
Софья, пока не веря собственным ушам, перекрестилась. Потом, всмотревшись в выпученные от ужаса глаза и съехавшую набок Васькину рожу, зло сплюнула прямо на пол перед тахтой.
– Удар, что ли? Ох ты, батюшки святы, – перекрестилась Софья. – Точно он! Ну… слава те Господи! Услышал мои молитвы…
– Тататтататата!!! Та-та! Млять!!! – в бессильной злобе зарыдал Васька.
* * *
Телега ерзала по раскисшей дороге, то и дело пытаясь соскользнуть деревянными ободьями колес в топкую, заполненную грязной осенней жижей, колею.
Стас подоткнул себе под бок ком ароматного сена и старался смотреть в свинцовое небо да на спину своего спутника, Войцеха, выряженного, как и он сам, в лохмотья, в то, что удалось найти. Войцех, почуяв взгляд, обернулся и, будто прочитав мысли товарища, заметил:
– Да… видок у тебя, батька. Хотя… Беглецу все к лицу.
Стас глянул на свои прохудившиеся на коленях парусиновые портки и усмехнулся недавним воспоминаниям. Идиот доктор, видимо, испугавшись расстрела, грудью встал, не давая уехать недолеченному командиру. «Одно дело, если вы тут помрете! А совсем другое, если узнают, что я вас отпустил! Пожалейте, Христа ради, у меня дети…»
Вот так и вышло, что бравый краском выглядит, как жабрак: ноги босые и грязные, на лице рыжая двухнедельная щетина. «Ничего-ничего, вымоемся-поскоблимся, нам бы только до штаба добраться».
Как ни отводил Стас глаза от окрестных пейзажей, но проклятый глаз все ж цеплялся то за иссине-черный выжженный горизонт полей, то за ряды обугленных печных труб, грозящих несправедливым небесам укоризненными черными перстами. «Клятая баба. Палит деревни. Дорвалась до власти, чертовка. Точно, ведьма. Или не ведает, что творит?»
За грустными раздумьями, под мерный топот клячи и недовольное ноканье Войцеха, незаметно подкрался вечер. Решили проехать еще пару верст и, соорудив костер, расположиться на ночлег. Рассудили по-простому, что пусть по темени и не езда, но поспать на пустое брюхо особо не получится, так что остановка в большей степени предназначалась для недовольно фыркающей кобылы, чем для двоих изможденных хворью беглецов.
У костра их нашел полковой разъезд.
Четверо всадников на фоне фиолетового неба выглядели жутковато, но Войцех – доверчивая душа – вскочил и, замахав шапкой, сам позвал ехавших служивых к замаскированному по фронтовой привычке огнищу.
– Эгей! Ребяты! Давай сюда! Мальцы, мы тут!
Стас оценил, как вояки, прежде чем двинуться в сторону голоса, ловко сдернули винтовки со спин, и подъезжали, развернув коней со стороны подлеска, растворившись таким образом во тьме и став невидимками.
– Эгей, парни, с какого взвода? – весело кричал в темноту Войцех. Стас же, списав беспечность друга на последствия болезни, встал с кучи постеленного на землю сена, покачиваясь, почувствовав в очередной раз, что ноги ослабли и не держат.
– Тут сам батька Булат! Не ожидали? Командир наш!
Неожиданно прямо перед носом у припрыгивающего, радостно машущего лохмотьями бойца всплыли из воздуха черные фигуры всадников, которые молча закружились вокруг Войцеха зловещей сжимающейся спиралью. Слышен был лишь храп коней да чмяканье копыт по отсырелой земле. Войцех, явно струхнув от странного молчания, нарочито бодро проорал, чтобы показать хмурым служивым, что он свой, и пугать его – только время тратить.
– Бойцы, а ну спешились! Свои мы! Вон – батька Булат! Я с особого отряда… Как там наш полк? А, братки?
– Рожей ты не вышел, сиволапый, чтоб братом нам быть, – пробасила одна из фигур, и уже через секунду Стас вздрогнул, увидев, как Войцех бахнулся оземь разбитым от удара приклада лицом.
– Стоять! – что было сил гаркнул Стас, чувствуя, что они вляпались в непоправимое. – Доложите комиссару Руднянской! К ней люди с важными вестями!
– Где люди? – гоготнул один из кавалеристов. – Ты, что ли, люди, рожа лапотная? Шкилет, ты батьку Булата хоть издаля-то видал когда?! Га-га-гага!
Стас услышал характерный свист нагайки, попытался было увернуться, но жгучая боль уже вспышкой залила лицо. Прикрыв глаза руками, изо всех сил стараясь не упасть и не дать хмурым всадниками войти во вкус крови, Стас подергивался под резкими ударами нагаек. Он скрипел зубами, чувствуя, как по лопаткам сочится кровь из распоротой кожи, постанывал, не подавая виду, что больно, но не падал, понимая, что упасть сейчас означает смерть для него и валяющегося без чувств Войцеха.
– Доло-жи-ть! Комисс-ару Руд-нянс-кой Ми-ре… Важно!
Сознание плыло, терпеть раздирающий плоть свист становилось все туже, но Булат держался, позволив себе соскользнуть в беспамятство, чтобы упасть, услышав спасительное:
– Досыть, братва. А вдруг всамделе чо важное?
… Прошла всего неделя с тех пор, как еле шевелящихся Булата и Войцеха сбросили с телеги в натоптанную сотнями ног жирную грязь, огороженного колючей проволокой периметра полевого лагеря, а Булат уже смог ходить. Раны, исполосовавшие спину, подсохли, но, заживая, зудели нещадно, отчего Стас постоянно играл желваками и морщился, с трудом справляясь с неистовым желанием разодрать ногтями эту осточертевшую, чешущуюся до помрачения мозга, кожу.
Пытаясь отвлечься от болячек, он наблюдал за окружением, отмечая про себя на будущее караульные смены, каждые четыре часа заступавшие на охрану импровизированного лагеря, в котором было собрано сотни полторы крестьян и хозяев с ближайших, оцепленных полком – моим полком, горько думал в такие моменты Стас – окрестностей.
Народ в лагере маялся разный. В основном это были крепкие мужички до сорока, которых арестовали только потому, что они могли участвовать в бунте, полыхнувшем нежданно и свалившем молодую народную власть почти в половине губернии. Были тут и бабы с детишками, и старухи – все в основном семьи ставших известными каким-то макаром бунтовщиков.
Люди сидели в грязи кучками, распределившись землячествами, там же и делили скудный паек, состоящий из гнилой картошки и заплесневелых зерен, беседовали, вспоминая лучшие дни, плакали в ожидании своей незавидной доли заложников.
Булата с плохо передвигающимся от травмы головы товарищем крестьяне сторонились, считая тех «придурошными», полагаясь на давнее крестьянское правило не доверять чужакам, а близким доверять, но семь раз проверять. По этой же причине первые дни не пробиться было к чанам с едой, которую раз в день выставляли за колючку молчаливые красногвардейцы.
На третий день бесплодного толкания локтями с толпой звереющих с голода людей, справедливо рассудив, что сдохнуть вот так было бы глупо, Стас и еле живой Войцех все ж смогли навешать жестких тычек и лещей самым здоровым и горлапанистым мужикам, оборонявшим баки с едой, отстояв свое право на скудную пайку.
Бежать решили сразу же, тем более что для искушенных разъездами по немецким тылам вояк в этом особой сложности не было, но подвели ноги Войцеха, которые поначалу не особо слушались, то и дело подгибаясь и заставляя бравого кавалериста падать. Решили подождать и восстановиться, а уж потом предпринимать решительные шаги.
У Войцеха поначалу бродили дурные мысли объяснить родным сослуживцам, что перед ними не обросший рыжей щетиной доходяга с торчащими ребрами, а тот самый легендарный батька Булат, их родной командир. Он даже попробовал было заикнуться об этом Башмаку, деревенскому доброму увальню из охраны. Тот лишь укоризненно кивал головой, вроде бы слушая Войцеховский бред, но уже через пару дней покрутил у виска – рехнулся с голодухи, бедняга, что ли, – дав пошатывающемуся болтуну щедрого пинка под зад. Кувыркнувшийся в зловонную жижу Войцех сплюнул презрительно вслед бугаю – эх, ты, дурень, мог бы героем стать, – принял наконец-то их дурацкое бедственное положение как данность и унялся, отдавшись всей беспокойной душой делу предстоящего побега.
Ночи стали совсем холодными, в лагере появились первые замерзшие насмерть. В основном это были старики и дети, но Стас понимал, что если ничего не предпринять в ближайшие дни, то и их с Войцехом гибель всего лишь дело времени. На полусгнившей картошке, которой никогда не было досыта, без теплой одежды и возможности просушиться сгинуть было так же просто, как высморкаться.
Порешили сбежать через сутки, когда в наряд заступит смена Башмака, предпочитавшего не утруждать себя ночными обходами забора из колючей проволоки, а мирно посапывать на чурбаке, закутавшись с головой в добрую войлочную шинель. Штурмовать колючку тихо, настелив на нее заранее припасенное тряпье, по которому пролезть через шипы не представляло особого труда. Дело осложнялось лишь тем, что охрана была готова к таким фокусам и стреляла метко и без предупреждения. Трупы прошлых смельчаков смердели тут же недалеко, в канаве, в поле видимости пленников, отбивая у мужичья всякое желание предпринимать что-либо для своего освобождения.
Лагерный люд, включив вековую рассудительность, думал «абы не было хуже», поэтому идею смести охрану организованным бунтом Булат отбросил почти сразу же, как заведомо обреченную на провал. Тем более что доносительство и всякого рода кляузы расцвели среди истощенных и запуганных людей-теней, измученных холодом и замкнутым пространством, пышным цветом плесени.
В день побега случилось странное. По группкам землячеств выдали большие армейские котлы, а к ним в придачу запас дров на пару добрых костров и крупу сечку! Мужички и бабы толпились у скудного пламени, протягивая навстречу теплу заскорузлые ладони, щерились улыбками на серых лицах и наивно щебетали: «… Вона оно что! Может, немец поджал краснопузых? Скоро! Скоро по домам!» Однако, Башмак, раздавая усиленную пайку, обмолвился:
– Жрите-грейтесь, граждане контрики, чтоб вид у всех к прибытию комиссии был бравый! И не дай Бог какая падла посмеет пожалиться нашему командарму товарищу Гвоздеву! Вон тот чурбак видите? Не пожалею, сразу по отъезду проверяющего дурную головенку и отхвачу разом с поганым языком!
* * *
(1942)
Чертовы воспоминания. Сколько их… И так мало счастливых, хороших. Станислав так и не уснул до утра. Бессознательно почесывая шрам от нагайки, протянувшийся через весь лоб, слушал, как трескаются и стонут ели от жуткого мороза, пришедшего в этом страшном сорок втором, вздрагивал, маялся. Ходил, меряя шагами землянку, ставшую родным домом, курил, скрипел зубами, пытаясь найти себе оправдание, мысленно разговаривал с братом.
«Вот как вышло, Сергей. Думаешь, не шевелится во мне ничего? Как так вышло, что ты упырем стал? Или я тоже? С какого момента? Когда твои молодчики пошли на погромы, а ты их покрывал? Или когда предал меня, отвернувшись, ради любви своей. А я ведь тоже любил Миру. Жарче ее и не было никого, пожалуй. Только одна разница между нами, брат, я б ради тебя наступил своей любви на горло, а ты… Господь тебе судья. Стал Призраком, в царство теней тебе и дорога. А что повесить тебя велел, не серчай, это я не только тебя, это я себя рядом с тобой повешу, все остатки человеческого в себе. Урок будет для всех. И для меня в первую очередь.
Не волнуйся, Сережа, матери ничего не скажу, пусть и Мишка, и Ганна думают, что сгинул ты геройски, в бою. Чего молчишь? Почему не погиб в перестрелке с моими?! Сам и виноват. Говоришь, кровь твоя будет сниться по ночам? Сам знаю. Только я и так почти не сплю. Как волк загнанный. Справа – враг, слева – враг. Прибиться не получилось ни к какому берегу. А ведь хотелось за правду, за волю народную. Вона как вышло. И те и другие иудой кличут. За спиной, конечно. В глаза батьке Булату такого никто не рискнет сказать…»
– Батька… – из-под войлочного полога, висящего на двери, высунулась голова Войцеха. – Не спишь? Тут такое дело…
– Заходи, – коротко бросил Станислав.
Войцех втиснулся в помещение и, виновато пряча глаза, забубнил:
– Батька, отмени приказ! Такое дело, моя вина! Нельзя Сергея вешать!
– Говори ясно. Чего сопли жуешь?
– Бойцы мои промеж собой гутарили. Хорошо, я ухо приклеил. Они утром хотели донести. Ну, не идиоты ли?
– Ты так и собираешься кота за хвост тянуть? Что говорили?!
– Бабу раненую нашли. На вылазке. Когда Призрака громили. При смерти. Плакала, говорят. Просила, чтоб передали дочке, что погибла геройски. Радистка из Москвы. Клава. Вот. Похоронили по-человечески. Хорошая девка была. Светлая. Царствие небесное. Мой грех. Жалко ее… Тут на фото она, сзади – адрес.
Войцех вытянул из-за пазухи помятую фотокарточку и осторожно положил перед Булатом. Стас вперился взглядом в курносое счастливое лицо простушки, одетой в ситцевое набивное платьишко, ласково прижимающей к щеке головку младенца в кружевном чепчике.
– Из какой Москвы? У Призрака? Ты чего, с ума съехал, или как?
– В том и закавыка. Детдомовка она. В Бога верила. Помирая, исповедалась перед нашими, по обычаям христианским. Попов потому что в лесу нетути. Короче говоря, диверсанты они были. Сергей – старший группы. Призрака пару месяцев тому вырезали аккуратно. Он за счет немчуры тут, оказывается, бедокурил. Чтоб на местных страх наводить. Вот у Сергея и была задача на немецких харчах да патронах объединить разрозненные группы партизанские. А тут мы, мать иху! Мы ж думали, гада громим! Дак кто ж знал, батька?!
– Ч-черт! Побежали!
– Куды?
– Туды! – взвился Булат. – Сергея из ямы выволочь надо!
– Не спеши, батька. Тут такое дело… Войцех тяжко вздохнул и повинно опустил голову.
С края ямы тело Сергея выглядело маленьким и почти незаметным. Наросший за ночь иней размыл контуры фигуры, и непонятно было, где заканчиваются раскинутые широко руки покойного, а где начинаются обледенелые обнаженные стараниями людей корни сосен.
Станислав сглотнул горький комок в горле, ему хотелось отвернуться и не смотреть на эти побелевшие от холода почти фиолетовые глаза, бессмысленно и оттого еще более страшно глядящие в ночное небо.
Булат высоко вздернул подбородок, скривил губы, словно делая безмолвный вызов низкому зимнему небу, и нехотя, принуждая себя, прошептал так, чтобы было слышно только ему и, может быть, не успевшей отлететь от своего временного пристанища душе Сергея:
– Прости, брат.
На ухо засипел севший вдруг голос Войцеха.
– Батька, что с Сергеем? Тут похороним? Или как?
– Гроб скажи, чтоб сколотили. Телегу. Повезу сам. На кладбище к нам.
– Станислав Янович! Ты чего?! В Перебродье? Там же немцы, на сто верст вокруг.
– Приказ слышал?
– Есть! Сделаем в лучшем виде! Но…
Станислав, так и не дослушав гневную тираду верного товарища, молча развернулся и, согнув спину, будто с тяжеленным тюком на плечах, пошел в лес, не обращая внимания на хлещущие по лицу мохнатые от инея еловые лапы. Через пару минут зацепился валенком за палку, некстати спрятавшуюся под снегом, упал лицом в колкую застылую массу, попытался было подняться, но тут же обмяк от неожиданной боли, словно горячий расплавленный свинец кто-то плеснул внутрь, прямо в легкие. Он попытался вдохнуть, и это ему пусть с трудом, но удалось сделать, но вот несчастье, из свежего морозного воздуха вдруг исчез кислород. Станислав задышал чаще и глубже, пытаясь не задохнуться, но, поняв, что все бесполезно и проклятая боль теперь властвует над ним безраздельно, расслабился. Прежде чем раствориться в застившем сознание белесом тумане, Булат, выплевывая пену, невесть как забившую рот, яростно хрипел, клокоча неистово в лицо кому-то невидимому:
– Брат! Это я, Стась! Брат… это я. Я не умер… Мира! Сергей!
Булат краем сознания еще слышал громогласный хруст снега и топот бегущего к нему со всех ног Войцеха, но был он уже не здесь, не в этом промороженном насквозь лесу, а там – в тоскливой слякоти осени, повернувшей налаженную жизнь красного командира в чужое русло беспощадного и страшного для красных, белых, немцев и поляков, батьки Булата.
* * *
Мужики сгрудились в метре от проволоки плотной толпой, не рискуя подойти ближе, чтобы не получить пулю от особо не рассуждающих в таких случаях охранников. Задние тянули тощие шеи, пытаясь увидеть, что творится там, за плотными рядами серых спин. А посмотреть было на что. Судя по дырдырканью и реву, прямо в расположение лагерной охраны прибыл настоящий автомобиль.
Стас, заступить путь которому никто не рискнул, стоял у колючки и с интересом наблюдал, кого ж там принесла нелегкая в лаковом чреве нещадно чадящей вонючим дымом заморской машины. Он понимал, что скорее всего это и есть командарм. Кого еще может привезти дорогостоящий диковинный агрегат? А если сам товарищ Гвоздев пожаловал в лагерь, созданный (по слухам) по его личному указанию, то вероятность, что сопровождать его будет исполняющая обязанности командира полка Мира, была близка к ста процентам.
Чуйка не подвела Булата. Вслед за затянутым в кожу невысоким человеком с кривыми ногами и пронзительным взглядом черных, как уголь, глаз, из машины вылезла Мира, одетая в странного вида шинель с голубыми погонами через всю грудь, с красовавшимся на ней новым муаровым бантом, посредине которого сверкал новенький орден.
Сердце Булата замерло. В самой осанке Миры он разглядел нечто новое, она будто стала на два вершка выше, а взгляд стал жестким и властным, что, впрочем, придавало ей шарм недоступности и величия. Не смотря на изможденное состояние, Булат с удивлением отметил, что чары комиссарши не ведают границ и расстояний. Он по-прежнему мечтал, неистово хотел раствориться в этой женщине, чтобы снова покорить ее холодную надменную красоту.
Пока бойцы сопровождения расстилали в грязи перед черным человеком бордовую дорожку, у Миры спешился Сергей.
Что-то кольнуло в сердце Булата: по тому, как брат улыбался, как нежно придержал Миру за локоток, было понятно, что у этой парочки все по-прежнему хорошо, что о его существовании ветреная красотка вряд ли вспоминала, купаясь в лучах власти и своем нынешнем положении.
– Булат! Ну! Чо там? – хрипел из задних рядов Войцех.
– Ничего! Потерпи чутка. Скоро сам увидишь, – жестко откликнулся Стас.
Товарищ Гвоздев, о чем-то по-приятельски щебеча с Сергеем и Мирой, не обращая внимания на подобострастные взгляды подчиненных, вышагивал по дорожке в направлении огороженной территории. По брезгливым указующим жестам и полупоклонам начальника охраны Булат понял, что командарм делает рутинный втык, призванный по большей части придать подчиненным необходимое служебное рвение, чем устранить недочеты.
Тройка проверяющих подошла совсем близко. Товарищ Гвоздев, придерживая у носа белоснежный шелковый платок, вяло интересовался у Миры:


