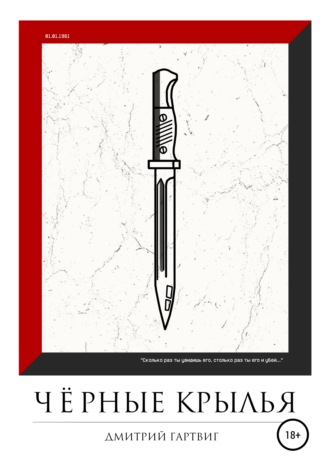
Дмитрий Гартвиг
Чёрные крылья
– А он получал? – с интересом спросил Джеймс, переставая грызть меня своим волчьим взглядом.
– Нет, конечно, – пожал плечами Алеутов. – Но в этом безумном мире всё возможно, так ведь?..
– Про склады ты загнул, Саша, – подал голос Жуков, до тех пор молчаливо следивший за перепалкой. – Склады в ведении Наркомата обороны были, ОГПУ к ним никакого отношения не имело. Логичнее тогда уж было посмотреть там резервные заначки Гражданской обороны или самого Управления. Но это всё, конечно, бред. Такие важные объекты в большинстве своём давно под контролем немцев. Разграблены, а их содержимое давным-давно вывезено в Германию, где до сих пор пылится, безнадёжно устаревая.
– Гриша, – неожиданно обратился ко мне верховный маршал. – Подай-ка мне эти документы.
Мне ничего не оставалось, кроме как выполнить просьбу. Я перегнулся через весь стол и подал Жукову конверт. Избавившись, наконец, от разорванной обёртки, верховный маршал внимательно изучал документы, особое внимание уделяя нижней части листа, подолгу останавливаясь на ней глазами. Осмотрев все листы, он отложил их в сторону и, прикрыв ладонью, вынес вердикт:
– Документы настоящие.
– Как вы это поняли? – деловито и цепко уточнил Джеймс.
– Могу я… – попросил Алеутов, телом потянувшись к бумагам. Жуков лениво их ему протянул. Глава разведки пробежался по ним глазами, так же уставившись на нижнюю часть листа.
– Печати вроде настоящие, – вынес он свой вердикт.
– Они и есть настоящие, – согласился с ним Георгий Константинович. – Как и подписи тех лиц, что их ставили. Некоторых я знал лично. Агранова[1], например. Яков Саулович был порядочной сволочью на самом деле, но чекистом был превосходным.
– Агранов… – задумчиво произнёс Алеутов, потирая пальцами подбородок. – Это не тот, случайно, который дело Промпартии[2] вёл?
– Тот, тот, – подтвердил Жуков. – Мастерски показания выбил. Из-за него, по сути, процесс и стал возможным. Без таких палачей, при Кирове ЧК было бы совсем беззубым.
Алеутов лишь рассеянно кивнул, то ли соглашаясь, то ли просто раздумывая над чем-то. Кажется, он ещё сильнее убедился в том, что я принёс именно то, что надо, пусть даже и невероятно фантастическим способом. А вот в глазах Жукова, с которым я лишь на миг пересёкся взглядами, я увидел одобрение. Кажется, регалии старого Союза его хоть немного убедили.
Что же, я рад, что дело сдвинулось с мёртвой точки.
– Если вы считаете, что документы, пусть даже и официальные, нельзя подделать, то мне только остаётся поражаться вашей наивности, – продолжал гнуть свою линию непреклонный Джеймс. – Конечно, немецкие спецслужбы уже не те, что раньше, дни «Энигмы» остались в прошлом, но будьте уверены, что такая простая вещь, как подделка документов, им до сих пор по силам.
Жуков на этот непреклонный монолог лишь отрицательно и спокойно покачал головой.
– Нет, Джеймс. Это что угодно, но точно не подделка. Бумага старая, отпечатанная ещё в тридцатые годы. Сам посмотри, – американец тут же воспользовался предложением и, резко встав со стула, подошёл к Алеутову, который продолжал изучать документы. – Посмотри, посмотри. Печати, надписи. Чернила выцветшие, потёртые и размытые. Нет, такого уровня подделку невозможно создать за несколько дней. Да даже за несколько месяцев это маловероятно. Фальшивка высшего уровня, первый сорт, почти неотличимый от оригинала. Либо же, сам оригинал.
– Я тоже склоняюсь к мнению, что документы настоящие, – согласился с верховным маршалом Алеутов, отложив от себя стопку листов и оперевшись локтём на подлокотник кресла. – Для «свиньи» слишком хорошее качество. Слишком. Другой вопрос, как конкретно они попали в руки Грише.
Я устало вздохнул.
– Я же говорил, мне в камеру…
– Про камеру я уже слышал, – прервал меня мой начальник. – Мне интересно, кем был этот неизвестный благодетель и был ли он благодетелем вообще? Опиши его ещё раз.
– Много я не рассмотрел, – сразу ухватив суть дела, продолжил я. – Среднего роста, упитанный, очень упитанный. Голос старческий, сухой. Вроде лысеет, мне показалось, что волосы у него редкие, но могу соврать.
– Каминский? – неожиданно предположил Жуков.
– Нет, точно нет, – моментально отверг эту теорию Алеутов. – Он сейчас вроде как в Архангельске, принимает командование над осиротевшими РОА.
– Воскобойник? – продолжал верховный маршал.
– Тоже нет, он в Брянске безвылазно сидит, – продолжил отметать варианты Алеутов.
– Пономарёв[3]?
– В Новгороде. Да бесполезно перебирать варианты. К тому же, они все на немецких харчах уже постарели и обрюзгли. Нет, этот человек пока остаётся для нас таинственной фигурой. Такой же таинственной, как и его мотивы.
Жуков, немного подумав, кивнул в знак согласия.
– Значит, товарищи, предлагаю следующий вариант, – начал верховный маршал, вытаскивая из старого портсигара папироску. – Оставим пока в покое неизвестного «благожелателя» и перейдём к делам насущным. Конкретно – к пожинанию плодов успешного, – при этих словах Джеймс деликатно кашлянул, однако Георгий Константинович неумолимо продолжал. – Успешного похода полковника Отрепьева. Джеймс, кажется, сейчас ваш ход.
– Хм-м, – всё ещё недоверчиво промычал американец. – Как я понимаю, других вариантов у нас нет?
– Абсолютно верно понимаешь, – хищной старческой улыбкой оскалился Жуков.
– Тогда, прошу бумаги, – он протянул руку к Алеутову, получив стопку жёлтых листов. – Мне понадобиться немного времени, чтобы ознакомиться с документами.
Алеутов лишь пожал плечами, соглашаясь с просьбой американца и давая понять, что он лично никуда не торопится. В этом плане я был готов с ним поспорить, особенно учитывая, что уровень адреналина в моей крови, поднятый подозрением самого могущественного человека в Чёрной Армии, несколько упал и меня опять начало клонить в сон. Правда, бороться с усталостью помог ещё один стакан чая, на этот раз более крепкой заварки, который вскоре по просьбе Алеутова принёс его секретарь. К горячему и бодрящему напитку, сдобренному двумя ложками суррогатного сахара, добавилась и пачка сигарет, которую я начал немедленно, не отрываясь от чая, раскуривать. На некоторое время в помещении воцарилась тишина, прерываемая лишь шорохом тонких бумажных листов и редкими шумными выдохами, когда кто-то из нас троих затягивался.
Джеймс так и не притронулся к табаку, занятый тем, что внимательнейшим образом изучал бумаги.
– Что же, господа, – начал он, когда в моём стакане уже показалось дно. – Могу сказать, что у меня для вас есть приятные новости.
– Например? – уточнил Алеутов.
– Александр Сергеевич, вы документы внимательно читали? – с ехидцей в голосе спросил американец.
– Достаточно внимательно. Но я всё равно не понимаю в чём дело, – угрюмо ответил на подкол начальник разведки.
Американец тяжело и слегка устало вздохнул.
– Да, иногда я забываю, как вы здесь в Чёрной Армии всё-таки оторваны от мира. Знакомьтесь, – он громко хлопнул пачкой документов об стол. – Наш друг, товарищ и брат. В миру – Максим Максимович, настоящая фамилия вам ничего не скажет, а вот фамилия «по легенде» достаточно известна по всему рейху. Ещё бы, ведь Ш…
* * *
Первое, что я увидел, когда отрыл глаза, были изумлённые взгляды всех трёх собравшихся.
– Тебе бы поспать, Гриша… – сочувственно произнёс Алеутов.
Я пытался было возразить и сказать что-то на подобие: «Ерунда, сейчас схожу умоюсь», – но получилось у меня плохо. В ответ мой начальник получил лишь сдавленное мычание и слабый взмах левой рукой.
– Что это с ним? – поинтересовался американец.
– Переутомился, – уверенно ответил Жуков. – Понятное дело, удивительно, что его вообще так надолго хватило.
Я вновь попытался возразить и объяснить, что со мной всё в порядке, но вторая попытка завязать диалог была ещё более провальной, чем предыдущая.
– Саш, – спросил Жуков, обращаясь к Алеутову. – Попроси Васю, чтобы он его домой отвёз. Пусть отсыпается. Только чтобы с рук на руки передал…
– Понятное дело, – согласился с ним начальник разведки. – В таком состоянии от него пользы ноль. Сейчас вызову машину, пусть едет дрыхнуть.
А потом всё как в тумане. Помню только тряску и мерцающий свет перед глазами. Помню запинающиеся ноги и крепкое плечо, на которое едва хватало сил опираться. Помню что-то горячее и влажное, то и дело прислоняющееся к моему лицу. Помню мягкое и нежное, мокро гладящее по отросшим волосам.
Это всё, что я запомнил, прежде чем окончательно отрубиться.
* * *
Соединённые Штаты Америки, Лэнгли. 19 августа, 1962 год.
Джон МакКоун уже собирался было встать со своего массивного кожаного кресла, собрать свои немногочисленные личные вещи, накинуть шерстяной пиджак в клеточку и покинуть своё рабочее помещение, однако телефонный звонок, раздавшийся под вечер в его кабинете, заставил главу ЦРУ рухнуть обратно в объятия коричневой кожи. Джон МакКоун горестно вздохнул, распрощавшись с несбыточными мечтами успеть домой хотя бы к ужину, и понуро взял трубку.
– Да, – голос МакКоуна звучал громко и резко, ровно так, как полагается звучать голосу начальника, которого подчинённые отрывают от важных дел.
– Мистер МакКоун, – раздался голос на другом конце провода. – Это станция «Гриф». У нас сообщение.
– Слушаю, «Гриф», – всё также сурово произнёс МакКоун, массируя переносицу двумя пальцами. Он старательно пытался вспомнить, где конкретно находится эта самая станция «Гриф». Кажется, в Гренландии…
– «Ворон» вышел на связь, мистер МакКоун, – доложила трубка. – Он заявляет, что Фенрир освободился. Можно начинать песнь. Руны скоро прибудут.
Сонливость и усталость с директора Центральной разведки как рукой сняло. Он плотнее прижал трубку к уху и радостно, с придыханием прошептал:
– «Гриф», повтори.
– Повторяю. Фенрир освободился, можно начинать песнь, руны скоро прибудут, – послушно повторил телефон.
– Понял тебя, «Гриф», конец связи.
Джон МакКоун быстро положил трубку. Отдышался пару секунд, оперевшись ладонями на рабочий стол, а затем резко схватил другую, уже красного цвета.
Гудки длились всего пару секунд, после чего твёрдый старческий голос произнёс прямо в ухо директору ЦРУ:
– Да?..
– Господин президент, это МакКоун, – удовлетворённо начал он. – У меня есть хорошие новости. Кажется, операция «Валькирия» только что началась…
На лице директора Центрального Разведывательного Управления играла довольная улыбка служаки, которому только что выдали премию за переработку.
[1] Заместитель наркома внутренних дел Ягоды. В нашем мире ответственен за смещение своего же шефа. Расстрелян в тридцать восьмом году, реабилитации не подлежит.
[2] Судебный процесс над группой технической интеллигенции по делу о вредительстве в промышленности и сельском хозяйстве.
[3] Известные коллаборационисты
Глава третья
Сумерки богов
«Словно на пpицел, словно в обоpот
Словно под обстpел, на паpад, в хоpовод
Словно наутёк, словно безоглядно
И опять сначала…»
Великогерманский рейх, Столица Мира Германия. 3 сентября, 1962 год.
Рейнхард Гейдрих раздражённо дёрнул головой. Мелкий, некрупный дождик неспешно накапывал со свинцового неба, что бесконечным металлическим листом растянулось над всей столицей Великогерманского рейха. Капли стекали по его белокурым прядям, пусть и слегка поредевшим в последние годы, струйками бежали по его высокому лбу, минуя нахмуренные и сосредоточенные брови, попадали в глаза. А вот это уже неумолимый шеф гестапо стерпеть не мог и поэтому то и дело раздражённо проводил рукой по мокрому лицу. Его глаза ему были ещё нужны. Сегодня больше, чем когда-либо.
Его взгляд бежал по бесконечным рядам трибун, по гранитным ступеням, по лицам, фуражкам и петлицам. Его взгляд подмечал каждую деталь, каждый незначительный штришок, читал по губам даже самые тихие и тайные фразы, произносимые тихим шёпотом и только доверенным людям, стоящим рядом в плотном строю. Торжественные флаги, фанфары, крики радости и гордости нисколько не отвлекали его. В такой день нужно быть полным идиотом, чтобы отвлекаться на такую мишуру. Ступени Фольксхаллы молчаливо гудят, словно потревоженный улей, и нужно быть слепым, чтобы не видеть этого. Рейнхард слепым не был. Он наблюдал над недвижимой суетой, в которой люди политики и интриг так сильно преуспели, начавшейся ровно в тот момент, когда опирающегося на трость и слегка покачивающегося при ходьбе Адольфа Гитлера возвели на трибуну. Пчелиный улей гудел, обсуждал, звенел сотнями пар крыльев, гадая, что именно ждёт их всех, после того, как фюрер отправиться в небытие? И среди всего этого роя Гейдрих был самым натуральным шершнем.
А внизу маршировали солдаты.
Сегодня был особенный день. День, когда солдаты дивизии «Лейбштандарт Адольф Гитлер» приносили присягу. Присягу не рейху или немецкому народу, а лично фюреру. Впрочем, в нынешней Германии эти понятия были почти неразделимы.
Личная дивизия Гитлера, служащая одновременно и его телохранителями, и любимой игрушкой, состояла, по сути, из двух неравных частей. Танковый корпус уже проехал, не оставив на бетоне ни кусочка грязи. Теперь пришла очередь стройных рядов пехоты, в которых все солдаты как один принадлежали к стержневой нации. Высокие, голубоглазые, белокурые – генетическая элита рейха. Стальная осанка, хищные глаза, волевой подбородок и рука, с нашивкой белого ключа на тёмном фоне, приложенная к виску. Взгляд обращён к обожаемому фюреру, вождю нации, глупо, по-старчески улыбающемуся на белоснежных мраморных трибунах, омываемых дождём. Знаменосец каждой новой колонны радостно вскидывает руку в древнем салюте, пока его подопечные стройными рядами проходят мимо радующегося, словно дитё, вождя.
Но Рейнхард Гейдрих не обращал внимания на эти праздничные декорации. Эта дисциплина, эта показательная стальная воля – ложь. Она лишь прикрывает, наводит морок, заставляет людей отводить взгляд от той кучи помоев, в которую превратилась Германия. Всем, кто имеет хотя бы капельку мозгов, и так было понятно, что сегодняшняя присяга – лишь фикция и декорация. Пройдёт пара месяцев и человек, которому дана эта клятва, уйдёт из этого мира. И именно от поведения солдат «Лейбштандарта» зависит то, в чьи руки перейдёт столица рейха. А поведение солдат зависит от желания их непосредственного начальника – рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Ну, или, по крайней мере, пусть сам рейхсфюрер так думает. Чем меньше он знает и понимает, тем легче его заместителю, Рейнхарду Гейдриху претворять в жизнь свои собственные планы. Старый восторженный курозаводчик настолько ослеплён собственным величием, настолько увлечён копаниями в собственной родословной и мелком оккультизме, что не замечает, как в рядах некогда единой СС зреет опасный раскол, прямо угрожающей его непоколебимой власти. Паук, невидимый в тени, аккуратно плетёт свои сети, грозя вскоре перерезать беспечному насекомому все возможные пути к отступлению.
В конце концов, незримый ткач делает это не ради собственной тщеславности. Он делает это ради своей нации, ради своей страны, ради всей арийской расы, чёрт возьми! Deutschland über alles!
А те солдаты, что сейчас стройно маршируют внизу, ещё не знают, что совсем скоро им придётся повторить эту процедуру. И дать присягу новому фюреру, пусть тоже уже не молодому, но всё ещё способному мыслить здраво и видеть то, вот что превратился рейх. В мерзкий, склизкий и дегенеративный кусок дерьма. Как и сам Гитлер. Как и всё вокруг. Как и все здесь!
Как поганый докторишка с бегающими мелкими глазками, чья недочеловеческая сущность видна даже невооружённым глазом! Болезный, косолапый и нескладный Геббельс был всем тем, против чего его, Гейдриха, народ боролся уже тридцать лет. И, к сожалению, так и не смог победить. Иначе это недоразумение никогда бы не то что не взошло, но даже и не смогло бы приблизиться к месту вождя. А тем более не стало плодить своих выродков, одна из которых до сих пор, несмотря на двадцативосьмилетний возраст, не умеет ни читать, ни писать, а на лице у неё явная печать вырождения. Если таково яблоко, то чего, в таком случае, стоит ожидать от яблони, от её отца?
Впрочем, его оппонент не лучше. Жирный, старый, обрюзгший маршал, который когда-то очень давно, совсем в иной жизни, был прекрасным лётчиком. Сейчас же его толстые щёки свисают едва ли не до шеи, а счёт подбородкам потеряет даже профессор математики. Его округлая физиономия расплывается в улыбке каждый раз, когда мимо проходит новая колонна солдат. От его смеха трясутся неисчислимые жировые складки, по какому-то недоразумению до сих пор называющиеся чертами лица. Некогда отважный и боевитый маршал авиации, Геринг давно уже перестал олицетворять всю ту ярость и варварскую чистоту, с которой воевал немецкий народ. Опиум, алкоголь и жизнь в роскоши превратили бесстрашного бойца в трусливого шакала, испугавшегося боя за секунду до его начала и протянувшего свою трясущуюся потную ладонь Геббельсу в знак примирения. И теперь он стоит здесь, рядом со своим бывшим конкурентом и довольно скалится, глядя на марширующих солдат.
Остальные не лучше. Вон по правую руку застыли подпевалы Гиммлера из СС. Надутые индюки: Зейсс-Инкварт и Кальтенбруннер. По левую – предатели-реформаторы, что ничем не лучше поганых жидов. Банда из четверых Иуд: Шпеер, Гесс, фон Штауффенберг и фон Нейрат. Какой символизм, олицетворяющий те раковые клетки, что проникли в важнейшие органы государства. Экономика, Партия, армия, дипломатия. Эта четвёрка любителей жидо-капитализма, мечтающая превратить рейх в ещё один оплот сионизма, должна служить для любого добропорядочного немца напоминанием, что враги сейчас везде. Не в далёкой России, не в заморской Америке и даже не в знойной Италии, лежащей за Альпийскими горами, а здесь, рядом. В собственном доме. В собственной детской, рабочем кабинете или постели.
А поэтому Рейнхард не имеет права расслабляться.
Наконец, казавшееся бесконечным шествие закончилось. Солдаты последний раз щёлкнули каблуками и замерли, вытянувшись по струнке, ожидая приветственной и торжественной речи фюрера. Такой привычной и такой обычной, повторяющейся из года в год. Фюрер любит традиции. Прекрасные, проверенные временем традиции. По сути, это всё, что осталось у рейха от дней былой славы. Вождь всех немцев настолько любил эти милые сердцу ритуалы и полуязыческие пляски, что сам не заметил, как стал одним из подобных пыльных символов.
Оглядев белоснежный мраморный плац, на котором чёрными тенями выстроились солдаты СС, своим старческим глуповатым взглядом, фюрер подошёл к краю своей трибуны, опёрся на неё дрожащими венозными руками и, слегка прокашлявшись, начал свою речь.
– Мои солдаты! – торжественно начал он. Пусть голос его сейчас звучал не так громогласно, как в дни его былой славы, но, тем не менее, стареющий фюрер собрал в кулак всё то обаяние, что у него ещё оставалось. – Воины Германии! Легионеры арийской расы!..
Начиналось всё хорошо. Фюрер надрывался, солдаты внимали, а партийные бонзы и министры слащаво улыбались, потихоньку перешёптываясь друг с другом и делая очередные политические ходы. Однако после последнего восклицания Гитлера, всю эту ерунду как ветром сдуло. В воздухе как будто что-то хрустнуло, надломилось, хотя на площади перед зданием Фольксхаллы царила гробовая тишина. Аккуратные улыбки визирей медленно сползали с лиц окружающих, стихали тихие шепотки. Замолчал и сам фюрер.
Молчание его, правда, длилось недолго. Спустя несколько секунд фюрер дёрнулся, повертел старческой, поседевшей головой, обернулся на стоящих по бокам от него Геббельса и Еву Браун, а затем удивлённо продолжил:
– Рём? Где Рём? Почему я не вижу здесь Эрнста?..
После этих слов Геринг с Геббельсом испугано переглянулись, а по рядам собравшихся прошла волна тихого и взволнованного шёпота.
А Гитлер тем временем продолжал. Посмотрел на Геббельса, он сурово нахмурил брови, словно что-то вспоминая.
– Вы… вы кажется Йозеф? Да, точно, теперь я вас вспоминаю. Вы ещё работали секретарём у Штрассера. Скажите же мне, наконец, где Эрнст Рём? Почему он пропускает такое важное мероприятие?!
Вдруг резко он обернулся к солдатам и прокричал:
– Штурмовики! Мои славные штурмовики, вестники национал-социалистической революции!..
Но свою речь он вновь не закончив. Болезненно дёрнув головой, он увидел Еву. И тут же расплылся в довольной, слегка блаженной улыбке.
– Гели, девочка моя… Гели, и ты здесь? Что… что ты здесь делаешь? Как мать тебя вообще отпустила?
Ряды собравшихся стояли, словно громом поражённые. Никто не решался пошевелиться или отдать команду. Все стояли и молча наблюдали за тем, как фюрер впадает «в детство», в дни своей громкой славы и первых побед. В те дни, когда именно СА[1], а не СС, были главным пугалом партии. В дни, когда за звание его главной страсти боролись политика и Гели Раубаль, его собственная племянница, найденная позже в своём доме с простреленным навылет сердцем.
В дни, когда он сам ещё не превратился в проржавевшего идола.
Во всём этом бараньем безмолвии лишь один человек не поддался оцепенению. Александр, личный охранник Гитлера, которого из-за труднопроизносимой фамилии все за глаза называли просто Алекс, мгновенно начал распихивать сонный почётный караул, также удивлённо таращащийся на своего вождя, стоя наизготовку возле основания трибуны. Он же аккуратно спустил Гитлера по ступенькам, передав его под белы рученьки Геббельса и Евы Браун. Даже тот самый знаменитый чемоданчик, с которым фюрер не расставался уже лет как семь, и тот Алекс не забыл. А рядом с недоумевающим вождём немецкой нации уже вилась стайка врачей, которым из-за плеча, едва ли не подпрыгивая, заглядывал суетливый и отчаянно потеющий Геринг.
Вскочивший на опустевшую трибуну Геббельс заявил всем собравшимся, что фюреру нехорошо, а поэтому остальная часть церемонии пройдёт чуть позже. Сборище начало постепенно рассасываться. Гитлера увезли в его загородную резиденцию. Сопровождали его только Алекс, Ева и личный врач фюрера. Политиканы уходили, перемигиваясь и тихонько переговариваясь между собой. Из-за толпы партийцев, пытавшихся быстрее всех успеть влезть в свои личные шикарные автомобили, на парковке перед Фольксхаллой возникла жуткая давка, а чуть позже образовалась пробка. И лишь эсэсовцы покинули территорию без суеты и паники. Чётким строем они промаршировали через всю площадь, миновали беснующихся и отчаянно сигналящих автомобилистов и таким же ровным маршем отправились прочь из города. Это, пожалуй, было единственное, что хоть слегка подняло Гейдриху настроение. Поймав напоследок растерянный взгляд своего шефа, Генриха Гиммлера, который хоть и оставался на месте, но всем своим видом показывал, что готов разорваться напополам, одолеваемый своей нерешительностью, Гейдрих презрительно хмыкнул и, развернувшись, отправился прямиком к дверям Фольксхаллы. Сорванная церемония сорванной церемонией, однако работу никто не отменял. Особенно, после того, что Рейнхард увидел сегодня на площади.
Если традиции – это всё, что осталось у рейха, если они были последней веткой, за которую ухватился немецкий народ перед тем, как сорваться в бездну, нужно было озаботиться тем, что следовало бы делать, когда эта веточка наконец оборвётся. А судя по сегодняшним событиям, дерево в слабеющей руке уже начало трещать.
* * *
Чёрная Армия, Свердловск. 17 августа, 1962 год.
Глаза я открыл мгновенно. Уже очень давно моё утро не начиналось в мягкой постели, на чистом матрасе и выстиранном белье, так что с минуту я тупо таращился в потолок, мучительно вспоминая, где я, собственно, нахожусь. Дневное солнце широкими лучами ползло по моей комнате, а из открытого окна дул прохладный сквознячок, пузыря тёмно-синие шторы.
Я рывком поднялся. Сел на кровати, свесив ноги. Выбитый глаз неимоверно щипало, нужно было немедленно встать и подставить его под струю воды. Я уже хотел было так поступить, но что-то горячее и мягкое вдруг коснулось моей спины.
Через секунду мягкие женские руки уже были на моих плечах, аккуратно стараясь повернуть верхнюю часть торса. Прикосновения были настолько нежными и любящими, что у меня не оставалось никакого другого выхода, кроме как подчиниться. Обернувшись, я увидел искажённое гримасой грусти и еле сдерживаемых рыданий лицо Ани, чьи губы подрагивали, а из глаз готовы были ручьями хлынуть слёзы.
– Что же они с тобой сделали?.. – отчаянно спросила у меня Аня, нежно гладя ладонью по щеке.
А я ничего ей не мог сказать. Она гладила меня по отросшим волосам, по выбитому и отчаянно саднящему глазу, по шраму на левой щеке, который я получил пару лет назад. Гладила и не могла поверить, что действительно это делает. Те несколько десятков секунд нежности растянулись для неё в целую жизнь, в огромную бесконечность тепла и облегчения. И я не могу сказать, что не ощущал того же.
В конце концов, Аня не смогла больше себя сдерживать. Мокрые и солёные ручьи хлынули из её глаз, с диким всхлипом она бросилась, преодолела те несчастные сантиметры, что продолжали разделять нас, и рухнула мне на шею, сотрясая рыданиями всё своё тело. Моя женщина завывала и горько плакала, а мне ничего не оставалось, кроме как крепче прижимать её к себе и аккуратно гладить её длинные русые волосы.
Я что-то шептал ей, какую-то ерунду, бессмысленную и бессвязную, словно дикому животному, что всегда завороженно слушает человеческую речь. Я не пытался её успокоить и не целовал. Я прекрасно понимал, что сейчас это было бесполезно. Поэтому я рассказывал про девственные приуральские леса Московии, про декабрьский снег, не отравленный смогом, про белку, что я заметил в лесу во время своего долгого похода. Я не мешал ей плакать. Ей было необходимо выкинуть, выплеснуть все те страдания, что накопились внутри её души за все эти полгода. И если был более действенный способ это сделать, чем слёзы, то я его не знал.
И именно в этот момент я понял, чем для меня стала Аня. В тот момент, когда на моём плече рыдала, никак не успокаиваясь, девушка, с которой я сожительствовал уже порядка десяти лет, я наконец-то понял, зачем нужны были все эти бесконечные походы, схватки и поверженные чудовища. Зачем на самом деле нужен был многокилометровый марш через всю Московию. Я понял, ради чего были все эти построения, бесконечные учения, самоистязания и нескончаемые схватки с, казалось бы, непобедимым врагом.
Я просто хотел, чтобы моя женщина больше никогда так горестно не всхлипывала.
Впрочем, почему только моя? Я не хотел бы, чтобы вообще хоть одна женщина в мире испытывала нечто подобное тому, что испытывала сейчас Аня. Однако в тот момент я не мог думать ни о чём, и, самое главное, ни о ком другом. Ни о чём светлом, разумном, добром и вечном. Я лишь хотел дать этому беззащитному существу, которое никак не могло успокоиться, истерично рыдая на моём плече, всё тепло, всю любовь и уверенность, какую имел сам.
Именно в тот момент, я понял, как сильно я её люблю.
Люблю до злости, до ломоты в рёбрах, до эгоистичной ярости направленной на любого, кто посмеет бросить на неё хотя бы взгляд. Люблю до ненависти, до неистребимого желания сломать и уничтожить. Неважно кого: немцев, Чёрную Армию, Алеутова. В те минуты я ненавидел их всех одинаково. Никто из них не был достоин ходить по одной землей с женщиной, что почти полгода засыпала одна в холодной, продуваемой всеми ветрами квартире где-то в уральской глуши. Никто из них не был достоин смотреть на женщину, которая всю эту мрачную весну и лето слышала перед сном не мирное сопение любимого, а наводящий ужас гул приближавшихся бомбардировщиков. Засыпала в страхе и ужасе не столько за себя, сколько за другого, бесконечно далёкого от неё человека, что в то время брёл по талому снегу Поволжья. Бесконечно далёкий рыцарь, жаждущий отрубить драконью голову, совсем забывший о принцессе, что печально глядит на его схватку с последнего этажа высоченной башни. Да, именно та самая принцесса, которая в конечном итоге и должна поменять бочонки с живой и мёртвой водой.
И именно живая, целительная вода сейчас стекала по моему израненному плечу.
Я не пошёл умываться. Просто не смог. Мы долго сидели, тупо глядя друг на друга, не в силах оторвать взгляд. Мы замечали каждую чёрточку друг у друга, каждый незаметный штришок внешности, каждую мимолётную эмоцию или игру мышц. Она влюблялась в меня заново, откапывая гроб, в котором меня похоронила, открывая тяжелую крышку и снова узнавая знакомое румяное лицо. Я же делал это впервые. Впервые видел в ней не бывшую проститутку, не сожительницу, с которой делю постель, не обузу и дополнительную норму калорий. Я глядел на женщину, растрёпанную и опухшую от утренних рыданий и не мог поверить самому себе. Не мог поверить, что передо мной сидит та, что стала матерью, настоящей матерью абсолютно незнакомому ей мальчишке, которого я приволок с улицы, голодного и грязного. Не мог поверить, как это хрупкое, по сути, и глубоко несчастное существо, едва выжившее в нашем беспощадном мире, вздрагивало каждый раз, когда на нашем этаже раздавались тяжёлые шаги. И не мог, самое ужасное, поверить в то, что когда-то я не оглядывался на её крошечный силуэт, неизменно провожающий меня в буран очередного задания.
А потом, когда наше общее открытие было совершено, мы занялись тем, что обычно делают молодые влюблённые в любую свободную минуту. Мы не завтракали, не умывались, не говорили о делах. Мы просто не отлипали друг от друга. Склеенные самым мощным клеем, мы не могли оторваться друг от друга ни на секунду. Мы как одержимые исследовали каждый кусочек наших тел, которые снова и снова становились единым целым. И после кратких перерывов страсть снова вспыхивала огненными бутонами, и мы снова прижимались друг к другу, стараясь раствориться, вжаться, влиться, стать единым целым. А все мои мысли в те мгновения занимало лишь её лицо. Самое прекрасное, самое неописуемое и самое дорогое, что существовало для меня в этом мире.
Я не знаю, о чём она думала в тот момент, но мне кажется, что о том же самом.
Когда через полтора часа (отрезок времени, показавшийся мне бесконечным) Аня вдруг завела разговор, у меня едва хватало сил, чтобы шевелить губами. Фразы я строил на голом автоматизме, закалённом годами армейской службы.
– Ты… как? – облизывая сухие губы спросила меня Аня.
– Хорошо, – шумно выдохнув, ответил я.
– А?.. – она вопросительно коснулась ладонью левой части моего лица. Учитывая тот факт, что лежала она с правого боку, ей пришлось слегка приподняться, а я при этом её движении едва подавил в себе желание вновь на неё накинуться.
– При допросе, – верно истолковал её вопрос я.


