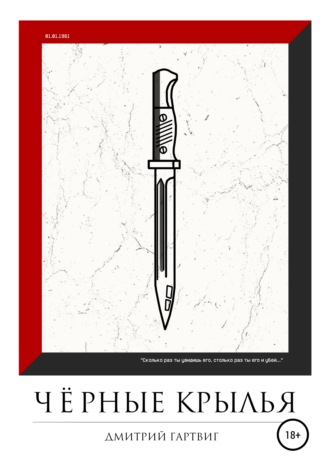
Дмитрий Гартвиг
Чёрные крылья
Тем не менее, я не сдавался. Я продолжал вновь и вновь обыскивать помещение за помещением, рылся даже по карманам мёртвых красноармейцев. Вскрыл запасы местной столовой, найдя кучу банок с ещё съедобной тушёнкой. Аккуратно растопил старую буржуйку, заткнув трубу, чтобы дым не дай Бог не поднялся над давно заброшенным зданием, из-за чего вся комната, в которой проводился этот незамысловатый кулинарный эксперимент, превратилась в настоящую душегубку. Тем не менее, воду я всё-таки вскипятил. Спал на импровизированной лежанке, которую собрал себе из старых документов и чекистской формы.
Но даже мои ночёвки не могли ничего изменить. Бумаг здесь не было. Просто-напросто не было. Поэтому, на седьмой день моего пребывания в здании (а точнее, в подземной его части, не тронутой немцами) ОГПУ, я ещё раз перерыл архив, чтобы уж точно удостовериться в отсутствии необходимых документов и начал спускаться обратно в «Метро». Пора было возвращаться.
* * *
Взяли меня, когда я вышел к станции. Я понуро выбирался из того самого длинного и грязного коридора, уныло светя перед собой фонариком, когда на мой затылок обрушился удар по-настоящему богатырской силы. К счастью, нас в «Стальной руке» готовили и к такому повороту событий, так что я, несмотря на глухую боль, тянущую меня куда-то в провал забытья, резко развернулся и сделал чёткую, по всем правилам подсечку. Услышав громкий топот за спиной, я тут же размашисто ткнул туда фонариком, разбив стекло, защищающее саму лампочку. Жуткий вой порезанного лица дал мне понять, что я всё же попал.
Голова раскалывалась от неописуемой боли. Я не видел и не понимал, кто мои враги. Доверяться разуму в такой момент было критически опасно, а поэтому в ход пошло тренированное до рефлексов тело. Полностью поддавшись звериным инстинктам, я крутился в жутком танце боя, в полной темноте, окружённый со всех сторон врагами. То с одной стороны, то с другой доносились крики боли и влажный хруст, если мои удары оказывались особенно удачными.
А потом мне неожиданно дали по ногам. С такой силой, что подкосились колени. Следом на лежачего меня посыпался натуральный град ударов: по печени, голове, спине и почкам. Я смог лишь сжаться в комок, изредка отбрыкиваясь всё более тяжёлой и тяжёлой ногой и стараясь защитить голову.
Потом я уже ничего не помнил.
* * *
– Имя, фамилия?..
Ровный голос. Русский. Ни капли акцента.
– Григорий Иванович Отрепьев.
– На кого работаешь?
Молчание.
– Я повторю ещё раз. На кого работаешь?
– Моё имя – Григорий Иванович Отрепьев.
Удар. Быстрый, тяжёлый, под дых. Воздух из моих лёгких моментально выходит, заставляя меня беззвучно хватать ртом воздух.
– Моё имя… – сиплю я, едва ко мне возвращается возможность дышать, – Григорий Иванович Отре…
Докончить мне не дают. На моё бедное тело осыпается град ударов. Всё те же избитые печень, почки, лёгкие, солнечное сплетение. Бьют меня жёстко и достаточно долго. До тех пор, пока я, наконец, не начинаю кашлять кровью.
– Цели операции?
В ушах нестерпимо звенит. Но я всё равно слышу тот же самый ровный голос. Русский, что самое страшное.
Голос принадлежит коротко стриженному мужчине, в серой форме цвета фельдграу. Той самой, в которой немцы пришли на нашу землю в сорок первом. Он, как и ещё трое ему подобных, держат меня, привязанного к хлипкому казённому стулу, в тёмной и просторной комнате. Рядом со мной стоит крепкий железный стол с набором страшных для любого подпольщика инструментов, чуть поодаль невзрачного вида чинуша, склонившись над печатной машинкой, готовится записывать мои показания. Белым, ярким, режущим глаза светом горит лампочка Ильича, висящая без обода на длинном шнурке.
Дракон, дракон, дракон… чешуя и хвост. Славный рыцарь забыл, что его главный враг – не легендарный и опасный зверь, ждущий в неприступной пещере, а рыцари-предатели, рыцари-раубриттеры, засевшие в лесном овраге на пути к логову крылатого ящера. Копии его самого, «славные» воины, кривым отражением глядящие на него из зеркала. Кто знает, будь отец его чуть менее строгим, а мать менее любящей – он, сегодняшний рыцарь без страха и упрёка, сейчас бы сидел в том же самом овраге и точно также пытал пламенного идеалиста, случайно попавшего прямо в раскрытый капкан.
– Я повторю в последний раз, – безразлично сказал тот самый коротко стриженный, что вёл допрос с самого его начала, – и в этот раз тебе стоит подумать над своим ответом получше. Я спрашиваю: на кого ты, дрянь, работаешь, и с какой целью проник в архив ОГПУ?
– Меня зовут…
Быстрый удар по челюсти прервал мою короткую мантру.
– Значит поступим по-плохому.
А потом на землю сошёл ад.
Я потерял счёт времени. Я потерял счёт вопросам. Я потерял зрение, обоняние, слух. Весь мир для меня сузился в одну узкую горячую полосу, то и дело разливающуюся по всему телу волнами боли. Боль, боль и ещё раз боль, только она имела значение, только она для меня была реальна. Она и ещё моя мантра, в которой я как заведённый повторял своё имя, фамилию и отчество. Три самых главных слова, в которых скрывался весь смысл моей нынешней жизни. Три главных слова, тянувшие за собой ещё одну троицу.
Петля. Я молился, безмолвно взывал к небесам, духам, Богу и любой высшей силе, которая могла бы меня услышать. Пусть они не смогут, пусть они не успеют отобрать у меня мою петлю, моё вечное забытье, куда я уйду раньше, чем из моего рта вырвется что-либо кроме имени собственного. Просто потому что есть ещё одно слово.
Лица. Самые разные. Живые и мёртвые, близкие и далёкие, знакомые до мельчайших морщинок, родинок и ямочек и совсем мне неизвестные, оставшиеся в памяти лишь сумрачными мазками художника-самоучки. Лица Ани, Артёма, Алеутова, Жукова. Мать и отец, замученные в бесчисленных концлагерях. Пришло ко мне и лицо Конева, старым, грубым и угловатым армейским наброском воспоминаний. Я совсем забыл, как он выглядит. А может быть, это радиоактивное излучение стёрло из памяти его образ? Как жаль, что оно не сможет стереть ещё больше.
Слова. Много слов. Связанных воедино логическими цепочками, чувством долга, необходимостью и диким гулом реактивных двигателей, за которым обычно следует свистящий град бомб. Ни одно слово не сорвётся с моих губ. Ни одно, до тех пор, пока я помню все эти лица. И, поэтому, я рвусь, тянусь изо всех сил к своей любимой петле. В ней моё спасение. В ней спасение тех, кого я люблю, тех, кто мне дорог и тех, кого я не могу предать. Я знаю, Бог не жалует самоубийц, но ведь Бог и есть любовь? Что, если ради любви сотен и тысяч нужно сунуть голову в петлю лишь одному? Разве не для этого ты послал на землю своего единственного сына, Господи? Один ради миллионов и миллионов других?
Я чувствую её. Мысленно тянусь к ней, медленно надеваю на шею. Я чувствую, как жёсткая и грубая верёвка стягивается у меня на горле болью от сломанных молотком пальцев. Чувствую, как затягивается петля горячим огоньком сигареты, затушенным об мой левый глаз.
И наконец, когда небытие последней, невыносимой и желанной волной растекается по моему измученному телу, я нахожу в себе силы в последний раз открыть единственный оставшийся глаз. Ещё одно лицо. Старческое, древнее, равнодушное. Тоже до боли знакомое, но я не могу вспомнить его обладателя, хоть убей не могу.
И наконец, три последних слова срываются с моих триумфальных губ:
– Трусы, вруны и шлюхи, – напоследок улыбаясь недосчитавшимся зубов ртом, произношу я, глядя в смазанное лицо своих мучителей.
Вот и всё.
Камо грядеши.
* * *
Я никогда не был на море. Помню, однажды, во время учений, уже после того, как меня взяли в «Стальную руку», мы с моим отрядом поднялись на одну не очень высокую гору, на севере территорий, подконтрольных Чёрной Армии. Там, через тонкую границу между рейхскомиссариатом и Новосибирской республикой, было видно бесконечное и ледяное северное море. Я тогда остановился на небольшом пологом склоне и внимательно его разглядывал несколько минут к ряду, упрямо стряхивая снег, налипавший на толстые, защитные очки.
Но это было не то море.
Это был огромная, бесконечная водная гладь, чьё безмятежное спокойствие не нарушалось ни ветром, ни беспокойными волнами. Наверное, таким оно бывает на юге, возле крымских берегов, окроплённых кровью бесчисленных поколений и потерянных для моего народа. От края до края, от заката и до рассвета, до всего необъятного горизонта именно это море было хозяином всей земной тверди. Но только лишь земной, дальше его владения заканчивались.
Потому что в небе господствовали птицы.
Огромная громкая чёрная стая, гулко хлопающая крыльями, застилала почти всё необъятное пространство небосвода, закрывая своей массой солнечный свет. Изредка отдельные её представители с гулким карканьем пикировали вниз, к бесконечному морю, будто бы выискивая добычу. Раз за разом возвращаясь ни с чем, вороны всё внимательнее и внимательнее посматривали на меня, распластавшегося на бесконечной плоскости воды, постепенно скапливаясь вокруг моего распростёртого на воде тела, и сбиваясь в засасывающий чёрный водоворот.
Я знал, что будет дальше. Рано или поздно та птица, что окажется смелее или голоднее остальных, попробует на вкус и меня. И более того, ей понравится. В тот момент мной займётся вся стая. Хлопая своими огромными, чёрными крыльями, они будут раз за разом, день за днём терзать мою плоть, пока не растащат всё, даже бледные, обглоданные кости.
И что самое страшное, я знал, как от них спастись.
Выход был близко, совсем рядом. Стоило лишь приложить немного усилий, взмахнуть руками и уйти под воду. Навсегда скрыться в толщах безмолвного и спокойного океана. Я знал, что птицам туда хода нет. Они до одури, до безумия, до дрожи в их тонких, невесомых костях боятся вод времён. Они не сунутся за мной.
Правда и я больше никогда не смогу всплыть. Никогда больше не увижу солнца, пусть даже и заслонённого бесконечной стаей. Не почувствую человеческого тепла, а с моих синих губ утопленника не сорвётся ни одного звука. Зато там не будет боли. Там вообще ничего не будет. И я знал, что рано или поздно мне придётся пойти ко дну.
Больше я не выдержу. Это выше человеческих сил.
– Ты боишься, так ведь?
Я с трудом поворачиваю голову. Чуть поодаль от меня стоит небольшой деревянный бортик из тёмно-коричневого дерева. Секунду назад его здесь не было.
Голос принадлежал бестелесному силуэту лёгкого голубого цвета, стоявшему на носу лодки. Само судёнышко было доверху набито лежащими вповалку людьми в военной форме. На сам силуэт, как, впрочем, и на меня они не обращали никакого внимания, продолжая либо подставлять недвижимые лица чёрному от птиц небу, либо зарываясь ими в жёсткие и грязные доски.
Я не сразу понял, что все они мёртвые.
– Нет, – ответил я силуэту, больше всего напоминавшего мальчика лет десяти, – я не боюсь. Я просто устал.
– А разве, есть разница? – удивлённо спросил мальчик. – Ты опускаешь руки: от страха ли, от бессилия – неважно. Это всё равно слабость. Та, самая страшная слабость, из-за которой когда-то погибли миллионы.
– Я не хочу видеть этих птиц, – устало ответил я, глядя в небо.
– Это страх. Всё равно, что страх.
– Значит, я боюсь.
На несколько минут между нами повисла немая тишина. Птицы спускались всё ниже.
– Они приближаются, – задумчиво произнёс мальчик, – время решаться.
– Решаться на что?
– Что ты будешь делать дальше, конечно же. Можно, как ты и планировал, спуститься под воду, сбежать от боли и страха и окончательно раствориться в вечности, бросив всех и вся. А можно остаться на плаву.
– Кто ты? – спросил я, обращаясь к призраку.
– Я – тот, кто не родился, – печально ответил мне силуэт ребёнка.
– У тебя есть имя?
– Как имя может быть у того, кто никогда не рождался? – с лёгкой иронией в голосе дал он ответ. – У меня нет ни имени, ни внешности, ни души. Я не знаю, как выглядели мои родители, потому что они тоже не родились. Мой прадед никогда не встретился с моей прабабушкой. Очень сложно любить и делать детей, когда ты выхаркиваешь свои собственные отравленные лёгкие где-то под Чебоксарами. Ещё сложнее, когда ты загибаешься от голода в безнадёжном концлагере, как моя прабабушка.
Он сделал небольшую паузу, а затем продолжил:
– Мой дед никогда не рождался. Как и мой отец, как и мать. У меня, возможно, была какая-то жизнь, но не в этом месте, не в это время. А всё это из-за слабости тех, кто должен был вести людей к свету и борьбе, а в итоге лишь голосил с трибуны.
Печально повернув ко мне свою полупрозрачную головку, он вынес безжалостный вердикт:
– Ты точно такой же, как они.
А вот теперь мне стало по-настоящему больно.
– Неправда, – слегка по-детски, с обидой в голосе возразил я.
– Правда, – безжалостно оборвал меня ребёнок. – Иначе, как ты можешь, глядя на нерождённых детей говорить о том, как тебе больно, или как ты устал? Как можешь ты, глядя на затерянную посреди реки времён лодку, полную мертвецов, говорить о том, что тебе страшно. Особенно, когда день откровений уже близко.
– Тогда, что мне делать?! – срываясь на отчаянный крик, вопрошал я.
На моих глазах лодка потихоньку приходила в движение. Ни ветер, ни волны не тревожили покой её пассажиров, однако она постепенно начала удаляться от меня. Пока что медленно, но я всё равно заметил.
– Оставаться на плаву, – с улыбкой и теплотой в голосе ответил малец. – Если, конечно, ты – не они.
Мы оба знали, о ком он. Лодка уплывала всё дальше.
– Место, где ты родился, – почти крича, спрашивал я, – оно существует?!
– Возможно, – спокойно ответил мне мальчик, пожав бестелесными плечами. – Наверное, раз я есть в потоке времени, я где-то был. Может быть – ещё даже и буду. Жди. Скоро ты получишь ответы на все свои вопросы.
Лодка всё продолжала ускоряться и ускоряться, унося вдаль и моего призрачного собеседника, и мёртвые тела моих соотечественников, погибших на полях Последней войны. А может, для них она и не была последней. Возможно, для тех мертвецов, затерянных во времени, она была Великой…
Тем временем, птицы перешли в наступление. Первая из них опустилась на мой плоский живот, который едва-едва торчал над водой, и пребольно клюнула меня в область паха. Через несколько минут почти вся стая разместилась на мне. Клювами и цепкими лапами они разрывали кожу, рвали сухожилия, клевали внутренности. Правда, мне было уже всё равно. Я терпел боль.
Пусть река несёт меня.
[1] Общевойсковой Защитный Комплект
[2] Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков)
Часть III
Глава первая
Закат
«Вновь примирит все тьма, даже алмазы и пепел,
Друг равен врагу в итоге, а итог один.
Два солнца у меня на этом и прошлом свете,
Их вместе с собой укроет горько-сладкий дым».
Великогерманский рейх, пригород Столицы Мира Германии. 20 июня, 1962 год.
Гейдрих услышал, как скрипнули тормозные колодки автомобиля, паркующегося возле его загородной резиденции. Окно его рабочего кабинета было по обыкновению настежь открыто, так что звуки улицы свободно проникали в просторное, заставленное книжными полками помещение. Рейнхард Гейдрих слышал всё: от мерного стука молотка где-то вдали и до тихого насвистывания рабочего в его саду. Шеф гестапо слышал и контролировал всё. Так, как он и любил.
Тем не менее, белокурый, уже начинающий седеть эсэсовец не шелохнулся, когда всё в том же саду звонко щёлкнул засов на воротах, открывающий машине путь в сад, в его святая святых. Он не оторвал взгляда от рабочих записок, заполняемых каллиграфическим почерком с абсолютной аккуратностью. Не отложил ни один из многочисленных докладов, которые он, несмотря на непомерное их число, всё равно прочитывал от первой буквы и до последней. Лишь на миг рука, старательно выводившая на листе бумаге его собственную подпись, позволила себе задержаться как бы в нерешительности, не понимая, что ей делать: то ли продолжать писать, то ли тянуться к наградному «Вальтеру», лежащему в верхнем ящике письменного стола. Всего лишь на миг его жестокая и безжалостная рука, подписавшая тысячи и тысячи смертных приговоров, дрогнула. Дрогнула только для того, чтобы немедленно вернуться к столь необходимой бумажной работе.
Через несколько минут дверь приоткрылась.
– Герр Гейдрих, к вам Георг Вильгельм… – начал было докладывать вкрадчивый и почтительный голос его, Рейнхарда, дворецкого, однако второе лицо в СС резко прервал его.
– Пусть войдёт, – холодным тоном приказал он, прежде чем оторвать, наконец-то, взгляд от аккуратно разложенных по столу бумаг.
Благообразное лицо прислуги тут же исчезло в слегка приоткрытом дверном проёме, лишь для того, чтобы через секунду дверь широко распахнулась, и перед шефом гестапо предстал молодой юноша, лет двадцати от роду. Одет он был в выглаженную и идеально сидящую форму СС. На его молодом лице не было ни той дегенеративной небритости, которая так бесила Гейдриха в нынешних студентах, увлекающихся травкой и уклоняющихся от службы в армии, ни инфантильной рассеянности во взгляде, которой так страдало молодое поколение немцев, выросшее в овечьем мире и блаженной безопасности. Свежий, собранный, молодой хищник, вытянувшийся по струнке перед старым, но ещё не растерявшим железной хватки вожаком. Выкинувший руку в вековом салюте, идеальный представитель стержневой нации.
Таким был Георг Вильгельм Вальдек-Пирмонт.
Гейдрих ответил на салют слегка пижонски, не вставая.
– Вольно, Георг, – сказал шеф гестапо, лёгким кивком указывая на массивное кресло на противоположной стороне стола. – Садись.
Молодой эсэсовец с благодарностью принял приглашение и медленно опустился на чёрную, податливую кожу.
– Докладывай, – тут же перешёл к сути дела Гейдрих.
– Боюсь, герр Гейдрих, новости не слишком радужные, – смотря прямо в глаза эсэсовцу, начал Георг Вильгельм, – мои надёжные источники, которые ещё ни разу не подводили нас с вами, сообщают, что Геринг, покинув ежегодные учения Люфтваффе, сегодня прибыл в Столицу Мира Германию, для срочного совещания в Фольксхалле с рейхсминистром Геббельсом. О чём они говорили, доподлинно неизвестно, однако из закрытого кабинета, недоступного, к сожалению, для наших подслушивающих устройств, оба вышли в весёлом расположении духа, а перед отбытием рейхсмаршала пожали друг другу руки. После этого восемнадцатый авиационный корпус, личная гвардия Геринга, покинул аэродромы близ Бранденбурга и сейчас находится в процессе передислокации на юг, куда-то рядом с итальянской границей.
– Что думаешь по этому поводу? – задал вопрос Гейдрих. Конечно, для ответа не нужно было быть семи пядей во лбу, и шеф гестапо это прекрасно понимал, однако ему хотело ещё раз проверить своего доверенного агента.
Георг пожал плечами. Это была единственная форма неуставного ответа, которую он себе иногда позволял.
– Вывод напрашивается сам собой, – развивал мысль молодой эсэсовец. – Геринг с Геббельсом пошли на мировую. Как только стало ясно, что без боя рейхсмаршал не готов уступать место приемника фюрера, восемнадцатый корпус постоянно находился в шаговой доступности от столицы. Сейчас же, сразу после совещания, он вдруг отбывает в Альпы, якобы для предотвращения новых итальянских провокаций, которые с недавних пор приобрели регулярный характер. К тому же, рейхсмаршал ещё со времён Великой войны страстный фанат авиации, которая с тридцатых годов, после прихода Адольфа Гитлера к власти, находится полностью в его руках. Оторвать его от учений могло лишь что-то по-настоящему судьбоносное. Например, мировое соглашение с рейхсминистром пропаганды, его главным конкурентом в борьбе за власть.
– А что Гиммлер? – не меняя положения, ровным голосом спросил Гейдрих.
– Пока ничего конкретного сказать не могу. Его секретарь, однако, только что доложил, что рейхсфюрер СС заперся у себя в кабинете, с просьбой не отвлекать его от «письма доктору Геббельсу с поздравлениями в связи с окончательным примирением лучших людей рейха». Очевидно, что о совещании ему тоже известно. Ясно также то, что мировая неизбежна, если уже не произошла.
На лице шефа гестапо не отразилось ни одной эмоции, однако внутри у него бушевал самый настоящий пожар. Его хитроумная комбинация летела ко всем чертям! Он связывал большие планы с грядущей гражданской войной, которая неминуемо бы разгорелась между двумя главными претендентами на место фюрера. Мало того, он сам сделал некоторые шаги, для того, чтобы это война из разряда «возможного» перетекла в разряд «неизбежного». Но старый боров Геринг струсил, пошёл на попятную, удовлетворившись, наверняка, своим нынешним хлебным местом рейхсмаршала, которое косолапый Геббельс пообещал ему оставить. Впрочем, ничего удивительного. Расклад сил был явно не в его сторону: за Геринга выступал лишь вермахт, да и то не полностью, партия и народ же был, в основном, на стороне министра пропаганды, сделавшего себе имя своими пламенными речами. Рейнхард, впрочем, надеялся, что жадность в мозгу старого наркомана пересилит здравый смысл, и он хотя бы попытается. Однако всё пошло наперекосяк. Скорее всего, свою роль в этом событии сыграли участившиеся провокации на итальянском фронте, показавшие, что немецкая армия уже не столь сильна, как раньше, в отличие от врагов рейха.
Как хорошо, что за годы беспощадной внутрипартийной грызни Рейнхард Гейдрих приучил себя всегда иметь план «Б». Особенно в таком важном деле, как спасение Отечества. Перемирие Геринга и Геббельса это, конечно, неприятно, но на каждое перемирие найдётся своя радиостанция в Глайвице[1].
– Что-то ещё? – спросил Гейдрих, когда Вальтек-Пирмонт закончил высказывать свои соображения.
– Много мелочи, но ничего сильно интересного, кроме одного. Сегодня, в одиннадцать часов утра, Адольф Гитлер, прогуливаясь в окружении телохранителей по Берлинской оранжерее, споткнулся и расшиб себе лоб. Кровотечение, по словам личного врача, который сообщил это моему агенту, специально интересовавшемуся здоровьем фюрера, остановить удалось только через час.
Гейдрих кивнул. Вождь сдаёт, это всем понятно. Годы берут своё, принося кучу старческих горестей и болячек.
– Помимо этого – небольшое восстание рабов на силезских фабриках. Унтерменьши заперлись на одном из крупповских предприятий, забаррикадировали входы и выходы, однако срочно прибывшая айнзацгруппа быстро с ними разобралась. Немцев убито пятнадцать человек, в основном охранники и управляющие, потери среди славян никто не считал. Также Альберт Шпеер готовит очередное выступление в Фольксхалле по поводу нового скачка нашего государственного долга. Собирается в который раз сообщить о том, что германская экономика, держащаяся в основном только лишь на рабском труде, похожа на огромный мыльный пузырь, что вот-вот лопнет. Имели место быть очередные провокации на итальянской границе. Видимо, прошлый успех окрылил Чиано, поэтому теперь его войска без конца пробуют наших солдат на прочность. Однако такого позора, как месяц назад, больше не повторяется. Мы подтянули резервы, и итальянцы теперь получают достойный отпор. Активизировались русские. Неоправданно растёт число наших воздушных потерь в районе Урала. Геринг специальным указом приказал снизить частоту налётов, чтобы не подвергать лишней опасности наших лётчиков. Бригада Дирлевангера, пытавшаяся прорваться на территорию русских с целью грабительского рейда, натолкнулась на неожиданно упорное сопротивление, вследствие чего была наполовину обескровлена. Японцы также не сидят без дела. Вчера был обстрелян наш пограничный блокпост в районе побережья Карского моря. Франц Гальдер уже послал туда пару батальонов местных формирований. По словам генерала, нет смысла разбрасываться ценными людьми из-за пустяковой приграничной перестрелки. Пусть гибнут русские.
Гейдрих кивал головой по каждому пункту доклада. Ничего действительно важного, кроме, пожалуй, травмы Гитлера, он не услышал. Его не удивил тот факт, что шакалы, видя раненого льва, начинают потихоньку кружить вокруг него, надеясь урвать свой кусок добычи. Не волновала его и судьба бандитов Оскара Дирлевангера. Человеческие отбросы, убийцы, насильники и психопаты – они, хоть и ходили под эгидой СС, не вызывали у настоящих рыцарей Чёрного Ордена ничего, кроме презрения. Не беспокоила шефа гестапо также и пустая болтовня жидов-технократов, типа Шпеера, жаждущих превратить Великогерманский рейх в жалкое подобие Соединённых Штатов с их трусливым либерализмом, рыночной экономикой и вырожденческой демократией. Конечно, в чём-то старый архитектор прав: немцы действительно разжирели и обрюзгли на спинах своих рабов, однако это не означает, что сам Альберт не сгинет в концлагере, если у Гейдриха появится хоть малейшая возможность его туда отправить.
– На этом всё? – спросил шеф гестапо.
– Так точно, – ответил его юный протеже.
– Тогда вы свободны, Георг.
Вальтек-Пирмонт согласно кивнул, поднялся с кресла, на прощание чётко и резко, как на параде, салютнул и ровным шагом покинул кабинет.
Рейнхард Гейдрих был доволен. Конечно, он и сам был ещё очень даже ничего, ему не исполнилось даже шестидесяти. Однако пройдёт лет десять, и ему нужно будет крепко задуматься над вопросом наследника. Юный Георг Вильгельм подходил как никто другой. Умный, смелый и беспощадный – тот самый идеальный человеческий материал, из которого будет коваться действительно тысячелетний рейх. К тому же, искренне преданный ему, Гейдриху, за то, что когда-то именно шеф гестапо не дал его отцу, потерявшему благосклонность Гиммлера, окончательно вылететь из СС.
Правда, о том, что интриговал против его отца сам Гейдрих, прикрываясь ширмой из Карла Вольфа, молодому эсэсовцу знать совсем необязательно.
* * *
Соединённые Штаты Америки, Вашингтон, округ Колумбия. 21 июня, 1962 год.
Тридцать восьмой президент Соединённых Штатов Джордж Паттон, не так давно переизбранный на второй срок, сидел за столом Овального кабинета, подперев старческое обвислое лицо кулаком левой ладони. Его угрюмый взгляд, казалось бы, способен расплавить красный пластиковый корпус телефона, стоявшего на столе, однако законы физики даже для президента одной из ведущих стран мира были непреклонны.
Что-то незаметно изменилось для него. Для него, для американцев, для всего мира. Самое страшное, что произошло это не постепенно, не в связи с рядом экономических и политических причин, а вдруг. Словно, кто-то резко дёрнул за невидимый рычаг или рубильник. Все люди, которых обычно называют интуитами, и к которым относился тридцать восьмой президент США, прекрасно это прочувствовали. И приняли соответствующие меры. Кто-то закупился оружием и провизией, кто-то начал рыть бункер под своим гаражом, а кто-то всеми силами пытался прорваться в нейтральную Мексику, которая не играла в опасные игры сверхдержав.
И только один-единственный, самый могущественный из этих чувствующих людей не знал, что делать.
Когда он, уже старый и заслуженный ветеран Второй Мировой войны впервые баллотировался на место президента от Национальной Американской партии в пятьдесят седьмом, он делал упор именно на оборонительную внешнюю политику, на упорное продолжение борьбы с «коричневой чумой» фашизма и укрепление позиций Америки, как постоянно готовой к бою страны. Однако, что-то поменялось с тех пор. Что-то, что старый вояка не мог понять, отчего старик-генерал дико нервничал. Несмотря на всю его интуицию, его, как и любого военного человека, выводило из себя всякое непонятное и неизвестное, выбивающееся из узких норм устава.
Ясным для старого президента оставалось одно: нужно действовать и действовать быстро. В эпоху перемен, в эпоху сломов и потрясений самая худшая участь ждёт тех, кто пытается усидеть на месте, обеими руками хватаясь за слабеющий столп старого миропорядка. И всё равно, несмотря на эту аксиому, Паттон продолжал с упорным недоверием смотреть на происходящее.
Казалось бы, вот итальянцы. Фашиствующие ублюдки, чернорубашечки, доставившие столько хлопот американскому корпусу в Африке. Теперь подписывают торговый договор, позволяя американским частным компаниям добывать нефть во владениях саудитов, входящих в сферу влияния Итальянской империи. Порвавшим все старые связи со своими союзниками-немцами «владыкам» Средиземноморья отчаянно нужны были союзники, и за дружбу Америки они были готовы платить любую цену, даже самую высокую и унизительную
С другой стороны русские. Варвары, дикие азиаты, безбожники-коммунисты, некогда угрожающие серпом и молотом всему свободному миру, а затем загнанные немецкими армиями на вершины Уральских гор. Теперь же перекованные в огне их национальной трагедии, задушенные, осаждённые, едва-едва дышащие и, одновременно с этим, отчаянно бомбардирующие Белый Дом запросами о помощи, договорами и планами совместных операций. Безумные фанатики, ведомые старым маршалом Жуковым, жаждущие мести и отмщения. Таких как они называют обычно одержимыми. Правда, президент Паттон прекрасно помнил слова своего отца, который всегда говорил, что лучше быть на стороне одержимого, чем выступать против него.
Что же, судьба хитро плетёт веретено из невесомых нитей, иронично глядя на суетящихся людишек. Если его Родине ради победы, пусть хотя бы и мимолётной, необходимо объединиться с красными, так тому и быть. Генерал Паттон этот шаг ни за что бы не одобрил, а вот президент Паттон обеими руками за такое развитие событий. В конце концов, чем чёрт не шутит, по донесениям разведки русские уже давным-давно не «красные». Сейчас их было бы правильнее называть «чёрными», что вполне устраивало старого вояку, оккупировавшего президентское кресло.
А ведь помимо русских и итальянцев, к которым президент не питал ни малейшей симпатии, оставалась ещё куча других. Бельгийцы в Африке, британцы на Альбионе и даже французы в Индокитае, продолжающие свою упорную партизанскую борьбу против Японии. Все они активизировались разом, неожиданно, будто что-то почуяв. И ладно бы просто активизировались, но нет, начали просить у Америки топлива, денег и оружия. Цели у них были, конечно же, благородные, но если раздавать каждому нищему по нитке, сам по миру пойдёшь. Так думал президент.
Тяжелые размышления Джорджа Паттона прервал телефонный звонок.
– Слушаю, – попытался грозно гаркнуть он в трубку, но постаревшие голосовые связки его в который раз подвели.
– Господин президент, это МакКоун, – ответила ему телефонная трубка. – В Лэнгли только что поступили сведения, которые могли бы вас заинтересовать.
– Так излагайте, чего вы тянете? – со всей солдатской прямотой ответил президент.
– Только что пришло донесение от «Ворона», сэр. Он докладывает об очередном пограничном конфликте между Японской империей и Великогерманским рейхом на их общей границе на севере России.


