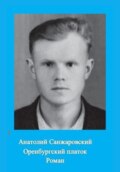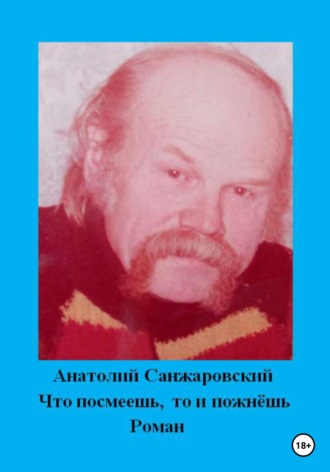
Анатолий Никифорович Санжаровский
Что посмеешь, то и пожнёшь
– Какой? – заинтересовался я.
– А не читал в «Труде»? Не тебе говорить… Между Арменией и Азербайджаном кипит – перестройка! – необъявленная войнуха. Ну, раз ночью в мамкином наряде пришлось азербайджанской семье на бронетранспортёре бежать из Армении аж за Баку. Про кота забыли. Не до того. Через 473 дня к ним явился за 650 километров ихний кот.
– Как он узнал новый адрес? У кого дорогу спрашивал? – залюбопытствовала моя Валентина. – Кто ему отвечал?
– Мир не без добрых людей… Только мне отсюда не уйти. Как уйти от матери?.. От отца?.. Как уйти от родителевой могилы?
Разговор обломился.
И как-то уже не подымался.
Могилы заставят молчать всякого.
На развилке Юрка взял к Мелекедурам.
– Стоп! Стоп, машинка! – тряхнул я Юрку за плечо. – Мы выйдем… Надо бы пешочком…
– Зачем, когда есть тачка? И тут ближе. Мелекедури. Чайная фабрика. А там на бугор взлетел, и мы у цели. Дома. Лет десять тому мы перебрались с пятого в центр совхоза.
– Нет, нет…
– Ну давай круголя через ваш пятый?
– Нет. Вы езжайте через Мелекедури. А мы пройдёмся… По воздуху юности… А на ночь к вам. Гарантируем. Мы на один день. Абы одним глазком глянуть на родные места…
На том мы и расстались.
3
Все мы, люди, одинаковы, только надгробные памятники разной величины.
П. Канижая
С годами я всё реже наезжал из Москвы в свои Насакиралики.
С поезда, с автобуса ли пеше, как сейчас, бежишь к себе на пятый. И всегда боишься не застать уже кого-то.
В этот август едва застал в живых наш дом.
Первый раз мы расстались эхэ-хэ когда. Поверх тридцати лет тому.
Был тогда наш дом молодой, красивый, крепкий. В нём было лучшее у нашей семьи жильё. Правда, тесное. На четверых одна комнатка!
Но…
До этого дома и после него наша семья жила всегда в сарайных бараках, где, к слову, нам никогда также не давали больше одной комнаты. Всегда только одна комната…
Стены из армянского розового туфа обещали этому дому вечную жизнь.
А тут подходишь, всё в тебе примирает.
Брошенный, пустоглазый дом захлестнули со всех сторон дикие ромашки. Окна выбиты, двери выдраны. На крылечках сбиты подпоры, крыши над крыльцами нависли, расклячились мёртвыми козырьками. Того и жди, падут.
Угинаясь, я заробело промигнул в нашу комнату.
Пол местами вырван. На уцелелых половицах горки сора. И кругом распадающийся дух отходящей жизни.
Со стены, рядом со ржавой подковой, я сломил пластинку синеватой побелки.
Горьким, ясным блеском отгоревших здесь наших дней плеснула она в душу.
Мне услышалось давешнее, как по утрам мама весело топталась на крыльце, с сапог резиновых сбивала веником снег.
Значит, ночью таки выпал! Дождались праздничка!
Некогда! Снег помрёт! Не успеешь накататься! Скорей вставай!
И без завтрака летишь в школу.
Пока добежишь до своих ненаглядных двоек, выше глаз накатаешься с горушек на полотнянках сумках с книжками.
Снег в Насакираликах заворачивал не во всякую зиму.
А когда и набегал, так не на век.
Был нетерпеливый, нелёжкий.
Лёг бы себе барином и лежи до мая.
Так нет.
Всё куда-то спешил.
Утром в колено, сжат морозцем.
А с обеда уже ручьями резво скакал к долу с весёлыми песнями…
То мне увиделось, как мама с кривой табуретки белила потолок самодельной толстой кистью из кукурузных рубашек. От едучей извёстки пальцы обмотала тряпицами. Как знать, может, в пластинке ещё живы синие полоски, что выбегали из маминой руки…
Я завернул пластиночку в листок, спрятал в паспорт и всё воедино положил в тайный карман на груди.
И не знал я пока, что вскорую снесут наш дом, вырубят чай перед нашими окнами. И на месте дома, и на месте чайной плантации посадят орехи…
На косогоре нет барака, где жила Женя и где мы встретились всего-то раз.
Нет как не было.
Весь тот простор задёрнула травяная злоба.
Нет персика, что служил нам штангой в футбольных войнах…
Нет танцплощадки…
Нет тропки, что глянцево сливалась спиралью с обрыва в каштановой роще ко дну оврага, к кринице…
Старый рыхлый бугор ссунулся, красно замял криницу, но не совсем. В неглубокой ясной воде еле заметен живой ток из груди земли…
Криничная вода уже никому не нужна? Ржавые колонки у домов обломили, обрезали к ней дорогу?
Боже, боже…
Посёлочек ужали, согнали в два дома.
И те наполовину пусты.
Надстроенные уже позже нас вторые этажи не круглый ли год тоскуют в обнимку с печальными, плачущими ветрами. Городские помогальщики когда-то приезжали на сбор чая, какую неделю в них перебедуют…
Сохнет, умирает жизнь…
Уже вечер.
Но нигде ни души. Ни старого, ни малого.
Все на чаю?
Будут работать дотемна, пока рук своих не увидят? Как и в наши старые давние дни?
Нечаянно мы с женой набрели на фуфаечный комочек.
Комочек шевельнулся у стены.
Это была бабушка Федора. Федора Солёная.
В одной бригаде с мамой работала.
Бабушка вроде узнала меня. Виновато улыбнулась.
– Что же, – спрашиваю, – Вы сидите прямо на земле?
– А мне так, Тоник, теплей… – Голос у старушки слабый-слабый, взгляд с надломом. – Кольку выглядаю…
– Дождётесь сына. Потом что?
– В хату пидемо… В хате холодно одной… В обед вынес, я и греюсь… Трусюсь… Ах, кабы я, хворуша, ходила… Я б ему чай подмогала ирвать. Всю жизню чай ирвала, ирвала… А чай сам меня порвал…
Старушка задумчиво замолчала, прикрыла глаза.
Казалось, она заснула.
Но тут же вздрогнула, слабо всплеснула сухими ручками:
– Ой, Тоник! Шо ж я брешу тебе? Колька чай не ирвёт, а рубит…
– Это как?
– А топором… Цальдой…
– Я вас не понимаю.
– А думаешь, я шо понимаю? Такое тут горе варится… Я тебе проскажу всё по порядку… Может, тогда и поймёшь. Ты помнишь, как ты ирвал чай? Руками, по одной чаинке и кидай в корзинку на боку. А лет десять назад стали собирать машинами. Японьскими… Вручную мы набирали в день двадцать-тридцать кил. А машиной… Не сто, так все двести! Работка не сахарь, потяжеле любой каторги… Пойди по плантациях, ещё увидишь везде столбы, столбы, столбы под проводами. По тем проводам бежал ток… Все плантации упутали проводами… На столбах розетки… Включай да собирай. Делов – то! Это постороннему глазу всё легко, впросте. А… Сама машина весит кил двадцать. При ней мешок, куда собирается чай. И в тот мешок войдёт кил двадцать пять. Да кабельный шнур. Полсотни метров. Обмотаешься им и тянешь за собой. В том шнуре тоже кил пятнадцать… И выходит, что весь день ты таскаешь с зари до зари пуда под четыре отакой заразы. И это круглый год за вычетом лише зимы да ранней весны. На Колыме такую каторгу видали? Ох лё!
– Значит, соберёшь чай вокруг одного столба на полсотни метров. Потом идёшь танцевать вокруг другого столба?
– А куда денешься? Идёшь… Так и танцюешь со столбами… Го-орькая каторжанция… А ну нянчить такую дуру машину всейкий день!? Да она ещё без глаз, нарежет тебе чёрте чего. Потому до того, как поднести её к кусту, зорко осмотри куст, где какая бузина, папоротник там иль ещё какая сорная глупость – счахни с куста, подчисть его… Ну… Хорошо, плохо ли, а грузинский чаёшенька шёл. Но вот накрыла нас перестройка… Там… Ещё хужей… Отплюнулась Грузиния от России… Как ото не по-людски начиналось… Огнём да страхом скидали до кучи нам цэй Советский Союзище. И шо? Как криво сляпали, так оно и разляпилось на старые куски. На огне да на страхе вдолгую ль шо уживёт?.. Так вот, значится, отскокла Грузиния от России, как сытая горошинка от стенки, и пришла нашему чаю полная смерть.
– Даже так?
– Та-ак… Грузиния хóроше кушала с широкой русской ладонушки и хлебушек, и масличко, и всё прочее… На русском токе хóроше работали машины в русских руках, работала чайная фабричка. Русский ток гнал воду из Супсы, поливал чайные плантации. И вдруг всё пало! Как с обрыва кто столкнул. Стал ток идти с перебоем. И пришла совхозу смерть. Чай вовремю не убрал, чудок перестоял… Это уже не чай, а лешева облицовка. И покатилось всё кувырком… Не работают чайные машины… Стоит чайная фабрика… Чай задичал… И вот, Тоник, то, за шо бились репре… репрессированные батьки… Твои батько с мамкой, я со своим Митькой… Мы в тридцатые корчевали здесеньки леса, сушили болотины, везде растыкивали чай… А наши дети, – мой же Колька! – теперь вот этот самый чай под огороды вырубают! Какие страхи… Русские поставили на ноги совхоз… Обихаживали… И… И русские же плохие… Нас и раньше здешняки не душили любовью. А зараз… Кипячёно косоурятся, косоурятся… И съехали все русские, кому было куда ехать по Россиюшке… Остались гнилушки, кому некуда податься… Такие, как вот я… От нас ни жару ни пару… Но и мы ждём своего близкого часу… Нам тоже отъезжать, да невдалече, под дорогу в питовнике… Там Боженька примае всех… В паспорта не заглядае, не спрашуе, хто ты… Русский, грузинец?.. Не стало в совхозе русских – не стало в совхозе и жизни… А грузинец в работе разь особо сине горит? Зато винцо, песенки да пустодевки… Это ему мёдом по сердцу. Да чаю не этот медок нужен! Померла в Насакиралях жизня… Вот так… И куда от этого денешься?
Она горько замолчала.
Я не знал, что ей сказать.
И тоже молчал.
Наконец, на долгом вздохе она снова заговорила:
– Без русских помер чаёк… Померла в Насакиралях жизня… Жали что… Померли наши какие труды… Считай, в Насакиралях чаю уже нема. А остался кой да где на стороне, при домах… у редкого частника. Вручную ото ирвуть… Вручную протирают и сушат кто по-под койкой, кто на чердаке. И на баночки продають по базарям. А кто поразворотистей, на продажь гонять аж на Кубань. Наш русский рублеюшка понаваристей их ларька[409]…
Она помолчала, отдохнула и тихо зажаловалась:
– Слабость… Совсем на свале… До угла, хворушка, ползма не доползу… Ты не знаешь, Тоник, чем я Бога огневила? Лёньку взяв… Сына старшака… У тридцать пять годов… Самэ жить та жить… Хозяина восема вжэ лет як прибрал… Похоронетые рядома… Як я ни просюсь… Не бере…
– Это чего ты, Солёниха, там такое плетёшь с огнёвой болести? – шумнула от соседнего крыльца бабка, мыла с ножом кастрюлю. – Это куда ж ты, горюха, так дужэ просисся? И с кем ты тама?.. Голос навроде-ка из знакомских…
– Та Польки Долгихи младшенькой. Иди-но, Лещиха, поздоровкайся та повидайся… А то тебе, молодёна, великий грех на веку будет.
Баба Надя бельмасто пошла на голос.
Она видела совсем плохо.
– Ах, Тошик, Тошик… Молодец… Значится, не забуваешь наш пятый да нас, чайных гнилушек… Як тамочки мамка? Бачить?
– Мама померла, – тихо ответил я.
Баба Надя меня не услышала. Продолжала своё:
– А я… Тошик! Ты таку дурошлёпку бачил? Вся оглохла… Вся сослепла, а не помираю. Всё не как у людей. Ты попервах помри, а тама и слепни. А я сослепла вся и жива. Всё не как у людей… Уроде ще недавно молоди булы… Леса туточки невпролазь… корчувалы… Болота сушили да чай втыкали. Без нас, без русского дурака, рази б завёлся туте чай? Были б те ж глушь да дичь, что и даве. Чай е… Все мы в той гадский чай ушли… А игде твий батько? А игде Семисыновы? Анис та Аниса? Средь бела дня пропали… Как в воду пали… За вольное слово так покарать людей… Анис и твий батько товаришували як… Больши дружбаны булы. В вечер, було, сядуть на крыльце… Поють… А отпели…
– Дедушка Федя дома?.. – с опаской глянул я на их окно.
– Дома… Под ёлкой за питовником. И как… Райка со своим не то в кино пойшли… Из кина вертаются. А у нас свое кино… Мы удвох вечеряли… Уже кончали… Ага… Только дывлюсь, мий хилится, хилится ко мне и кинул голову мне на плечо… Ага… Я думала, от шуткуе. А он как сшутковал? По-мер. Бога грех виноватить, хорошо помер. Не болел, не лежал так… Даже неголодный помер… Мы булы неразливные. На чаю век удвох паслись… Ты знаешь, с войны он прибежал с одной рукой. Почтарём был. Письма-газеты раскидал по людях и ко мне подмогать. Одной рукой дёргал той проклятуху чай… На базарь удвох… Даже ругаться удвох… Наша руганка без зла була… Не руганка… А так, одна забавность… И за что он меня покарал? Исподтиха… Осталась я одна, как слепой столб под дорогой… Гляди, с горя глаза повредились. Навроде как корка кинулась… Темно… Я тут и с Райкой побалакаю, и с зятём, и с Солёнихой… А он тама один да один… Что ж не проведать? Подпекла я орешков… Завязала в платок горячих этих орешков, яблок, яиц и пойшла. Дорогу я знала на кладбище по памяти. Иду знай себе, иду и забурхалась в чайни кусты… Заблудилась на печке. Куда ни посунусь – кусты и кусты. Обняла я… Прижалась ще к тёплому свому гостинцу и завыла. Спасибо, её Колька мимо бежал с работы, привёл до хаты… Ну, думаю, раз самой не доплыть к Федюшке у гости, надо с кемось хоть гостинчик передать. Тут под раз слышу, один перестройщик оттентелева бредёт с песняками…
– Кто, кто? – подлип я с вопросом.
Баба Федора махнула бабе Наде:
– Надь! Ты мало передохни́… А я пояснение подам… Тоник, бачишь ото вертикушку?
Наискосок от угла дома на колодах серел бесколёсый, безоконный кузовок горбатой «Победы». Над ней на шесте ветер туго вытягивал в ровную полосу белую тряпицу с пёстрой надписью.
ЧАЙХАНА
«Перестройка – мать родная», -
прочитал я вслух.
– От! От! – подхватилась баба Надя.
– Спервача, – говорит баба Федора, – назвали свою чай…хану «Перестройка имени Горбачёва». Но им хóроше въяснили, шо это имя может им вскочить в колымскую десяточку. Тогда оне сбежали чудок ниже. Раскатились подлизаться…» Перестройка имени дорогого товарища Горбачёва». Опеть неувязка. Чёрный намёк. Дорогой-то он дорогой. Тольке не сердцу нашему, а желудку. Очередищи!.. Хоть Горбач прибёг к власти и давно, а с продуктами всё по-брежнему… Ой, вру я!.. Хуже! Ещё хужей стало с продуктами! Намного хужей! Очередищи за хлебом длиньше Горбачёвой петли.[410] В магазинах пустота… А и в беде посмеиваются у нас: «Пей – вода! Ешь – вода! Жирный не будешь никогда!» Люди в былочки повыхудились… Таскают одни скелеты… Чаще стали болеть. В больничке нашей, как в голодном приюте… Ой, Горбач… Сплошная кумедная борьба за перестройку. Или он нас…
– … попугать хочет в рамках «социалистического выбора и коммунистической перспективы», – подсказал я.
– Дажно у меня эта дуристика в зубах навязла. Гнилую лапшу или те же спички и то только по талонам вырвешь. Так шо за «дорогого» тоже можно срок поймать. У нас жа тольке трупы топтать дозволено. С трупа и живой царёк видней… Помялись, помялись, на том и сели. Назвали «Перестройка – мать родная». В той «Перестройке», – сердитей пустила баба Федора слова, – пьянь перестраивается с человека на скотиняку. В получку – хоть камни с неба катись! – по-под окнами взадь-вперёдку, взадь да назадь шастае тайный допрос-брякотень: «Вася (Ваня, Витя…) ты уже сбегал на пилораму?[411] Уже перестроился?» – «Ещё не успел». – «Ну!.. Давай в Израиль и обратки![412] Кидай скорей вшивый рубляш на срочное политицкое мэро-приятие. Тара своя. Закусь своя. Взрывчатка всенародная. Сбор трубим ровнышко в восемь… Ну, я попрыгал к сороке-воровке!»[413] В восемь крадкома сбегаются в «Перестройку». У каждого свой ограничитель, редко у кого луковичка, ещё реже хлебный ломтёк. Наичаще всё нюхачи. Рванут по гранёному и носы в гору, как петухи на водопое – нюхают воздух. Закусюють это!..
– На таковского нюхача с чайной фабрики я и налетела, – пожаловалась баба Надя. – Мне б умолчать, пропустить его мимо. А меня дёрнула дурь за язык, я и ляпани: ты всё одно будешь мимо Федюшки проходить, возложь мой кулёк орешков и два яблочка ему на холмок у крестика. Он руку протяне, возьме… «Уже взял!» – заржал нюхач, и хрустнуло моё бедное яблочко на жеребцовых зубяках. От паразитяра! Какое распущение себе дал! «Ты, бавушка, – брякотит, – не убивайся, в растрату я тя не втолку. Войди в мою положению… Весь горю с первача. На сухач петровский дерябнуть! Перенедоел… Каково? Ни крошки ваши обормоты не поднесли заесть. Хулиганствие высшего пилотажа! Хоть бы пол-ленинградского военного подарунчика…[414] первую серию… Сгорю ж синим пламешком. Пепел завтра найдёшь где в канаве. А зачем таки утраты человечеству? А мы с тобой в обменку… Я сейчас умолочу твои яблоки, докачаюсь до хаты, и свои такие же только уже четыре положу от твоего имени. Идёт? В обмен? Взаимно?..» Я молчу. Он подал мне спасибо, да я домой не донесла… Этот охлой комедно поклонился и уёрзнул. Побрёл, знай дерёт себе похабень:
– Перестройка – мать родная,
Хозрасчёт – отец родной.
На хрена родня такая,
Лучше буду сиротой.
Ох, господи… «Лишить человека ума очень легко, лишить дурости невозможно»… Вот шо… Да шо мне его яблоки? Я свои хотела… Я, Тоша, что попрошу… Как во все приезды, по старой детской дружбе ты на ночь пошатаешься к Юрке в центру. Идти можно сюдой, как обычно. А можно и через четвёртый, через питовник. Так дажно ближей до Юрки будет… Мимо Федюшки… Я дам кулёк орешков, яблочков, яичек… Передашь?
– О чём речи…
Нижней травяной дорогой побрели мы с Валентиной мимо задичалого лужка, где когда-то резались в футбол с пацанвой с четвёртого, мимо питомника…
В сетке солнцами пылали баб Надины яблоки, тянули из памяти печальные картинки из давних дней…
С бугра, из жутковатых еловых зарослей, сиротливо глянул свежий брусок креста, и мы свернули влево с гравийной шоссейки.
Кладбище было опутано проволокой. Для надёжности по верху пустили колючку. Раскляченные старые воротца, сбитые из слег, поникло приоткрыты.
Чуть выше вприжим с кладбищенской проволокой сутулился сумрачный домина.
Во дворе скакали в хороводе вокруг зевающей собаки чёрные, закопчённые тарзанята.
Куры греблись у ближних крестов, сбочь в луже охала хавронья.
Неужели больше негде было сесть этому пришлому думовладельцу?
Сколько помню, совхоз хоронил в соседнем селе. В Мелекедурах. Там кладбище обнесено чугунной витой ажурной оградой. Свиньи не трутся о кресты.
В совхоз понавезли несчастных аджарцев, выселенцев с-под турецкой границы. Жестоко повыкидывали их из родных гнёзд. Властям показались они ненадёжными. Слишком горячо горели глазки в турецкую сторону. Их сюда и столкали. «На перевоспитание». Чтоб чуток поостыли…
Конец двадцатого века…
Конец чёрного, могильного советского века…
Советы надёжно валятся. Вышло их время. Но и сейчас, в предсмертной агонии, Советы всё перевоспитывают неугодных, перевоспитывают, перевоспитывают… За семьдесят три года никак не угомонятся… Чёрный, могильный советский век…
Стали Насакирали числом поболе. Заимели свой сельсоветишко. А потому заимели и право на своё кладбище.
Теперь хоронят наши у себя вот здесь. У питомника.
На горке, совсем рядом чайная фабричонка.
Непокойно было живущим тут, под дорогой, от этой грязнухи. Она вечно гнусавила на всю округу день-ночь, вечно заливала мазутом всё сущее в несчастной нашей речонке Скурдумке.
Но сейчас фабричка молчит. Без русского тока молчит…
Умерла…
Кресты, кресты, кресты…
Как взмахи рук в беде зовущих.
Эти кресты – Россия, навеки покинутая на чужбине.
Остановись, прохожий,
Помяни наш прах.
Мы у себя дома,
А ты еще в гостях.
Познахирин Иван Иванович
1926 – 1972
Клыков Иван Лупович
1913 – 1980
Уткин Андрей Алексеевич
1908 – 1973
Уткин Николай Андреевич
1930 – 1979
Третьяков Афанасий Маркович
1902 – 1982
Соленый Леонид Дмитриевич
1940 – 1975
Соленый Дмитрий Дмитриевич
1905 – 1982
Чочиа Ермиле Яковлевич
1896 – 1979
Косаховский Сергей Данилович
1922 – 1987
Нет, не уйти мне от этих могил…
Бочаров Иван Лукьянович
1908 – 1976
Бочарова Дарья Андреевна
1918 – 1987
Лещев Федор Николаевич
1913 – 1983
Простаков Тимофей Андреевич
1916 – 1975
Комиссаров Иван Федорович
1937 – 1984
Сербин Петр Иванович
18. 08. 1910 – 8. 02. 1988
Половинкин Филарет Федорович
1900 – 1981
Половинкин Иван Филаретович
14. 06. 1925 – 11. 06. 1989
Всего-то на немножко опоздал я, дядя Ваня…
Всего-то на пустяк…
В молодые дни мои при встречах вы не бежали обнимать меня, я не бежал обнимать вас. Но стоило мне уехать из Насакирали, как всё перекувыркнулось кверх кармашками. Не пойму досегодня, почему гостевой стол стал сводить нас? Стоило мне приткнуться на ночь то ли у Клыковых, то ли у Бочаровых, то ли у Семисыновых, как вы с Груней выцарапывали меня к себе.
Я до того рассмелел, что в прошлый приезд уже сам пришлёпал со станции прямо к вашим.
Вы были в совхозной больнице.
Колодезное радио быстрее всяких ног донесло до вас весть, и вы убежали из больницы.
Я сидел ел.
Незаметно, на пальчиках, вы подкрались со спины… Ёжик без ножек… Ваша стерня до сих пор жжёт мне щёку. И кто же знал, что то был последний ваш поцелуй?
– Почему вы в больнице? – спросил я. – Что с вами?
– А! Чтой-то там брешут про тяжёлое с лёгкими! – в подбитом смешке отмахнулись вы от больничных расспросов. – Брешут, брешут! Начисто брешут!
– Ага! Так и брешут… – неуверенно возразил приёмный ваш сын Владимир, уже взрослый, кавалер. – Кашляешь вон, бациллы раскидываешь!
– Ну-к, бацилла! Шлёп-шлёп отсюда! Беги лучше умой «Жигулёнка».
Парень послушно пошёл мыть машину, и вы вернулись к докторам.
– С лёгкими у меня ничего тяжёлого… Порядец!.. Что они понимают? В гроб усандалить – милости прошу! А вылечить – извини-подвинься… Брешут на мои лёгкие… Меня, Антониони, – стишил он голос, шатнулся верхом ко мне, – другая болезня затолкала… Полный звездец! Невысказанные мысли называется.
– По науке это остеохондроз.
– Да какая там наука? Ты это случаем выбежал на науку. Никаковского твоего этого ос… Это у нас родовое. Ты хоть голос моего покойника батечки слыхал? Да что я пытаю… Я сам-то слыхал раз на году… Всё молчал, молчал… В закрытый рот муха не залетит… Молчуком и отошёл… Я тоже весь в папаньку. Жизнюка тако счастье навалила на душу… Людям не похвалишься…
– Ванька! Ветрогон! Сгасни! – прикрикнула старуха мать. – Накидал у сэбэ лишних рюмок, у дурь и покатило?!
– У нас, мамо, гласность же!
– У дураков она никовда не выводилась.
Вы покорно затихли, сронили голову на подставленные кулаки.
Со свежа холмок лежит рассыпчато, пушисто, похож на приоткрытый рот. Кажется, говорится мне:
«Я был тем, чем нынче ты. Ты будешь тем, чем нынче я».
Буду, буду. Куда же я денусь? Не миновать, в сухом дереве не пыхнешь, не дыхнешь, не ворохнёшься. Земля еси, в землю отъидеши…
Если бы не мать, может, вы и рассказали в последнюю нашу встречу, что мяло вас всю жизнь. Я уже всё то знал. С уха на ухо добежало и до Москвы.
Та ваша тайна-беда ясно объяснила мне вас…
И уходила она на Украину. В голодомор.
В тридцать третьем году
Люди падали на ходу.
Ни коровы, ни свиньи,
Тилько Сталин на стини.
Ну, не мне вам рассказывать…
Всё сами знаете…
Вспомните…
Тридцать третий – первый год второй сталинской пятилетки. Именно во второй пятилетке, как торжественно было заявлено всему миру, СССР построит у себя коммунизм. И начали строить коммунизм… голодом. И где? На Украине. Это ж житница, не какая-нибудь там Чукотка. Куда девался хлеб тридцатого – тридцать второго годов? Ушёл, как ходило по газетам, за граничку, ушёл на валюту для сталинской индустриализации с коммунизмом. А народ с голоду пух, «аж шкура лопалась, с трещин сочилась вода». Люди ели людей, ели кошек, собак, крыс. По самым щепетильным подсчётам, только на Украине умерло от голода в тридцать третьем году семь миллионов двести тысяч человек. Это только по Украине. А по России скольким ещё голод срубил жизни?
Мать покормила вас с Василием и увела в лес.
Уложила в скирду.
– Отдохнить, хлопцы…
Вы поснули.
Вы один проснулись… Матери нет…
Вы бегом домой.
А Василия, младшего брата, забыли разбудить. Остался Василий спать один в лесу.
Война осыпала вас орденами.
Подбавил орденов и совхоз.
Но ордена не закрывали раны в душе.
Вся ваша семья, семья ссыльных переселенцев, все годы тишком от мира разыскивала Василия. Достаток не грел вас, лад в чужих нищих семьях рвал вас на куски. Не отсюда ли и злоба? Не отсюда ли и отчуждение?
В конце концов уже стареющий Василий отыскался.
Приехал.
Отец-мать молили:
«Переезжай к нам! Всё тебе оставим!»
Но он-то что ответил!
«Из копны я вскочил в детдом. Потом меня приняли одинокие врачи. Теперь они старенькие. Они мне родители, не вы. И своих родителей я не брошу. На похороны отца-матери приеду. Больше меня тут не будет».
Так и сделал.
На похороны вашего отца приехал. Но на ваших похоронах, дядя Ваня, он уже не появился.
Та ночь в скирде навсегда стала между вами, братьями, навсегда развела вас.
Прав Василий? Не берусь судить. И вам я не судья.
И мать судить не берусь, хотя и всякий зверь не бросит своё дитя на погибель.
То не мать, то голод, то сталинский коммунизм, то сталинская рука вела вас с братом в лес. И если б всё можно было столкнуть на голод, то б и отец-мать должны были остаться в копне. Почему они выбрали только вас двоих? Только на вас на двоих не находилось хлеба? Если уж горе хлебать, так всем по одинаковой ложке.
Чёрная тайна…
Неправда, когда говорят, что тайна умирает вместе с человеком. Вы не унесли свою тайну с собой. Она пережила вас, ушла к живым. Что ей, неприкаянной, теперь делать?
Старики бросили на смерть своих детей, и Бог наказал. Не дал детям этих стариков счастья рожать самим. Матрёна со своим Порфирием бездетно дожимают свой век. Вы побежали кланяться детдому. Взяли мальчика какой-то стакановки-шалашовки. Парень не задался. Пьёт, сбивает баклуши. Не он ли и спихнул вас до срока в могилу?
Простите, дядя Ваня.
В молодую пору я не понимал, почему вы сыпали на чужие раны соль вёдрами вместо того чтоб положить пластырь. Не понимал, почему вас жестоко бодрило лишь злое счастье. Я не знал, не ведал истинной вашей беды, не видел её страшных, чёрных корней и судил о вас только по тому, хочу верить, случайному, наносному, что видел. Ясность пришла полная, когда большие годы-уроды уже разлучили нас. А теперь простите, что побеспокоил. Мир вашему одинокому тесному домку…
Из Насакиралей шатнулся я в Чакву.[415]
В нашу столицу чая.
Божий рай-уголок…
Лау Джонджау и Ксения Бахтадзе
Без чая человек не способен воспринимать красоту.
Японская поговорка
Первая неудачная попытка разведения чая у Чёрного моря в сороковых годах XIX века принадлежит наместнику царя на Кавказе князю М. С. Воронцову.
И лишь…
В 1892 году промышленник-чаеторговец Константин Попов встретился в Китае с человеком, чье имя навсегда войдет в историю русского чаеводства, с учёным Лау Джонджау (родился в 1870 году в провинции Кантон).
«Как специалист по чайного культуре – вспоминал Лау Джонджау – приехал я из Китая в Батум ровно 30 лет назад по приглашению русского чаеторговца Константина Попова. Он заинтересовался этой культурой и решил разводить чайные плантации в своих имениях в Батумской области. Я и десять моих соотечественников прибыли в Батум 4 ноября 1893 года. Разбивку чайных плантаций я начал в Чакве в имении «Отрадном», затем в имениях в Салибаури и в Капрешуми.
В 1896 году мне удалось приготовить первый чай на Кавказе. Дела шли успешно. В 1900 году на всемирной торгово-промышленной выставке в Париже чай, приготовленный мною с плантаций Попова, получил большую золотую медаль с надписью: «За лучший в мире кавказский чай Константина Попова».
На этой выставке министр земледелия А. О. Ермолов, знакомый ещё по Батуму, рекомендовал меня в удельное ведомство. Поступив на государственную службу, наша семья сохранила самые добрые отношения с Поповым. Он хорошо знал, что не ради материальных выгод я оставил службу у него.
За добросовестное отношение к делу начальник управления уделов России князь Кочубей разрешил в 1909 году постройку дома специально для моей семьи. В составлении плана дома, в котором я живу сейчас, и в оформлении его фасада принимал участие и я. Дом построен в китайском стиле по проекту немецкого архитектора.
По истечении десяти лет службы я был награжден орденом Св. Станислава, а главное управление уделов предложило перейти в русское подданство, со всеми правами высших чиновников. Я благодарил начальство, но преданный своему отечеству, от подданства отказался.
Я стал первым китайцем, получившим орден от Российского правительства, и могу гордиться, что впервые в России ввел на вверенной мне фабрике восьмичасовой рабочий день.
В 1911 году по разрешению императора я купил земли близ Батума и на своей плантации вырастил чай, который на первой батумской сельскохозяйственной выставке получил Большую серебряную медаль.
В 1925 году я получил Орден Трудового Красного знамени из рук нового Советского правительства.
За долгие годы, проведенные здесь в непрерывной работе, единственным моим развлечением была охота и лошади.[416] В течение многих лет я знакомился с жизнью и обычаями этого края. С русскими, грузинами, греками, армянами, евреями. В характере и обычаях грузин я нашел много сходства с характером китайцев. У меня много знакомых и друзей среди всех наций и отношение ко мне и моей семье самое искреннее.
Дети окончили батумскую гимназию. Старший сын потом окончил Петербургский университет.
Мы были знакомы со многими представителями передовой русской интеллигенции. Бальмонтом, Есениным, с семьей знаменитого питерского хирурга Гаевского.
В этом моём доме в Чакве сохранилась частица истории общения наших народов, частица истории культур.
30 лет на Кавказе…
Я с семьей решил возвратиться домой. Вернувшись на Родину, видя ее дивную природу, я буду видеть и вспоминать любимую Аджарию. Мир её народу и полного расцвета его творческим силам, подобно восходу солнца, которое чем выше поднимается по небосводу, тем светит ярче и ярче».
(Вскоре после отъезда Лау на Родину приехала в Советский Союз его внучка Лю. Вышла замуж за грузинского художника Гиви Кандарелли. Более сорока лет преподавала китайский язык в тбилисском университете. Председатель грузино-китайского общества «Великий шёлковый путь».)
Лау Джонджау – пионер чайного дела у нас в стране.
В Китай он вернулся в 1925 году.
А через два года в Чакву приехала Ксения Ермолаевна Бахтадзе, выпускница тбилисского политехнического института.
Продолжательница дела Лау.
Академик ВАСХНИЛа.
Депутат Верховного Совета СССР.
Бахтадзе вывела более двадцати новых сортов чая.
За пять лет до её смерти я встречался с нею в Чакве.
И теперь я ехал в Чакву поклониться праху Великой Ксении.
Сердце пало моё, заплакало в Чакве, у могил Ксении Ермолаевны Бахтадзе и Владимира Андреевича Приходько.
Одним крылом селекционный питомник – чаи, бамбук, магнолии – взлетал к вершинке бугра, где в сырой тени ёлок супились, горевали за оградой два намогильных знака.
Отсюда как на ладошке море; у изголовья питомник, всё дело жизни. К участкам китайского, индийского, японского чаёв примыкают участки с новыми, уже выведенными здесь Ксенией Ермолаевной при поддержке Владимира Андреевича двадцатью сортами местного чая.
Ещё в девятнадцатом веке русские начали разводить чай в Чакве. Воистину, Чаква – «слон чайного русского дела».
Отошёл Владимир Андреевич в 1966 году – судьба отсчитала ему 64 года, – и Ксения Ермолаевна сама выбрала место для последнего успокоения в верхней точке питомника. Ограду заказала на две могилы. Мужу и себе.