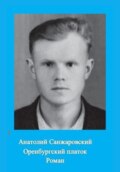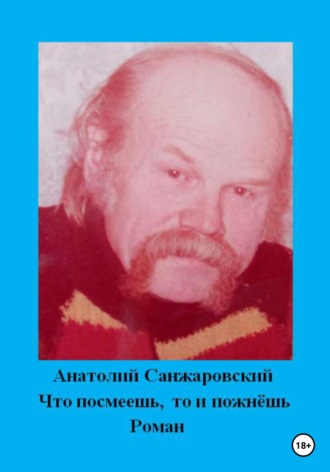
Анатолий Никифорович Санжаровский
Что посмеешь, то и пожнёшь
4
Мама прилегла.
А чем мне заняться?
Хлеб есть, свёклы кабану натёр, мешанка курам готова, воды натаскал… Чёрт, всё поделано!
Однако не сидеть же скрестивши лапки на пупке.
Неловко перед мамой.
Внимательней посмотри вокруг. В деревенском дому да не найти за что зацепиться? Ага, те же мыши. Надо к хулиганкам наведаться.
Я сказал маме, что пойду в сарай гляну, не попискивает ли уже там мой свежий законный рубляшик.
Мама принахмурила брови. Не понимаю!
Люда спросила:
– А там у Вас клад?
– Почти. Я, ма, заключил с Глебом договор. За каждую пойманную мышку он мне платит рубль. Я уже две красненькие[330] выработал.
– Бедно у тебя в кассе, бедно, – попеняла мама. – Их у нас развелось, гляди, уши пообъедають. Трэба крепко за них взятысь. А то до того поразъелись – и дома, и в сарае пеше ходють!
– Ничего. Я эти светские променады прихлопну.
Пообещал я это, и у меня сама собой отвисает нижняя челюсть.
В окно я вижу: из сарая на пуле вылетает какая-то чёрная кошка с мышеловкой на передней лапе и с дикими воплями проносится мимо дома.
Я из кухоньки к окну в большой комнате.
Кошка чёрно перехлестнула дорогу и меж голых, стылых акаций и лип кинулась куда-то в овраг, вплотную подступавший к посадке.
Хоть смейся, хоть плачь.
Видимо, чернушке лень ловить мышей. А может, они ей надоели. И она уже не охотится за ними, предпочитает разговляться-лакомиться колбасой из мышеловки.
Иногда в таких случаях справедливость ещё напоминает о себе. Всяко ремесло честно кроме воровства! Даже если ты крадёшь у воришки. Те же кошки платят тем, что капканы безбожно мнут им усы.
Эта налётчица, похоже, уже учёная.
Завидев колбасу, не схватила её сразу, а тихонько, наверное, попробовала снять лапой и своей хитростью вскочила в беду. Не всё Котофеевне Масленица. Живёт и Великий пост!
Я представляю, как видевшие плутовкино несчастье мыши катаются сейчас со смеху где-нибудь в бочке с зерном на погребице.
Мда-а… Мышкам игрушки, а кошке слёзки…
Из-за неё в прогаре и я.
Бог весть куда умотает мышеловку. Поневоле прикроешь столь пышно цветущий трест по ловле дармовых капиталов. К моей законной двадцаточке больше не прирастёт ни один весёлый грошик…
5
Уже при огнях вернулся с огорода Глеб. Горячий, в поту. Жаром несло от него.
Разуваясь у порога, широко сверкнул маме радостной улыбкой.
– Ну что, бабушка, лежите? Может, разомнёте косточки? Сходим в гости к Святцеву? Звал же!
– Иди ты! – разом обеими руками махнула на него мама, словно оттолкнула его слова. – Нашёл к кому… Всё-таки, хлопцы, врачи в районе у нас… По две стулочки позахвачувалы, сидять на часики поглядують, шоб додому скоришь. А ты хучь отмирай…
На два растопыренных пальца Глеб поперёк кладёт ещё два растопырика.
– Ты мне тюрьму не показуй, – снова отмахивается мама. – Шо е, то и кажу. В Ольшанке вон Зоя Хвёдоровна – як будто тёплыми руками здоровья подаёт. Пока её нету, все места себе не находят. Заждались!.. И сёстры скрозь разные. Одна делает укол… Навроде комарик сел отдохнуть. И обращение… Потрёт и не услышишь, как укол тебе отдала. А другая… Все от страха зеленеют. Кольнёт – як финкой садыкнёт!.. Всю правду рассказала, як размазала…
Помолчав, мама с добродушной иронией в голосе говорит Глебу:
– Хотела пойти, да лень не даёт встать… План был посмотреть, як ты там качаисси… Копаешь ли, не умер ли на лопате…
Хмыкнув, Глеб в одних носках идёт из передней, из кухоньки, в бóльшую комнату, тихо ворча:
– Что-то Вы сегодня расшутились…
– А тебе что, одному шутковать?
Мама с усилием подымается со своей койки у тёплой печки и следом за Глебом медленно входит в комнату, щурясь на ярком свету: от него отвыкли уже глаза в больничной палате. Как-то поражённо пялится на простенький во всю стену ковёр туркменской работы, спохватывается, обращаясь ко мне:
– Сынок! Хвалилась, хвалилась я тебе обновками, а про самую главную обновку забула. О! – показывает на ковёр. – Вся стенка одёрнута. Угадай, скилько отдали?
– Сот пять?
– Выще бери! – нетерпеливо выпаливает. – Семь! Тута брали… Хватит лохмоты вешать. Стенка… Какая там стенка? Так, названье одно… Между досками насыпали из кочегарки шлака – и вся тебе ото стенка!.. Стенка под ковром дохлая, сырая, в щелях… Так мы под ковёр подбили стари одеяла. Отодвинули от ковра сервант. Тамочки должен ходить свежий воздух. Господин Ковёр должен дышать. А как сервант, сатаняка, стоял плотно, плохо було большому ковру.
– Ну, Вы, ма, – с мягким, ласковым укором перебил Глеб, – не всё выкладывайте. Чего это ковру Вашему плохо? Может, ещё скажете, нам здесь с Вами плохо?
Гордовато-звероватым взглядом он окидывает комнату, снисходительно улыбается. Кажется, ему здесь всё мило, у души лежит. У других войдёшь – можешь и цыганского ковра не найти, а тут тебе все стены, весь пол одёрнуты дорогими коврами!
Глеб блаженно распохаживает в одних носках по стылому ковру. Пол худой, совсем рассохся, пудами пропускает холод. Из-под ковров стужа так и садит. Надо бы поменять пол. Да как менять? Дом не свой. Заводская эта гнилая шлаковая аварийная засыпушка, может, добирает последние деньки. Два десятка лет сулятся дать в новостройке.
Вижу, холод поджигает Глебовы ступни. Но Глеб ершится, хорохорится – нам ли мёрзнуть! – и в упоении тяжело упирается при ходьбе ногами в проседающий под ним пол, усиливая дорогой звон в серванте.
– Слышите?! – восторженно вываливает Глеб маме. – Какой же Вам сервант – сатана?! Это ж надо так понимать хозяина!
В самом деле. Ходит ли мама в этой комнате, хожу ли я – сервант молчит. А вот Глеб пойди, так половицы под его тушей начнут гнуться, и тоскливый хрусталь, тесно стоящий в серванте, принимается тонко, заискивающе вызванивать.
Собака всегда сразу узнаёт хозяина и как может пылко выражает ему свою радость от встречи с ним, облизывая ему руки, лицо. Неужели и хрусталь тоже узнаёт своего хозяина и тоже радуется ему, но – дрожа и скуля?
Глеб не надышится на свои ковры, на сервант с дешёвеньким хрусталём, на все три этажа культуры, как он окрестил тумбочку с установленными на ней радиоприемником и телевизором.
Тумбочка – первый этаж культуры – забита ветхими, полусопрелыми учебниками и конспектами Глеба. Дотолкался Глебушка лишь до третьего курса сельского института и бросил грызть гранит наук. То ли зубы повытерлись, то ли лень парализовала.
Печальные достоинства остальных этажей уже известны.
– Главное, – назидательно, с усмешкой выпевает Глеб, – красивый отделать фасад. Красиво жить не запретишь. Как видишь, – сановито повёл вокруг рукой, – фасад у нас недурён. По крайней мерке не хуже чем у других…
– А под коврами, – вкрадчиво уточняю я, – гнилые стены и пол; давно молчат телевизор и радиоприемник, плесень на книжках… Какая ж в этом фасаде красота? И за фасадом-то что? Ну, пришёл человек в гости. Потянуло, зажёгся включить весёлую технику. Да радио не желает разговаривать, только простуженно хрипит. Телевизор не желает показывать. Ничего не работает…
– И не надь! – пальнул Глеб.
– Будя, паря! Что ты терпужишь? – осаживаю я Глеба.
– Что есть… Отошли времена, когда люди шастали по гостям. Ты ко многим бегаешь чаи гонять? У тебя многие бывают? А мы, дярёвня, чем хуже столицы? У нас тоже гость не засидится. У нас тоже посиделки протоколом не предусмотрены. Рабочему человеку что прежде всего надо? Спа-атень-ки! Сон, он что богатство: чем больше спишь, тем больше хочется. Оно хоть и говорится, что сон не богатит, а что-то ничего милей и сильней против сна не стал я видеть… Сперва хотел отремонтировать ящик, да… Надоела эта жвачка для глаз. Лучше лишний часок поспать…
– А ты включи зараз, пока не уснул, – с лукавинкой подсказала мама.
Глеб безразлично нажал на клавишу.
Заслышав в теленедрах потрескивание, мёртво прислушался к нарастающим шумам.
– Выходит, телевизор работает, а ты жадничаешь включать?! – выпалил я нарочито оскорблённо.
Привалился Глеб опало к стене, молча хлопает изумлёнными глазами.
Показывали балет, больная мамина тема.
– Ты дывысь, ты дывысь, шо вытворяють! Биссовистни! Хиба цэ танции? Допрыгались… Обое боси. Вин без штанив, вона без тэплых рейтузив и гамашей, в одной марличке. Ани стыда ани совести…
– Ма, – тихо сронил Глеб, – и что б Вы понимали в балете?
– Шо и вси, – посветила слабой улыбкой мама. – Раз погано танцюють, я и кажу: погано танцюють. А соображенье в тильвизоре чистэ. Ранишь хуже показував. То дождь, то туман, то сниг уроде метелички… А зараз чисто показуе.
Глеб сунулся к задней стенке телевизора. Присвистнул:
– Вот так концертино в нашем борделино! Без заявки! Зачем было, братишечка, приволакивать эту новую жвачку?
– Для украшения фасада твоего. Чтоб быстрей засыпалось…
– Хитё-ёр бобёр! Марка та же, только в цвете… И дата хорошая, начало месяца. Поработает без дураков… Ишь, на тот же третий этаж вспёр… Я и не заметил… Ёрики-маморики! А брал, брал-то на какие тити-мити? – поднял он голос, потирая подушечкой большого пальца подушечки указательного и среднего.
– На твои. Которые аннексировал на вход в рай.
– А вообще жаль, – грустно сознался Глеб. – Я думал, достанешь мне дублёнку. Чтоб кожа естественная… Чтоб мех естественный… Цвет чтоб чёрный… Размер пятьдесят шестой… Я б в долгу не остался. С полсотняги кинул бы на конфеты… А ты до копеечки всё ухайдокал на эту цветную мудозвонь.
– Чудильник! За модой гонишься? На что тебе дублёнка? Северяне носят… Понятно, холода. А тут? Укрываться поверх одеяла?
Глава восемнадцатая
Что отдал – с тобой пребудет,
Что не отдал – потерял.
Шота Руставели.
Конец всему делу корень.
1
На похороны Кати Силаевой директор выделил машину.
Однако Глеб, месткомовский воевода, запротестовал, жестоко вскинулся против машины, твердя, что это не дело, варварство это провожать человека на кладбище на машине.
– Конечно, – первым поддержал Глеба Здоровцев, втайне надеясь, что сегодня на месткоме Глеб в ответ обязательно потянет его руку, и тогда заварушка с бидоном украденного на заводе масла наверняка сойдёт ему, Здоровцеву, мирно, без крови, – конечно, надо бы отнесть на руках… Честь по чести… Была б даль какая… А то ту даль до Трёх Тополей в полкилометра впихнёшь.
От нашего дома кладбище, всё затянутое сиренью (как хоронить – неминуче сирень рубить), было ещё ближе. По его краям с трёх сторон росли видимые отовсюду три могучих старых тополя. Эти тополя были чем-то значительно бóльшим, нежели просто деревья, они имели какую-то сверхмогучую, сверхъестественную силу, какую-то необъяснимую власть над Гнилушей, отчего я никогда не слыхал, чтоб в Гнилуше кладбище называли кладбищем. У нас не говорили: понесли на кладбище, а непременно: понесли под Три Тополя. Не скажут: похоронили, а обязательно: отнесли под Три Тополя.
Дорога к кладбищу ломалась в дугу у наших окон.
У тюлевой занавески мама поджидала, караулила похороны, и, когда они уже миновали наш дом, вышла, крестясь.
Четверо мужиков несли гроб.
Двое впереди, двое сзади.
Впереди шли Глеб и Здоровцев.
И вторая пара мужиков была такая же рослая и крепкая, как и первая, так что мама, глянув из придорожной канавы на гроб, не увидала лица покойницы.
Следом за гробом одиноко и мелко покачивалась маленькая, простоволосая баба Настя, в фуфайке, в сбитом на плечи тяжёлом сером платке.
Мама называла бабу Настю по отчеству – Кузьминична.
Усталая Кузьминична жалконько причитала:
Отлетела наша чистая ли горличка,
Отлетела щебетунья наша птичечка,
Что ко Господу ли Богу ее душенька,
К милосливому Иисусу на живленье,
Во его врата святые во спасенье!
Ты простилась со любимой своей горенкой,
Ты со мной ли, со родимой своей матушкой…
Ты великое мне горюшко да сдияла,
Вон из телушка мою ты душу выняла…
Перетирая последние слухи и порядочно отстав от Кузьминичны, осоловело брела пчелино гудевшая жиденькая кучка заводских.
Мама засеменила по удобному желобку высушенной за ночь морозом канавы, липко вслушивалась в Кузьминичну.
Красно солнышко мое закатилося…
Ясны звездочки за облачки тулятся,
Громы-молнии на небе разряжаются;
На могилушке-то матушка убивается,
Она горькими слезьми что заливается!..
Не воротится что красное-то солнышко
Со киян-моря да после-то закатушка,
Не вернуть и мне, горюше горе-горькоей,
Что своей ли ненаглядной дочи родноей!
Буду я да на могилушку учащивать,
Буду зде-ка долго-подолгу угащивать:
Я по дитятке творить ли поминание,
Для ее ли душеньки во вечное спасение.
А подруженькам твоим раздам я покруты,
Раструбисты сарафаны шелком вышиты,
Чтоб они за твою душеньку молилися,
Чтобы свещи в болтаре тебе теплилися;
Чтоб ходили на могилушку частешенько
Ранней порушкой, что утрышком ранешенько;
Чтобы все тебя подруженьки не забывали,
На беседушках горюшу б вспоминали.
А меня пускай возьмет скорей смеретушка,
Без тебя мне жизнь не в жизнь, рожона детушка:
Уж я старая стала, совсем старешенька,
Во крестьянскую работу негоднешенька;
Мне бы преж тебя, белой лебедушки,
Что лежать да спать в дубовой ли колодушке:
Никому на свете я теперь не нужная,
Ни на што про што теперя и негодная!
А придет как мне-то скорая смеретушка,
Кто закроет мне-то тусклы мои очушки
Без тебя-то, дочи-то моей родимоей,
Без тебя, рожоно дитятко, любимоей?..
Ох, уймись, уймись ли, сердце бедное,
Образумься ли, головушка победная;
Отвались от грудей, что тяжел свинец,
Дай закрыть глаза ты мне на белый свет!
Расступись, развались, мать сыра земелюшка,
Дай мне место не сомножечко в своих недрушках!
И чем дальше слушала Кузьминичну мама, тем всё ясней проступало на её лице недоумение.
Маме непонятно, почему Кузьминична голосит это сейчас, по пути на кладбище? Ведь это ж голосится уже там, у могилы. С горя всё перепутала?
И потом.
Чего жиличку родной дочкой навеличивать?
Не хотелось маме выходить из гладкой удобной канавы на дорогу в застывших комьях грязи, но не утерпела, выбралась-таки глянуть, по ком это так убивается Кузьминична.
На тот момент, похоже, кто-то в задней паре споткнулся о мёрзлую кочку, да, слава Богу, не упал, удержался, только несколько подался вперёд, припадая, отчего изножье гроба на какой-то миг осело, приспустилось, и того мига маме хватило увидать посверх маленькой Кузьминичны и белые туфли, и белое платье, и белые хризантемы в каплях крови покойницы, и лицо самой покойницы с остановившимся на нём выражением укора.
Лицо покойницы поразило маму.
«Да цэ молодый Глеб!» – прожгла её мысль.
На весь дух обежала кружком равнодушно гудевший людской табунок, упалённо наставила глаза на прямую, сильную спину Глеба с гробом на плече.
Это её успокоило.
Её Глеб живой.
Вот он вот ступает попереди всех, живой, неповреждённый…
Живой?
А может, то тень его несёт гроб?
Она гонит от себя глупые мысли, и в то же время её тянет за язык окликнуть Глеба, удостовериться, что он и в самом деле живой, идёт под гробом.
Она несмело зовёт сына, и сама же стыдится своего смятого, тихого голоса.
Глеб, конечно, не слышит её, не поворачивается на зов. Как шёл, так и идёт, не обходя ни глыбы комьев земли, ни блюдца луж, на которые мороз положил толстые ледяные стёкла.
Но она не решается вместе со всеми идти за гробом. Боится поднять голову, боится увидать укор и на лице Глеба.
За все свои долгие годы мама не встречала человека, чтобы так крепко, как пара глаз, был похож на её Глеба в молодости.
Кто эта девушка? Почему у неё Глебово лицо? Почему Кузьминична причитает над ней, как над родной дочкой?
Мама остановилась на обочине, отстранённо выждала, покуда не прошли все, и устало, будто выпала из сил, побрела назад к дому.
Дом наш стоит у дороги на кладбище. Не было ещё такого, чтоб мама не пристала к похоронам проводить будь кого до самого свежего могильного холмика.
А тут вот впервые возьми и вернись, твёрдо решив расспросить про всё у Кузьминичны.
2
Возвращалась Кузьминична одиноко и, пожалуй, последней.
Мама зазвала её, навела чаю, подала блюдечко.
– Кузьминишна! Вы у нас чаёвница. Лизнить чайку с малинкой. Согрейтеся… Варенье свежее. Капнешь – капля пуговкой держится… Это надо! Безо время ночью якый морозяка хряпнул. Капуста железна до шестого листа!.. Ну не томите, расскажить, кого Вы тамочки ховалы?
Кузьминичне против сердца разговор без подхода, необстоятельный, несерьёзный. А потому она, утягивая горячий чай с блюдечка, сипло возражает:
– Владимирна, Вы прям сразу… Кого ховали, кого ховали… Кого ховали, тому уже чаю не поднесёшь.
Кузьминична надолго замолкает.
Мама не напоминает про себя, выжидательно посматривает на Кузьминичну.
Напившись чаю, Кузьминична неспешно расстёгивает плюшевую фуфайку. Сталкивает платок на плечи.
– Я, Владимирна, – разбито говорит Кузьминична, – к Вам привернула на совет… Вот мы с Вами кочерёжки давние. Выпали из годных. Гроб, гляди, за задом волочится… А Вы хоть подумали, когда последний раз были в церкви?
Мама покаянно молчит, вспоминая.
– Да колы… – тихо роняет. – Як ще мала була. Покойница мама водила за руку…
– Оно и я ещё тогда была, до кроволюции, кара те в руки… Я, – Кузьминична плотно придвинулась верхом к маме, – грешная вся. Надо просить у Бога прощения. Я, сухопарая сидидомица, про это вот только зараз и надумала, как шла от Катерины…
В подробностях рассказав о Кате, об обстоятельствах её гибели, старуха горько засокрушалась, что на похороны никто из Катиных не приехал.
– Я две телеграммы матери услала. Ваш Глеб, начальник похоронный, отбил целых три от месткомовской властёхи. А мать и не ответила, и не приехала. Полную неделю Глеб с дня на день откладывал похороны. А ну нагрянут! Не дождались… Понесли… Тилипаюсь… Бреду я за Катей и мозгую, кто же она такая. Сирота? Так нет, при матери сирот не бывает. Не сирота? Так чего ж тогда здесь нету маточки?.. Надо б попричитать. А как? Как по сироте? Ни одного сиротского причитания я не знала, я и… Ей-пра, я и не хотела обвывать её как сиротку. Я и заголоси, как по взрослой дочери. Разве это не грех? Разве можно упокойнице врать? Как вот этот мой грех обозначить?
– Тут я Вам, Кузьминишна, не советчица… Не знаю…
– Да ну-ка б впервинку… Да ну-ка б этот грех один… А то покуда дошаталась от Кати, понавспоминалось до вихря… Я в своей молодости, – сняла голос до шёпота, – ох и разгрешница была… Парней соблазняла… Как такой грех в покаяние запишешь: от юности? В детстве ходила в церкву на Паску, ложила копеечку, а яичко восмятку брала. В голодовку взяла в колхозе без спросу сумочку проса…
Некоторое время старухи подавленно молчат.
– А вот это не грех? – вздыхает Кузьминична. – Ещё не закопали – стадом марахнули мужичары в красный уголок. Как же, поминки стынут! Водка стынет! Я не пошла на те поминки в красный уголок. Говорю: разве Катя свой век свековала в красном уголке? Пускай её выносили из мертвецкой, а я таки дома положила камень.[331] Катя жила у меня. У Кати был дом и устраивай поминки дома! А мужики: к тебе, Кузьминишна, далече. Мы за то, чтоб приблизить поминки к производству. Принял, размочил желудок и рви с огня, вкалывай! Им же главно упиться на пласт… Ну, принесли… В могиле воды по колено подо льдом. Ясно, вода наточилась. Ну сколь стояла ждала яма?! А яму даже на ночь нельзя рыть. Когда хоронить, в той день и копай. Глеб примчал из ближнего двора ведро на верёвке. На Глеба мужичьё дурноматом: гаси эти глупые нежности, трупу всё едино где преть! Глеб не послушался, сошвырнул ведро ребром на лёд. Лёд не рассёкся. Глеб и реши, лёд крепкий, может статься, до самого дна, и отступился, не стал колупать… Ну, опустили на чистый, как девья слёзынька, лёд, засыпали… Народ весь потёк назад. К поминкам. Состались у могилки одни мы с Глебом. Подобрал Глеб всю свежую земельку на холмок, пустился лопаткой мягко обстукивать холмок – холмок и провались. Скоро с укорным шипеньем из могилы зацвиркала, запенилась меж комьев вода. Не захотела помирать… Что же, говорю Глебу, делать? Погладил он меня по руке, просит: идите, покиньте нас однех… Любил он Катю… Любила и Катя… Это я знаю. Сколь раз она во снах его звала. Звала уже и в больнице, как отходила… В крайнюю минуту чужого имени человек не скажет… Они друг дружке самим Богом дадены. С лица до чего подобрались… Брат да сестра!
Старинные товарки сиротливо переглянулись и, столкнувшись лицами, разом заплакали.
3
Сколько живёт мама в Гнилуше, столько и знается с Кузьминичной.
Приятельство это негромкое, не видное постороннему глазу, но обеим радостное.
У Кузьминичны сад. Кузьминична ждёт не дождётся, когда дойдёт до дела садовина, и уже первые спелые грушовки, белые наливы обязательно принесёт в фартуке маме на пробу. Получив удовлетворительный ответ, примется таскать нашим садовину вёдрами. И будет носить, пока сад не опустеет.
Так уж слеплена Кузьминична. Все ближние дворы, у кого нет своих садов, будут с её яблоками до середины зимы. Всех оделит!
В отдарок мама носит Кузьминичне всё лучшее с огорода, носит вишни из предоконного палисадничка.
Приношения у старушек вроде повода повидаться. Соваться с пустом неудобно, а увидеться, поточить новостёнки аж горит как манит, вот они и носят одна одной угощения своей души.
Было недоразумением, если в какой день не встречались они.
И теперь, после долгой разлуки, они не могли наговориться, не могли вместе насидеться и наплакаться.
Они стесняются заикаться про то, что каждая ждала, до смерточки ждала другую, что соскучилась незнамо как.
Кузьминичну поджигает поведать, как она названивала Зое Фёдоровне в Ольшанку, как упрашивала:
«Вы не обижайте ж мою Владимирну. Делайте там что-нибудь… Лечите нáхорошо!»
И беда как зарадовалась, когда ей наконец-то сказали:
«Она у нас уже ходит. Ей лекша».
Кузьминична молчит про свои звонки в Ольшанку.
Вспоминая про них, только улыбается как-то светло, достаёт из потайного кармана плюшки тёплое красное яблоко.
– Вы у нас, Владимирна, болющая… Берить…
– От спасибки Вам, Кузьминишна, – с молитвенной благодарностью принимает мама гостинец. – Подай Вам Бог здоровьичка!
– Куда он денется? Подаст! – согласно, не без иронии махнула Кузьминична рукой и поспешила подкатиться с расспросами: – Ну как там, в Ольшанке?
– Та як… Хóроше! – похвальчиво и простодушно выпалила мама. – Я скажу… Не надо пужаться Ольшанку. Як бы здесь Зинка не дала укол, гляди, в дороге и перекинулась. Укол дали, я чуть согрелась. Там с машины под руки свели… Шо ж то за хворь тогда ко мне присатанилась? Всю трепае… Замерзаю, а щёки – хоть прикурюй! В Ольшанке, спасибо, откачали. Из самой смерти Зоя Хвёдоровна выдернула. От человек! Золота кусок! Без улыбки слова не скажет. Характер який! С народом як обходится… С машины вылазит, никого нема – улыбается. Сама вся така… То вжэ така в человеке заправа, всегда така будэ. А то Святцев…
– А я вот, – жалуется Кузьминична, – ползаю к нему на уколы. От серца… По науке прозванье ему кардиолох… Лох или лух? Разбери… Одно слово, кардиолух…Уколы у него дуже болючие. Нельзя нахилиться… Болит серце, прям горит. Другим разом грудь таки лёгкая, а башкатень болит… Давленье сниженное.
– О! – радостно подхватывает мама. – А у мене тоже заниженное. Оно хуже повышенного…
– Я пью всё взаподрядку!
– Напрасно, девка. Здоровье – всё наше золото, берегти трэба. А то можно напиться, шо отравитесь!
– На уколы к Святцеву я раз схожу, два с испугу пропустю. Мне сказали бабы, надо понемножку пить водочки, я и попиваю по во столенько – в стаканчике на полноготка.
– Не, Кузьминишна, то не дило… Мне вот младшенький навёз золотого корня. Будем вместях его пить, будем вместях повышать давление…
– Вы смотрите! – наивно детски удивляется Кузьминична. – Да у нас, Владимирна, и одни болячки!.. Сниженное давление… Вместях будем подвышать!.. – Смеётся: – Может, разом примрём, разом приберёмся…
– Кто знае? – задумывается мама. – Э-хэ-хэ… Живи, живи, ще и помирать трэба… Я. Кузьминишна, смерти боюсь… Хотя… Одна смерть справедлива. Всех привечае, никем не брезгуе… Никто у неё не откупится. Никто не отпросится. Никто не отплачется…
– Верно… Смерть честна… Смерть едина, как мать. Хорошая, плохая, а одна родила. Не две матери родили одного. Мы, нищие, сортируем людей. Тот умный, тот глупый… Тот директор, а этот сторож…
– А вышел секунд – смерть, Кузьминишна, принимает и сторожа, и директора… Смерть никем не брезгуе, всех подбирает. В какую щёлку ни залейся – выколупает и заберёт к себе. Вот… Что мы знаем?.. Умирает человек, у него дыхание перехватывает. То нету дыхания, а потом опять дыхнёт. Навроде как из милости смерть разогрешит ще який момент пожить… А ще боюсь, колы опустять в могилу и начнуть засыпать. Земля бух-бух-бух по лицу, по грудям… Я не вынесу этого! Выскочу!..
Кузьминична ласково усмехается.
– Да нет, Владимирна, не выскочите. Знаете, гроб по краям какими гвоздьми прихвачують? Длиньше и толще пальца!
Мама печально и обречённо смотрит на Кузьминичну.
– Была в Москви, – говорит тихо мама, – хóроше сделала, купила младшенькому одеяло зимнее. Это память долгая… Тёплая… Надо щэ Глебу и Митрофану купить по одеялу. А то внечай перекувыркнусь и памяти не оставлю…
– Ну-у! – надувает губы Кузьминична. – Вон Вы как запели! Да нам ли об отходе думать? Раз отпустила Вас Ольшанка, мы ещё с Вами всех воробьёв переживём! Оно и совестно сознаться… Одначе часом я чувствую себя дитём. Впала в детство. Чистю зубы детской пастой! Другой в магáзине не было… Хоть нас уже и давненько укололо под пенсию… Всё одно в наши помятые годы вёрткие бабки, случается, ещё в жёны записываются!
– Ваша правда, – теплея лицом, соглашается мама. – Вон лежала я в Ольшанке с Нюрушкой. Одна эта Нюрушка в хуторке завязла. Придёт волк – напужается! В больницу Нюрушка ехала одна. Зато назад поехала в паре… Спечётся же блинец! При нас привезли одинокого, как кукушка, старчика. Продал даве корову, совсем заходился в понедельник уйти на вечную жизню. Да всё дело вон куда крутнулось… Ну, выкупали его, одели в чистое. Он свою одежину в узелок да в голову. Лежит, квёлый, руки к сердцу собирает… Вывернулся откуда-то из области незваный внук. От пятой курицы десятый цыпленок. Цэй изворотистый чертяка на примусе и пытает деда: «Дедулио, где, в какой кубышке капиталики сокрыл? Давай, старый пим, гони мне на свадьбу». Дед сопел, сопел, промежду ушей всё пускал головорезовы слова, а там и пусти с ветерком: «Ах ты, кобелина пёстроглазый! Моих денег восхотел? В поле, выжига ты восемьдесят четвёртой пробы, в поле мои деньги!»
– О-хо-хоеньки, – горестно сникла Кузьминична. – Зараз на старых людей гоненье. Про стариков только и вспоминают, когда что да ни будь надо. Призвали в город в гости – набивай в сумяку курей, гусей, сала. Не нас – наши сумки ждут!
– Не скажить, Кузьминишна. Не везде под одну шерсть. Не везде. В каждом сарае свои блохи…
– Может, и так. Не спорю… Чем там с дедом кончилось?
– А тем, что ушёл понедельник, а дедок живой. Он же в понедельник разбежался помирать! День ото дня дедку… Сегодня лучше… Не как вчера… Приискал себе под пару мою Нюрушку…
И час, и второй согласно льётся беседа.
Обстоятельно, до блеска отмыты все гнилушанские истории.
Подружки уже устали одна от одной, посоловели, но разойтись выше их сил.
Наконец Кузьминична, открытая душа, смято поглядывая в окно на предвечерний двор, сетует:
– Такой день маленький, такой день маленький… В два двора сходишь и больше никуда не сходишь. Туда-сюда и день пропал, дня нету… Мне ж ещё к свахе надо. Хворает… Позавчера не дошла до неё, так вчера в пух разбранила. Чего, говорит, не приходила? Чудок не померла, да чтой-то осечка вышла. Смотри, говорит, а то примру и отделаюсь, а ты и не узнаешь. Надо зайти…
– Ну, зайдить, зайдить, – благостно разрешает мама.
Кузьминична сосредоточенно застёгивает, забирает свою плюшку на верхние пуговицы. Не в спехе оглаживает, одавливает её.
– Надо идти. Время. Куры уже на насест летят… Ладком мы с Вами посидели. Надо и честь знать. Я своему гостю, брату из Киева, – летом вот наезжал, – сказанула: хорошо, что приехал, да спасибо, что ненадолго. А сама…
Минут ещё сколько старухи толкутся у двери. Отоптали все сени, Никак не расстанутся.
– Э-э-э! – спохватывается Кузьминична. – Чуть не забыла… Та же сваха с полмесяца назад звала меня на печёнку. Я сегодня-завтра, сегодня-завтра… Приползаю, а сваха и говорит: нетуньки печёнки. Я так удивилась и спрашиваю: а что, баран был без печёнки? Быть-то была, да умолотили… Без моей подмоги…
В конце концов Кузьминична уходит.
Не дойдя и до угла дома, не бегом ли возвращается.
– Оё, чёртова простокваша! – на весь двор сокрушается. – Ить воистину, худая голова – плохой товар! Сколь цынбалы разводила, да про наглавное, Владимирна, так и не доложила!
В сенцах Кузьминична тесно припала к легко выскочившей навстречу маме, зачастила вшёпот:
– Про Катю про покойницу… В мертвецкую снесли её в больничном халате… Ага-а…На новое утро смотрят… Халат пропал, и лежит Катя во всём белом невестином убранье. В том убранье и схоронили. Я от себя, от своей воли положила с нею её последние хризантемы… Хризантемы она люби-и-ила не сказать как…
Мама поднимает на Кузьминичну оробелые глаза.
– Кто же, Кузьминишна, её переодевал в свои покупки?
– А кабы знатьё, разве б я умолчала? До точности никто ничего не знает. Бабы по Гнилуше таскают гибель всего разного. Ни в какую гору не складёшь. Одни твердят, божье то дело. Другие Бога не трогают. Сходятся на том, что это какой-то божий человек сделал. А кто именно?
Старухи в крайней озадаченности молчат.