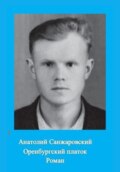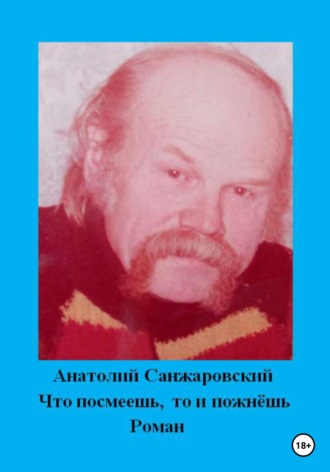
Анатолий Никифорович Санжаровский
Что посмеешь, то и пожнёшь
Наконец я замечаю, что у родителей на всё про всё лишь по одной руке. Может, поэтому и плачет младшая? Тогда чему рада старшая дочка? Да и сами родители, судя по развесёлым лицам, вовсе не делают трагедии из того, что у них по одной руке.
– Знаешь, – честно признался я, – я совсем запутался в твоём рисунке. Распутай меня назад. Расскажи, кто здесь кто.
– Это, – старательно показывает пальчиком, – папка. Это мамка. Ведут Ляльку… Им всем весело… Им всегда весело… А эта… в углу рисунка… сзади… я…
– Отчего же ты плачешь?
– А оттого, что за Лялькой они никогда не видят меня. У них по одной руке, им хватает для Ляльки. Для меня у них никогда не бывает рук…
Вспомнил я тот вечер, когда провожал Митрофаново семейство с пирушки у Глеба. И взаправду Лизавета и Митрофан держали за обе руки Ляльку. А Люда, не удержавшись за материну сетку, набитую картошкой, упала, отстала, и в слезах брела по ночи сзади одна…
6
Из тесноты у кассы Глеб еле вытолпился.
– Ну, добыл на проходящий. Не сидеть ждать. Да… – машет билетом в сторону заляпанного окнастого «Икаруса», что мягко подкатывал к стоянке, – вот он и собственной персоной.
Автобус остановился.
Из прогала двери посыпался народ.
– И место у окна! – продолжал Глеб. – Вот тут. На нём досиживает последние секунды какая-то мамзелино в чёрном.
Тяжёлой нетерпеливой ладонью Глеб с улыбкой хлопнул по стеклу у самого выхода. А ну подымайся! А ну подымайся, живей освобождай место!
На стук оглянулась женщина в чёрном – и она, и мы с Глебом остолбенели.
Это была Мария, Мария Половинкина, та самая Марусинка…
Боже, пути господни неисповедимы.
Я помню Марусинку молоденькой красавицей. Тонка, как травинушка, бела, как сметана… Это было так давно, это было так далеко… Местечко Насакирали близ Батума.
И было тогда и Марусинке и Глебу по восемнадцать.
Сейчас и Мария и Глеб стояли на пятом десятке. Долгие годы помяли обоих, износили. Разбежался в плечах Глеб, хотя и теперь его не выбросишь из десятку. Ещё меньше стала Мария, святая душа на костылях, болезненная и тихая.
Тогда, в Насакирали…
Глеб ушёл в армию, а забеременевшую от него Марусинку силой выжали отец-мать за залётного ухажористого молодца Силаева. Приезжал в гости к одним. Выгостил свою неделю и увёз Марусинку куда-то к своим в Россию.
Сразу из армии Глеб поехал к родителям Марусинки, просил дать её адрес. Хотел забрать свою половинку. Но адреса ему не дали.
Глеб разбежался толкнуться к тем, к кому прилетал погостить Силаев.
Те тоже давно уже уехали из Насакирали.
Ни с чем Глеб и покатил тогда к нам в Каменку. К той поре мы с мамой и Митрофаном уже жили в Каменке. Ехал Глеб через Лиски. И не знал, не ведал, что именно в Лисках жила теперь Мария. И вообще от Лисок до Каменки с полчаса пути. Долгое время они совсем друг подле дружки были, а не знали про то… По одним лискинским улицам ходили. Ведь Глеб раз пятнадцать по полмесяца жил в Лисках, куда приезжал на ежегодные курсы компрессорщиков.
Как-то в новогоднюю ночь перегрелся её благоверный с дружками. Без билетов набились компанией в проходящий поезд. Надумали к его сестре ехать в Сочи купаться.
Но до Сочи далеко показалось ехать, и вывалился он мешком на ходу из вагона в Дон… Проехал всего-то с километр… Он погиб…
Смерть дочери застала Марию в больнице. Телеграммы ей не показывали, боялись, не стало б хуже. И лишь когда немного окрепла, главврач с извинениями отдал-таки целый пук телеграмм. Мария тут же собралась в Гнилушу забрать с чужой стороны Катю… (От Силаева у Марии не было детей.)
…Глеб помертвел, узнав, что Катя Силаева – его родная дочь. И похоронные телеграммы, выходит, слал он Марии, своей Марусинке, вовсе не подозревая, что это была именно его Марусинка… его половинка…
Горько было видеть, как эти уже немолодые, привялые плачущие люди, держась за руки, скользя по грязи и едва не падая, шли по скатывавшейся сверху раскиселенной оттепелью улице. Они шли вверх, а их сносило, они съезжали, при этом безнадёжно взмахивали руками, резко невольно кланяясь то вперёд, то вбок, но, Бог миловал, они ни разу не упали и с каждой минутой всё дальше утягивались-таки вверх по трудной, скользкой дороге, ведущей мимо больницы, мимо завода, мимо нашего дома к кладбищу.
Родители Марии развели её с Глебом.
Зато уже мёртвая дочь Глеба и Марии через долгие годы снова свела эти две половинки.
7
Рядом со мной оказалось место Зои Фёдоровны.
Я обрадовался такому соседству.
Да и сама Зоя Фёдоровна не огорчилась.
Вскоре я знал всё, что не мешало мне знать, а именно: ехала Зоя Фёдоровна в облздрав за новым оборудованием для Ольшанки. Новое оборудование – это так, сбоку напёку. Главное, ехала она на дело Святцева.
Наконец-то столкнуло воз с мёртвой точки. Допекла Зоя Фёдоровна, сама Виринея Гордеевна занялась-таки Святцевым. Говорила с Зоей Фёдоровной по телефону, клялась отозвать Святцева в аспирантуру, а на его место пришлёт нового терапевта.
Предыдущим рейсом отправился на разговор главный врач Веденеев.
Нашим рейсом должен был ехать Святцев.
А его что-то не видно.
– Наверняка прорежется на станции минуту спустя после отхода автобуса или перехватит автобус где-нибудь у прокуратуры, – предположила Зоя Фёдоровна.
Так и вышло.
У прокуратуры, на развилке, автобус стал.
– Вне сомнения, – улыбнулась Зоя Фёдоровна, – это голоснул он. Не выносит очередей у касс, предпочитает совать натуру ездюкам в руки. Оттого его знают все шофёры, останавливаются, где он ни вздумай. О! – качнула в окно взглядом на Святцева, суетился у передней двери.
Автобус набит – руку не воткнёшь.
– Товарисчи унд милые товарки! – хмелько завопил на полную отвёртку крайний на порожках мужичок. – Христом-Богом прошу, разом выдохните на полчеловечка. Впустите женщину с пьяным дитятком!
Судя по тому, как весело перемигивался Святцев с этим в муку пьяным мужичком, были они коротко знакомы.
Святцев хлопнул хваченого мужичка по тощей недвижимости. Так же весело потребовал:
– Жалобней кричи! Не слышат народы гласа беды. Ну не шевелятся!
Наконец Святцев вдёргивает в толпу руку, вдавливается одним плечом и – вываливается из давки.
Обхватив крайних, вкогтившись в них и прочно привалившись к ним верхом, он вжимается-таки в людскую стенку.
Створки двери сошлись неплотно, оставив на воле святцевское плечо.
Автобус двинулся с приоткрытой дверью.
Увидав меня с Зоей Фёдоровной, Святцев как-то смешанно кивнул.
Я тоже ответил кивком, а Зоя Фёдоровна, смутившись отчего-то, виновато наивно показала ему свой тугой кулачок.
В этом жесте пробрызнуло что-то чистое, близкое, понятное только этим двоим и держащее их вместе.
…Девчонки, с кем в одной комнате жила Зоя, – было это ещё в институте, – спрятали в день регистрации её паспорт.
«Не дадим тебе с ним сойтись. Слухи носят, отец у него был дезертир. Да в газете ещё печатали: ради корысти оформил папаня-хват брак уже с покойницей. С сынком такого вязаться – стыдобу на всю жизнь принимать».
Так отговаривали, так отговаривали…
Если б не отговаривали, Зоя, может, ещё и подумала подольше, идти не идти. А коль всем митингом удерживали, так в пику всем подала заявку в загс на самый близкий день. Она считала, что сын за отца не ответчик. И потом, что же по отцу судить о сыне?
Весь курс недолюбливал, не переваривал Александра. Может, только потому Зоя и была с ним пооткровенней, посочувственней. За всех! Отошёл загсовский срок, пропал; записались на новый, и паспорт Зоя отдала на хранение Александру. Уж никакие вертушки ей больше не помешают…
– Слушай сюда, Асмодеич! – толкнул Александра в локоть мужичок под градусами. – Новенький, горячий, ещё шипит-шкварчит. Только со сковородки сковырнул. Один, значит, пришёл к одной. То да, понимаешь, сё. Звонок. Муж. Что делать? «Прыгай с балкона!» – командирничает она. «Восьмой этаж! Убьюсь до смерти!» – жмётся этот перехватчик. «Тогда муж тебя убьет!» Выбора нет. Прыгнул. Летит и молит Бога: «Господи, спаси только! А я гулять брошу, пить брошу, курить брошу!» Упал в сугроб. Отряхивается и говорит: «Летел всего три секунды, а сколько гадостей успело придти в голову. Фу!»
Рассказчик и двое ближних парней сдержанно смеются.
Святцев ржёт, как в лесу. Работает дядя на публику. Причём работает с браком. Пережимает. Всем своим видом, всем своим поведением он твердит: вот мчат меня с дудками на ковёр, а мне всё то трынь-трава, рай на душе, вот я и пропадаю со смеху.
Да смех что-то чужеватый.
Пробавляясь анекдотами с попутчиками, он время от времени кидал на нас с Зоей Фёдоровной нервные взгляды скользом, опасливо, маятно вслушивался в наш разговор.
– После встречи с вами, – вслух рассуждала Зоя Фёдоровна, – я много думала. Да простите мою выспренность о силе газетного слова, но я прибилась к твёрдой мысли, что для меня лично все романы мира не стоят одной вашей статьи «Любовь под следствием».
– Ну-у… Юморок у вас злой…
– Напрасно вы так… Роман – это роман. От романа кому холодно или жарко? А не будь вашей статьи, наверняка не было бы и меня… Я-то свою бабушку распрекрасно знаю! Не было б целой семьи вообще какая есть: мой отец, моя мать, мои младшенькие две сестры, два брата. Сила у статьи несборимая… И с другой стороны заверни… Часто писатели пишут истории своих романов. Но я что-то ни разу не читала, как была написана та или иная журналистская статья. И вообще мне кажется, журналисты, эти верные слуги Правды и Добра, в чём-то недооценены, держатся в тени…
– Ну что прикажете? Нож в зубы и наплясывать лезгинку? Обыкновенные люди. Обыкновенная работа.
– Не скажите. Не скажите…
Тут автобус остановился.
– Эй! Передняя площадка! – сухим, жёлчным голосом пустил в микрофон водитель. – Чего лыбитесь? Ну чего порасчехлили лапшемёты? А ну отвали от дверей! Пускай Сан Саныч весь войдёт. Он же наполовину на улице! Выпадет ещё!
Казалось, автобус качнулся от сильного взрыва хохота.
– Га-га-га, – уныло, передразнивающе произнёс по слогам в микрофон вошедший в распал водитель и выскочил заталкивать остатки Святцева.
Все уставились на переднюю площадку.
Одни искали глазами полицезреть, кто же такой этот легендарный Сан Саныч, которого знает сам областной водитель. Другие, кто был ближе к окнам справа, припали к стёклам, со смехом наблюдая, как водитель рьяно запихивал Святцева, хвост его плаща в приоткрытую дверь.
Я тоже разлил щёку по стеклу, следил за сердитым шофёром. И чем дольше смотрел на него, тем сильней вызревало во мне странное чувство.
«Неужели тот самый? – оторопело думал я. – Неужели?.. Чёрная родинка, на правой мочке уха… Он… Да ведь он и сюда вёз! Сам он ещё заговаривал… Тогда я не узнал. Не до него было…»
– Почему вы переменились в лице? – насторожилась Зоя Фёдоровна. – Что там такое?
Привстав, она тоже посмотрела в окно, куда смотрел я, и, не увидав ничего особенного, пожав плечом, села обратно.
Наконец весь Святцев втолкнут в салон.
Дверцы за ним сошлись плотно, надёжно.
Мы поехали.
Завертелись, зашуршали жернова беззаботного, дорожного разговора.
Пока человек в пути, никакие дела, большие и малые, не смеют достать его. Оттого, кажется, человек в пути добрей, оттого в эти отдохновенные минуты он охотней, с лёгким сердцем вяжется в беседы с незнакомыми.
Я смотрю на радостные лица в этом новеньком, улыбающемся автобусе и думаю про то, что никто и не догадывается, что за леший-красноплеший за рулём.
– А вы знаете, – как бы между прочим говорю я Зое Фёдоровне, – что вы едете вместе с человеком, по злой воле которого вы могли и не родиться? По злой воле которого Александр прежде времени лишился отца?
Зоя Фёдоровна напряжённо заставляет себя улыбнуться.
– Разыгрываете?
– Ничуть. Это ваш непрошеный крёстный из Ряжска, бывший судебный исполнитель, опять же бывший следователь Шаманов… э-э-э… Шиманов. Не без протекции вашего покорного слуги переметнулся в ездуны.
– И эта зла мельница ведёт наш автобус?
– В том-то и весь парадокс.
– Для начала нелишне бы глянуть, что за… А потом… Совсем без ума сделалась… – бледнея, бормочет Зоя Фёдоровна, беда и выручка наша, ясное дитя ряжского скандала.
Острым, тонким, сильным плечом она рассекает толпу, продираясь к зашторенному мятыми, холодно-тёмными занавесками водительскому углу.
От двери за ней устремился Александр.
Конечно, он слышал, что я сказал.
Зачем я вот так спроста вывалил всё это?
Не лучше ли было смолчать?
Что же сейчас будет?
Неожиданно ярко ударило в глаза солнце.
В оконце меж свалок туч впервые пробилось оно за все мои гнилушанские горькие дни.
Не теряя дьявольской скорости, со стоном кренясь, автобус резал излом широкой бетонки.
Дорога забирала, властно заламывала в крутой долгий поворот.
Воскресенье 6 сентября 1981 – четверг 14 апреля 1983
Реквием по советам. Эпилог
«Зачастую в светлое будущее нас звали за собой люди с тёмным прошлым».
Коммунизм – это фашизм бедных.
Генрих Бёлль
1
После того как поймешь простые истины, хорошо бы понять еще более простые.
С. Тошев
– Здравствуйте, папа…
– Здравствуй, сыне… Навконец… Навконец-то… И кто? Меньшак! Каюсь, тебя-то как раз я меньше всего и ждал.
– Почему?
– А вспомни, мой горький младшик, как мы прощались… Да где тебе вспомнить… На всё про всё было тебе три лета. Уходил я на фронт утром. Была смертная рань. Я поднял тебя с койки, хотел поцеловать. Так ты распустил тюни… Стал вырываться… Раза три сыпнул мне голыми пяточками по лицу. Вырвался-таки и в одной рубашонке, унырнул под наш барак на низких столбках… Стоишь на коленях-руках, ревмя ревёшь. Так мы и не простились.
– Какие с глупского детства спросы?
– И то верно… Что ж такие у вас долгие сборы? В полвека не втолкёшь… Лежи жди. Это неправда, что мёртвые не видят, не слышат. Железная ветка и станция рядом. Внизу. Я вас всех сверху, отсюда, с горки, видел. Не по разу мимо проскакивали. Митрофан то в техникум, то на каникулы. На год по два конца туда-сюда, туда-сюда… Позапрошлой осенью в Адлере в санатории жировал. На Рицу ездил. Перед ним автобус с людьми сорвался в пропасть… Всё ахал на абхазские горы. Палец-гора – шестьдесят метров ростом – особенно легла к душе… А ко мне и носа не высунь… И Глеб в армию… Из армии… Даже Поленька наша раз промигнула вместе с тобой…
– То возвращались мы из Грузии на Родину.
– Наконец-то вырвались из каторжного чайного ада! Даже отсюда, из могилы, я видел по утрам, как бригадир Капитон бегал по посёлушку и стучал палкой в каждое окно, будил в работу: «Аба!.. Вставай!.. Сэгодня воскресень, работаэм да абед! Аба! Вставай скорэй». А было всего-то если не пять, так только четыре часа утра. В такую рань по воскресеньям гнали на сбор того проклятухи чая… Наконец выпрыгнули из этой чайной могильной ямы… Ну… В сторону этот чай!.. Ты… А ты? Ты без конца веялся мимо. Командировки… В Батум. В Тифлис. В Ереванко. А заодно, раз тут при близости, и в Насакиралики наведывался. Оно, конечно, кому не в охотку глянуть на места, где возростал… Скучаешь. Но почему по батьке никто не заскучал? Иле не знали, что я здесь? Разве вам власть не писала – похоронетый в Сочах?
– Писать-то писала. Да искать-то где? Развалились те Сочи на сто двадцать километрищев вдольки моря. Сыщи ветра в горах! Да я сам сперва сколько раз писал тем властям? Просил сообщить, где именно Вы похоронены. Нам не отвечали. Мы и реши, никто Вас не хоронил. Вынесли за госпиталев забор и весь расчёт. По газетам, у нас везде проклятуха глянец. А в новгородских, в псковских, в ленинградских лесах до сей поры спотыкаются о солдатские косточки. Где пуля остановила, там и схоронила. В эту зиму снова написал. То ли гласность затюкала – ответили сквозь зубы. Похоронен в братской могиле на Завокзальном кладбище в центре Сочи. От железнодорожного вокзала можно доехать на такси, расстояние полтора километра. Откуда они взяли эти полтора? С платформы сразу на мост над путями, взбежал на горку по каменной лестнице и у Вас.
– Спасибо, сынка, что наведался. Я боялся, что никто так и не покажется. Невжель хорош и был, покудушки в рот подавал? Подымай, подымай и на. Никтошеньки! К другим худко-реденько наезжают… А ко мне… От соседей совестно… Ну да ладно. Рассказывай, как вы там. Среднюю школу все покончали?
– Да вроде. В одно лето я кончил школу, а Митрофан молочный техникум на Кубани. От Вас совсем рядом. Кончил он красненько. Как отличнику – выбирай сам себе место работы. Он и выбери город Серов. А после раскинул спокойненько умком, за головушку за бедную и схватись. Господи! Да на кой кляп нам тот Урал? Чего менять одну чужбину на другую? Разве мало навидались мы лиха в Грузинии, в «стране лимоний и беззаконий»? Хорошая земля Урал, а лучше драпану к себе на Родину! И дикой полночью, в одних трусах жиганул по общежитию меняться. Серов! Город! Большой город! На любую воронежскую деревнюху! И выменял у одного дружка Тришкина.[348]
– Умно! Умно!
– Мы сразу с Митрофаном уехали в Каменку. Это посёлочек под Лисками. Потом из армии вернулся к нам Глеб. Я поехал в Насакирали, еле уговорил маму бросить тот каторжный, рабский чай и увёз в Каменку. Года пенсионные ей ещё не поспели, а мы всё равно не пустили её больше ни в какую работу. Три лба одну мать не прокормим?!.. Митрофан был механиком на маслозаводе, а мы с Глебом разнорабочими. Я кочегарил и писал в газеты. Через год меня направили работать в редакцию. Вжался заочно учиться в университете на журналиста. В Ростове-на-Дону. Недалеко тут от Вас… Менялись редакции. Менялись города… И кружило, кружило по провинциальным стёжкам, пока не прибило к московскому бережку. В Москве и прикопался.
– А наши всё так и живут в Каменке?
– Нет. Года четыре там помучились, и Митю перевели в Верхнюю Гнилушу. Это на севере нашей же области. С ним переехали и мама с Глебом. Митрофан добежал-таки до директорского кресла на маслозаводе. Потом власть подпихнула его в председатели колхоза. Глеба уже пенсионер. Компрессорщиков в пятьдесят пять выпроваживают.
– Господи-и!.. Уже сыновья стареют… Не вдвое ли старше против меня… Дети у всех?
– Только у Митрофана. Три девки. Сдал России под расписку… Уже распшикал под загсовскую расписку. Недоверчивый… У меня… пока никого… Как ни старались…
– Значит, плохо старались. Плохой из тебя стахановец…
– Ну… Дело не в стахановце… Наверно, есть на небушке силы, руководят нами… Вот сверху голос нам был: какую жизнь вы при Советах прожили – такой жизни ни одной собаке нельзя пожелать. А вы в эту жизнь тянете своих детей! Подождите. Проводим вот Советы к хренам, тогда и зовите деток в новую жизнь.
– А годы что говорят? Дозовётесь? Зовутки не помрут?
– Зовутки у нас вечные! А вот деньки Советов катятся к похоронам. Отходит их жизнь… Мы столько настрадались в бездольной советской житухе, что все её ужасы напугали и наших ещё не зачатых детей. И боятся они идти в нашу жизнь… Ничего ж нет в мире страшней нашей рабской жизни при Советах! Хотя… До жизни римского раба нам никогда не допрыгнуть. «Римский раб гарантированно получал от рабовладельца литр вина и краюху хлеба в день. В случае невыполнения этих обязательств хозяин должен был бы его либо убить, либо отпустить». Зато в кремлёвской столовой в меню 144 блюда. О жили слуги народа! Зато сам господин народ не всегда имел к обеду сытый кусок хлеба.
– А кто спорит? Расхор-рошую жизню состроили Советы! Гибель ско-олько народу шиковало по сталинским дачам![349] Сколько полегло в незаконных репрессиях! Так смелее додавливайте те проклятые Советы!
– Они сами себя уже раздавили своей ненавистью к простому Человеку. Накрылись тазиком… Тут дело решённое. Россия вбежала в новую жизнь. И уже в новую Россию придут наши дети! Первый счастливка уже поселился под сердцем у Валентинки… Она вот со мной рядом… Моя жена…
– Спасибко, дочушка, что наведалась… Не смущайся, не красней у доброго дела…
– Мы с Валентинкой, пап, не промахнёмся… А вот Глебушку жалко. Отец наш Глебий ведь вовсе не женился!
– Это ещё почему?
– От житухи роскошной… С мамой они тридцать лет протолклись напару в одной засыпушной бомжовой комнатёхе. На двенадцати гнилых квадратах! Дом-то – сарай аварийный! Свои года отслужил чёрте когда.
– Да где это видано, чтоб взрослый сын и мать жили в одной комнате? Иле они звери? Где это видано?
– А-а, па… У нас ещё не то видано… Не мог Глеба жениться, хоть девчонок хороших у него ско-олько было… Одна Катя чего стоила… А… Приезжала к нему из Насакиралей Марусинка, любовь из юности… Покрутились, покрутились… Не отважилась она жить с ним в одной комнате с матерью… И разве за это её осудишь? Да и он… Ну, говорил он мне, как я приведу жену? Как я лягу? Рядом же койка матери! Не чурки же мы с пластмассовыми глазками… Не скоты… Так и не женился. Рассудил… Дадут просторней конурёнку, абы не спать в одной комнате с матерью, женюсь. Ещё успею. Это дело не ускачет от меня на палочке. То даже не подавал заявление на жильё у себя на маслозаводе. А я подкрути гайчонки – отнёс. И вот сидит ждёт ордерок. Тихо, без шума. Смирно прождал пятнадцать лет. Что-то не несут ордерок… Я каждое лето бываю у них в отпуск. Был и в прошлом году. Раздраконил Глеба, еле заставил пойти узнать, в чём дело. Оказывается, ни в какую очередь его не впихнули. Заявление честно-благородно утеряли. Что и следовало ожидать. Отпуск кончался мой через два дня. Я обежал все нужные конторы. Соскрёб нужные бумаги. Осталось райначальству снести. Оно обманом ушло от встречи. А я и не набивался особо. Послал в Кремль, президиуму съезда депутатов. Кремль столкнул бумажонки этажом ниже. В область. Область – в район. Сунули наших в очередь. Сто двадцать шестая! Общая многознамённая.
– Ка-ак общая? Они безо всякой должны очереди! У них же целый бугор льгот! Взрослый сын и мать мучаются в одной комнате тридцать лет – раз! Дом-сарай аварийный – два! Семья погибшего – три!..
– В том-то и гнусь, папа, что гнилушанская райсоввласть не считает Вас погибшим. Так и сказали. В справке написано: умер в госпитале от ран. Фи! Умереть от ран где хочешь можно. А ты добудь нам справушку, где чёрным по белому будет начирикано: Ваш такой-то погиб в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество. Надо чтоб обязательно погиб в бою. Только это тянет на льготу. А умер от ран – это недоразумение.
– Ах, сволота! Ах, сволота-а!.. Да что ж я, от обжорки иль от ресторанных ран спёкся? Не знаешь, так пошерсти законы. Найдёшь. Только за что и дают той гнилушанской властюре-петлюре хлеб с маслом? Жрёшь хлеб, так хоть законы чти! За это тебя кормят. Тыкни их пасекой в двести девятое совминовское постановление от 23 февраля 1981 года. По-русски ж там отрублено: имеют льготы семьи не только тех, кто умер от ранений, но и тех, кто даже лишь заболел на фронте… Ах, сволота-а… Додави, сынок, это верхнегнилушанское райдерьмо, добудь мамке сносный божий угол. Не могу я покойно лежать, всего трясёт её беда. Ей ли в восемьдесят два года гнить с сыном в падающем сарае? Дождь дуется ещё за Гусёвкой, а они в своей недоскрёбке распихивай всюду тазы да вёдра. Где ж тут быть покою? Ты Митрофания подожги в союзнички на добрейское дело. Председателёк. Какая-никакая властёшка.
– О! За своё тёплое местынько он костьми падёт. Этому трусу всякий заяц в райкресле тигром мерещится. Я за Гнилушу, он и ну Глеба тиранить: «Чего этот писарь кадил по начальству? Меня теперь тут слопают и пуговички забудут выплюнуть. Зачем ты ему разрешил?» – «Да сколько ж нам терпеть эти квартирные страхи?» – «О! Тридцать лет это жильё тебя устраивало, а теперь не устраивает?» – «А тебя сколько такое жильё устраивало? Забыл, как вырывал себе хоромы?» После женитьбы Митрофан, молодой специалист, попрыгал-попрыгал года три по развалюшкам и засобирался вкатиться в новый дом. Ни окон, ни дверей ещё не было, а он перетащил туда все свои тряпочки-тапочки. На ночь клал топор в головы. Оказывается, на его трёхкомнатную резиденцию твёрдо положил восхищённый глаз новенький райпрокурор Блинов. Он позже Митрофана приехал в Гнилушу. Прокурор тоже досрочно собирался влететь на вороных. Но лопухнулся. Митечка выпередил. Так коммунист у коммуниста чуть глазик не вырубил. Что там ваши во́роны! Топорок произвёл на прокурорика неизгладимое, неумирающее впечатление.
– Как коммунист – так нет человека! Кто у нас ещё в роду коммунист?
– Митечка в гордом одиночестве.
– И слава Богу, что лишь один. Коммуняка за своё поганенькое креслице от всей родни открестится… Ну, как он, наш партейный подпёрдыш, сейчас крутится, когда прижали хвосток коммунякам?
– О! Этот лук-бруевич[350] как истинный хитрожопый коммунист вывернется везде. Перевёртыш ещё тот! Он всегда там, где выгодней. Была партия на коне – он был в ней. Накрылась тряпочкой – он к партии уже крутнулся задом. Из дрын-бруевичей, похоже, наш преподобный Митрофаний, наш Митечка драпанёт в митричи[351]. Говорит, займусь бизнесом по-русски.
– Это что ещё за такой бизнес по-русски?
– Ну-у… По части бизнеса он у нас дока. То занимался бизнесом по-советски. Сляпал у себя в колхозе комплекс на полторы тыщи коров. Чёртова советская гигантомания… Конечно, по команде с партверхов. И поставил такое стадище на решётчатый пол. И стадо погибло. Конечно, оно не пало…А ну корова постой на решётке месяц, другой… Коровы обезножели и их пришлось пускать под нож… Крепенько умылся наш бум-бруевичок с комплексом своим… Это был бизнес по-советски. Теперь этот наш бывший прыщ-бруевич мостится кинуться с головкой в бизнес по-русски.
– Да что это за счастье?
– А-а… Бизнес по-русски: украли ящик водки, продали, а деньги пропили.
– И он всерьёзку хочет таким бизнесом заняться?
– Говорил, вот отремонтирую бивни[352] и перекувыркнусь на русский бизнес.
– Блин горелый! Он так и жизнь кончит где-нибудь в доме отдыха…[353] Лучше б ты мне про него не говорил, я б и думал про него хорошо…
– Разве Вам не о ком думать хорошо? Мама…
– Верно… Подумай только… Поверх восьми десятков пришпилено ещё два года… По живым годам она мне бабушка… А под венец бегала со мной в семнадцать…
– Папа, я всё не насмеливался спросить… Подольский архив нам всё отвечал, что Вы умерли в госпитале от ран. А тут на мой запрос вдруг пишут этой зимой: «По документам учёта безвозвратных потерь сержантов и солдат Советской Армии установлено: стрелок… рядовой такой-то, находясь на фронте Великой Отечественной войны, умер от истощения 16.3.43 г. в АГЛР[354] – 32134». То от ран, а то уже от истощения. Что это значит?
– То и значит, что значит.
– Выходит, Вас в госпитале не кормили?
– Раз хата сгорела, чего воду разливать?
– Что-то Вы загадками заговорили…
– Какие уж тут загадки? Немка[355] у Туапсе. Снабжения из России никакущего. А Грузиния не слала… Сама любила кушать сладко. Кормёжка у нас аховецкая. На одной шрапнели лежали. И лекарствушек никаких. Одного йода залейся. Эвкалипт, травы кой да какие были… Один и тот же бинт по четыре раза гнали в дело. Простирнули, подсушили и снова пошли тебя мотать. Ни лечения, ни питания. Только успевали ещё тёплышков отвозить…
– Непостижимо… Но лагерь лёгкого же ранения! Как же можно умереть?
– Ни лекарствий, ни лечения, ни питания… И лёгкое перегорало в тяжёлое… Кому мы нужны? На лечёной кобыле далече ли упляшешь?
– Теперь я понимаю, почему кругом все глухи, ничего не знают, никуда не пускают. Правду стерегут. Хотел я зайти в санаторий имени Фрунзе. Там был Ваш госпиталь. Хотел посмотреть, что Вас окружало, что Вы видели в последний раз. Вахтёр, сытый спесивый язовский[356] бульдог, дальше проходной не пустил. «Нечего тут шлындаться всяким!» – «Здесь в войну лежал мой раненый отец. Здесь он и умер…» – «Ну и что, что когда-то здесь лежал твой отец? А сейчас не лежит. Сейчас здесь санатория министерствия обороны. Всё деревянное заменили на камянное. На что глядеть?» Круглая проходная, похожая не то на КПП, не то на дот, и по ней, как фельдфебель с ружьём, важно расхаживал этот облезлый язь и нёс ахинею, не глядя на меня, не видя меня. Я спросил, как фамилия главврача. Он: иди на Курортный проспект, из автомата по 09 спрашивай. Ну не бегемот с автоматом? Главврач Хетагуров дал по телефону ложный адрес медсестры Демиденко, в войну здесь работала. Мы с женой как последние умотанные савраски по дикой жаре излетали по рвам-кручам всю проклятую Бытху, но третьего дома не нашли. Нет такого в природе! Стали спрашивать всех встречных-поперечных. Язык вывел. Гнездилась наша сестричка в доме, где поликлиника на первом этаже. На грязно-белой стене гвоздём нацарапано латиникой: KLINIKA VATSONA. На долгий звонок еле узко открыла, гремя цепями и не снимая совсем их, испуганная злая старушоня с жидкими недодранными кудельками. Прилегла грудкой на цéпи: «Чего надо?» – «Ульяна Григорьевна! Миленькая!.. Мы из Москвы, проездом… У нас всего два часа… В войну у Вас во фрунзенском госпитале лечился мой отец… Как всё было? Как лечили?.. Два слова…» – «Ничего не знаю!» – и закрылась на цепи. Из-за двери: «Начальником Вашего госпиталя был врач Шапошников, заместителем по политчасти Борисов». – «Порасспросить бы… Но как их найти?» – «Ничего не знаю». В сочинском военкомате, что в трёх саклях от санатория, один припев: не знаем! не знаем!! не знаем!!! Поезд ушёл, люди ушли. Брешут! Всё они знают. Да нам не откроются. Сколько хренова гласность отмерила, то и знай. Но за край не заскакивай.
– Э-э-э… Властёшкам мы вроде шила поперёк горла. Вот нас накидали сюда, как дрова, посверх двух тыщ душ. А все ль ранбольные отошли божьей волей? Голодом да нелеченьем сколь дожали? Возюкаться ещё с нами… Дешевше в земельку швырнуть… Было тут обыкновенное кладбище. В войну братскую вырыли… Госпитальный склад готовой продукции! Потом гражданских убрали. А кто своих не вывез, того наказали: оставленные гражданские могилы бульдозером поровняли да отгрохали мемориалище. Нам он, извини, как до бритой лохматки дверцы.
– Почему?
– Откупаются от нас, от мёртвых. Сначала удавят. А потом памятники гандобят! Да не один. Целых два! В сорок восьмом во-он, под платанами, поставили. Скромный, тихий. Сходите посмотрите…
Старинный воинский шлем скорбел чёрными глазницами на верху белого обелиска. По постаменту ранеными, рваными ручейками лились фамилии. Памятник низко, повинно обегал широкий каменный парапет.
На нём сидели с ногами две зелёные полуголые шалашовки и курили.
За спинами у них маленькая девочка что-то сметала ладошкой с парапета, объясняла неведомо кому:
– Это не я намусорила. Это тётеньки намусорили…
– Курячки! Вон отсюда! – зыкнул я на гулёх.
Девицы лениво ушли.
Мы с Валентиной молча постояли у сиротливого памятничка, усталого, замытого дождями. Отыскали свою фамилию и невесть сколько простояли ещё…