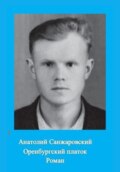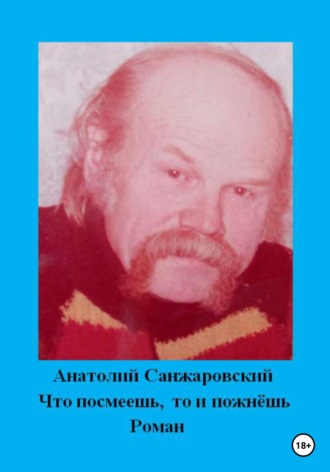
Анатолий Никифорович Санжаровский
Что посмеешь, то и пожнёшь
4
Митрофан и Глеб сидели друг против друга за пустым, мною убранным столом, с обеих сторон подперев щёки кулаками и стараясь внимательнейше рассмотреть друг друга остановившимися глазами.
– Я теперь знаю. Это ты виноват, что я один, – Глеб тяжело поднял и потянул к Митрофану руку.
Руку вело-клонило куда-то в сторону.
Стоило немалых сил удержать её, не уронить и героически донести до адресата.
– А ты к-к-кто, якорь т-т-тебя!?.. – Митрофан с предельным усилием едва оттолкнул трудно и подозрительно принципиально приближавшуюся руку. – Р-р-руки п-п-прочь от винта!
Рука упала на стол.
Не поднимая, Глеб волоком потащил её к себе.
Это была всё таки его рука, как он скоро догадался, и откровенно обрадовался своей проницательной сообразительности.
– Которая мамзелька засиделась, понятно, будет старая дева, – философствовал Митрофанио. – Ты тоже засиделся… Залежался! Кто ты т-т-теперь? Старый дев? Да?
– С-с-старый почти лев… Эх, мужики, мужики… С какой радости нас мать рожала? Три каких бабальника! А что мы дали? Отец навсегда остался моложе самого меньшего из нас уже на девять лет! И то!.. Не останови отца война на трёх, как бы размахнулся? А? Может, на весь десяток! А мы что оставляем? На троих бугаев три… всего-то три… – Он медленно загнул у себя на руке три пальца. – Всегошеньки три девчоночки! Лику, Ляльку, Людку. Это Митькин партвзнос… Тоник, может, чегой-то выколупнет там ещё… А я, извините, – обречённо пронёс перед собой сведённый хмелем в крюк палец, – прочерк… Бетонно!.. Мимо-с… Зачем живёшь, если от себя ни росточка не пустишь в жизнь? За-чем?.. Хотел бы оставить, а – нечего… Всё своё з-з-забирай с с-с-собой… И, пожалста, не вон-н-няй…
– При всём желании не заберёшь, – деликатно предупредил Митрофан. – Например, свои капиталы. Те, с книжки, на счёт ада пока не переводят…
Глеб сжал в гири кулаки. Заскрежетал зубами.
Однако не сказал ни слова, уронил голову на скрещённо лежавшие на углу стола руки.
Митрофан ткнул Глеба в бок:
– С-с-спать б-б-будешь д-д-ддома… А в гостях за столом не спи…
– Я у себя дома… А вот ты у меня в гостях…
– Все мы в гостях у Жизни… Старый дев!.. А хочешь, я тебе в натурель организую целую ярмарку невест!? Выбирай только, якорёк тебя! Ну?
– Пошёл ты со своей ярмаркой. Ты мне и так подсуропил…
– Ну-ну… Конечно, это я выкинул штуку с Нинкой! Сам же прогрыз мне плешь. Ну сознакомь! Ну сознакомь! Я в обточку Лизку. Лизка насилу укоськала эту свою сеструню Нинку. Прикатила почти неваляшка[206] из самой из области! Я зову Глеба на запой-пропой – наш синьоро кобелино нейдёт! Ну не концертуха?..
– А-а!.. Раздумал! – поморщился Глеб. – На хрена французу чум? Ну на что мне укушенная? На что мне эта эстафетная палочка?[207] Что я, Ваня Подгребалкин? Что брошено, то не нужно!
– А может, не оценено? Нашлись же люди. Оценили. Прихватизировал ободранную эту ромашку инженер с пивзавода. Пивко потягивает да на домашних скачках выступает в парном заезде со своей Нинулей. Полный аншлаг!
– Видишь, у этой у твоей, борщ-бруевич, куклы коготки все в краске. Как её окучивать?[208] А у меня у кабана в сарае навоз… В огороде навоз… Жди! Так и сунет она свои белы черпалки в мой чёрный навоз! Да и вообще о чём песнь? Нинка уже не мой кусок. Чего ж тогда и рот разевать?.. Да и куда б я её привёл? В эту барачную шлаковую засыпушку? В этот бомж-отель? – Глеб гневно-торжествующим взглядом обвёл комнату. – Уж как я тебе кланялся: продай нам с матерью один дом от «Родины», выстрой в Верхней Гнилуше. А ты что? Разве тебя кто попрекнул бы, почему ты продал дом родной матери и родному брату?
– Просто заставили б на отчётном собрании объяснить с документами в руках. И главное, разве тебе негде жить?
Вопрос этот обидел Глеба.
Своё жильё, состоявшее из одной комнатёшки и тесной кухоньки, Глебу не нравилось. Досталось оно Глебу от Митрофана, получившего его в заводском ветхом бараке ещё когда заворачивал на заводе механиком. Сначала жили втроем, мама, Митрофан и Глеб, потом Митрофан привёл Лизу. Целый год жались в одной комнатульке вчетвером, пока райвласть не кинула молодым отдельный угол.
Сколь уж председательствует Митрофан, а всё по-прежнему живёт в Верхней Гнилуше и вовсе не потому, что в Гнилуше районный центр. И рад бы Митрофан перебазироваться на житие в свою «Родину», чьи хуторки всплошь обсыпали Гнилушу, да всё не получается этот переезд, и мечется Митрофан между колхозом и Гнилушей. Хорошо, до каждого хуторка кинул надёжный асфальт, за какие полчаса хоть откуда доскачешь на сон домой.
И как ни хороши дороги, Митрофан всё твёрже в своём желании перебраться с семейством на хутор Ясный, поближе к комплексу, и всё никак не насмелится. Неловко как-то Митрофану занимать в колхозе новый отдельный дом. А вдруг он понадобится кому-то ещё сильней? Митрофану пока терпимо. Райвласть не гонит из своей квартиры. Митрофан и не высовывается на правление с домом себе.
– Заелся ты, брателька, – насыпался Митрофан на Глеба, – зае-елся. Жили ж тут вчетвером, якорь тебя! Партия чему нас учит? Скром-нос-ти. Скромности в желаниях! Желать, конечно, можно, но понемножку…
– Ну да! – грохнул Глеб. – Кашляй помалу, чтоб на век стало!
– Вот именно. Кто малым недоволен, тому великое не даётся.
– Во-во! Коммуняки позахапали себе всё великое. А прочему люду бросили мелочишку. Тому и радуйся?
– Жить можно – и радуйся. А кто много ухватит, мало удержит. И надо ль лезть к большому? Ещё с год какой, временно, нельзя пожить втроём?
– Нельзя… Не хочу кое-как… Надоело всю жизнь жить ожиданием. Как светленького будущего… коммунизма… Хрущ обещал этот коммуонанизм в восьмидесятом. Восьмидесятый промигнул. А этот твой комму где? Я не могу больше… Я не могу всю жизнь жить по-скотски. Я устал только читать о красивом жилье. Я хочу жить в нём! Разве сейчас мы с мамой живём по-людски? Ну каково мне, сыну-мужику, крутиться в одной грёбаной комнатёхе с матерью? Под корень похеренная жизнь… Ложишься спать… С какими глазами раздеваться перед старушкой матерью? Это что за ежевечерний стриптиз на глазах у родной матери? Ну? И этому стриптизу уже пятый десяток! Я не мечтаю получить нормальное жильё лишь на кладбище. А ондатры[209] только и дадут сносное жилье на кладбище! В этом я убеждён! Но!.. Я сегодня хочу по-людски жить! А меня давят одними бесконечными обещаниями. Воистину, красно поле снопами, а советская власть брехнями! Надоело… Я хочу сегодня жить по-людски!
– А что ты для этого сделал? Сиди в окопе и не высовывайся!.. Не пойму… То ли ты великий иждивенец, то ли порядочный рвач… Никакой нет жены, о жене только разговоры, и ты выторговываешь под эти разговоры какие-то привилегии авансом. Дойдёт до того, на свидании поцелуешь свою двустволку, потребуешь премиальные!
Глеб хохотнул:
– А чего ж теряться? Ну, кто у нас сейчас за так переломится? Вон у нас на маслозаводе месяц не могли найти кого на месткомовского председателька. Постик этот… бугринка на равнинке… Малая бугринка эта безденежная, а хлопотная. Директор сватает меня. Я условия: одна бесплатная путёвка куда сам выберу. Согласился он. Я уже смотал в Финляндию. Тогда в силе был кримплен. Рулончик притаранил за копейки. Сотворил дядя ма-ахонький оборотец. Слегка согрел озябшие ручки… Туристом обрыскал все юга… Средняя Азия, Кавказ, Молдавия, Прибалтика… Всё проскочил… В Михайловском с Шуриком на спор выпил пятнадцать кружек пива. В Одессе за раз съедал по двести раков. В Ленинграде ужинал в самой в «Астории», по двадцатнику. Есть что вспомнить…
– А я жене на десять дней оставил семь рублей, – почему-то конфузливо признался я.
За язык меня никто не тянул.
– У неё могут остаться. – Глеб как-то с особенным намёком плохо засмеялся. – В столице мужики щедрые.
Я промолчал.
Глеб широко хлопнул Митрофана по раскисшей спине.
– Ну, так что, братишенька, отменяется купля-продажа?
– Сойдёмся на условии. Иди ко мне на комплекс слесарем. Будешь иметь две заводские свои зряплаты, вавилоны о пяти комнатах с тёплым сортиром в тёплое лето, пораздольней участочек, чем здесь за сараем. – Митрофан немного поворотился, пододвигает по столу руку к Глебу. – Ну, по рукам?
– По ногам! – вскинулся Глеб. – Брату с матерью – условия! А что ж ты чужой бабке не ставил никаких условий? Потому что та бабка – мать нового первого секретаря? У тебя на начальство со-ба-ачий нюх. Знаешь, кому подсластить!
– А-а… То другой коленкор. Той бабке руки целовать мало, якорь тебя!
– Так вот поезжай в Ольшанку и целуй. С матерью в одной палате лежит. Вчера хвалилась матери: у вас сын не сын, а горка золота! Уважил как бабке чужой!
– А как я мог не уважить? И не потому, что завтра, может быть, её сын будет у нас первым. Я-то срубил ей домок о-ого-го эсколь веков назад! И твой первый тогда ещё то ли служил в армии, то ли уже институтствовал! Я его и в глаза не видел.
– Но – чувствовал! Наперёд кидал кусок! Вы, коммуняки, нужного, своего, человека чуете за десять лет до встречи с ним!
– Да брось ты эту глупистику! Ка-ак я мог его чуять? Он всё на стороне да на стороне… А бабка одна… С мальства доныне отзвонила в колхозе.
– Да не в твоём!
– Ну и что, что она из соседнего колхоза, с которым я соревнуюсь?
5
Совсем остарела у бабки хата; садилась, садилась и села, будто старая поскользнувшаяся лошадёнка посреди долгой грязной дороги.
Случилось это в ту немилую пору, когда шла бойкая суетня разделения сёл на перспективные и неперспективные, вроде делёжки на чистых и нечистых. Отжила малая деревуха лет с триста, но просёлок к ней так и не одели в асфальт, не кинули по улонькам водопровод, нет в ней клуба. Чего уж там с ней панькаться? Бабах её в неперспективные и на снос, точно человека в годах ещё живого турнули в могилу.
Из малых деревень народишко выпихивали на центральные усадьбы, в многоэтажные городские вавилоны.
На первый взгляд, что ж тут расплохого?
А копни дело поглубже, только руками разведёшь…
Чинить, конечно, хату бабке не стали, а подогнали машину. Поехали, бабка, на новоселье! В саму Вязноватовку!
Согласно модному веянию, тамошний апостол «Ветхого ленинского завета» Суховерхов сгандобил два пятиэтажных куреня из блоков привозных и ну тащить в них весь колхоз.
Ну не глупость – упрятать деревенца в мёртвую коробку и поглядывай оттуда, как худая птаха из скворешни? Эка глупость! Эка глупиздя!
Это горожанину всё едино, в каком доме обретается он. У него ж ни огородика, ни скотинки. А деревенского ты не приневолишь жить, чтоб у него за окном, в худшем случае за сараем, не росла травка, к столу надобная, чтоб цветок не горел радостью под окном, чтоб во дворе кура какая не греблась, чтоб в катухе кабан не охал, корова чтоб не вздыхала…
Крестьянин, да и вся держава не могут без подсобки. Подсобка – это две трети всей картошки, треть молока и мяса. А площади этот частный сектор ухватил от всей пахоты в стране лишь три процента. Блёстка в море!
При одном доме человек может вести подсобное хозяйство, при другом, как в Вязноватовке, ой ли. За стрелкой лука к обеду лети к чёрту на кулички. Сыпнуть тем же курам горсть зерна, беги за версту. Эвона где выкроили место сараюхе!
Да иному сподручней сунуться в лавку.
Только сможет ли всё в достатке дать магазин к столу?
Тогда к чему это, может, и невольное, но злое непочтение к личному хозяйству? К чему оставлять человека без подсобки?
Приплелась бабка к Митрофану, маленькая, слабая, молит в слезах: заступись, пособи… Не хочу без грядки под окном… Не хочу примирать в камне, хочу в сосне добрать последние денёшки…
Митрофану и бабку жалко, и против соседа председателя вовсе не рука катить. Ненаваристое это дело заводить с соседом тесноту. А отчётное собрание разве погладит по головке?
Митрофан и объясни бабке:
– Мой колхоз соревнуется с твоим. Я тебе соперник, вроде врага…
– Да называй себя, сынка, как твоей душеньке наравится, а тольк сладь домок, каких понастрогал своим. Я заплачу.
– Но вы не в моём колхозе. Вы чужая.
Этого бабка не понимала.
Как чужая? Почему? Земля на всех одна, а оказывается, этот ей свой, этот чужой… Я всю жизню служила земле и не знала, что я ей чужая… Разве бывают на земле чужие беды? Разве бывают на земле чужие одинокие матеря?
Недоумение бабки сломило Митрофана.
Вызвал Митрофан при ней бригадира – его бригада рубила на усадьбах дома, – а через две недели бригада вывела сосновый теремок. Получай, бабка, на баланс!
Митрофан говорил и говорил.
Глеб, зажав сложенные вместе ладони меж коленями, уже дремал, опустив голову на краешек стола.
Унылая бубня усыпила Глеба.
Стоило обидчивому Митрофану замолчать, как тут же пробудился Глеб, испуганно-торопливо заозирался по сторонам:
– А?.. Что?..
– Ничего. Проехали с лаптями… Ему объясняешь, а он дрыхнет!
Глеб безразлично пожевал губами.
– Да что попусту… У тебя всё нашиворот. Чужим – пожалуйста, зато своим низзя. Как бы кто чего не сказал… Ну, как ты там ни старайся быть чистеньким да правильным, как устав, так пока новый примет дела, Пендюрин тебя по-родственному скушает и пуговички забудет выплюнуть.
Митрофан лениво скосил глаза на Глеба.
Через несколько мгновений лень из глаз вытеснила опаска. Опаска тоже продержалась недолго, её покрыли интерес и даже вызов одновременно:
– За что?
– А разное носят слухи… Когда-то ты не на ту трибуну выполз, не то вякнул. Грозится за подпольный «Артек» чувствительно помять на ковре. Где это ты так перед ним проштрафился?
Митрофан, намеренно держась ближе к равнодушию, махнул:
– А-а… Выступил на районном партийно-хозяйственном активе.
– Теперь у тебя с ним дела? – спросил я.
– А почему и не быть делам? Он голова района, я голова колхоза. Разве нам не о чем потолковать?
– И о чём толкуете?
– Для газетной оды наш с ним разговор не сгодится.
– Я од не пишу. Но под случай не прочь покопаться в кишочках. Служба по ведомству фельетона обязывает.
– Когда-то служил, – поправил меня Глеб. – Слу-жи-ил… – Он так и произнёс, врастяжку, враспев, словно прислушивался к своему голосу. – Кстати, давно подкалывало спросить, зачем ты писал фельетоны? Из любви к людям?
Я с улыбкой кивнул ему.
– А теперь что, – кулаком он вырубил в воздухе крест, – с любовью покончено? Почему редко пишешь?
– Другим временам подавай другие песни…
Странно…
Всякий раз я садился за фельетон с тем чувством, что пишу последний. Проходило время, редакционная почта выворачивала такое, что только фельетоном и дашь ума. А вообще я для того и писал… чтоб не писать. Напёк я их девяносто девять, и каждый был последним.
Я пожал Митрофану руку, что лежала на столе неразгонистым толстеньким чурбачком:
– Может, дашь фактуру на сотый? На ебилейный?
– Не-е… Свою тележку уж я сам довезу…
Глеб включил утюг. Намахнул на стол сдвоенное синее одеяло, без спеха навалился тщательно разглаживать.
Митрофан, держа под собой стул, отсел в сторонку от стола, спросил с виноватой озабоченностью, что это тот надумал.
– Да надо погладить кой-что маме в больницу. – Глеб потрогал косынку, висела в череде немудрёного белья на бечёвке, пробегала от стены до стены над плитой, сказал вслух самому себе: – Волглая ещё.
– Постирать, погладить… Да мужичья ль это печаль?
– В каждом сарае свои блохи, – заметно сердясь, возразил Глеб. – Что-то ты развыступался не к добру. Как бы Лизка за капустой не прискакала на кочерге!
Упоминание жены возымело злую силу.
Митрофан как-то разом сник и так, заронив руки меж ног, просидел с минуту, после чего попытался встать. Из этой затеи ничего путного не вышло. Несколько приподнявшись, он снова хлопнулся на стул, будто кто невидимый сильно нажал ему сверху на плечи.
Глеб созлорадничал:
– Ну что, вся жизнь в борьбе? Никак не поборешь закон земного притяжения и не можешь встать? Ты попробуй с разгону подняться на орбиту. Я так всегда встаю в гостях.
Митрофан приценивающе усмехнулся, сцепил зубы. Сквозь одутловатые щёки просеклись, слабо заиграли желваки. Он оттолкнулся руками от стула и встал-таки, просиял детски. Сам! Без чужой руки встал!
– Покидая этот… – Митрофан шаркнул и весьма некстати, чуть было не вальнулся к стене, но, сбалансировав, устоял, – покидая этот гостеприимный дом, я осмелюсь напомнить хозяину… До твоих лет бегать по хуторам бабушек ловить – непозволительная роскошь! Живи ты в Америке, ты б, голубчик, давно женился. Бабслей там на стороне не в моде. Тебе там не позволили б до сей поры играть богородицу… Я уже говорил… В штате Массачусетс два века был такой законище… Вот бегает парочка… Лизнул баран свою ярочку всего-то десяток раз – ша! Лапки вверх, зайчик! Женись, якорь тебя!!! Там десять поцелуев приравнивались к предложению руки, сердца и прочих причандалов из полного комплекта семейного счастья. Чу-удный закончик!.. Какие милашки были… Магниты! Чего одна Марусинка Половинкина стоила! Зла на тебя не хватает!
Больше ничего не говоря, Митрофан сосредоточенно пошёл к двери, пошёл на удивление прямо, будто плетью стегнул.
Глеб попробовал мокрым пальцем утюг, бросил весёлое вдогонку:
– Лектор! Вам киёк не дать? Надёжней доплыли б…
Ответа не было.
Лишь слышно, как звуки шагов за окном удалялись, тускнели.
6
С тряпкой я караулил у плиты молоко.
Глеб гладил мамину косынку. Посмеивался:
– Закрой дверь покрепче. На крючок. Чтоб не убежало.
– Не бойся. У меня только в бутылки и убежит.
– Намотай на ус. Сейчас в бутылки не переливай. Перельёшь утром, перед самой дорогой. Подогреешь до горячего, пока не схватится шапкой. Тогда и перельёшь. Бутылки газетой не забудь укутай. Донеси тепло из дому. Может, мама захочет сразу попить, так ты и плесни ещё тёплого.
За словами Глеб в тревоге взглядывал на будильник, что красным комком бугрился на стеклянной полочке над умывальником с зеркальцем, и всё быстрей росла горка глаженого белья.
Была полночь.
– Выручай! – крикнул мне Глеб, кивнув на будильник. – Совсем загулялся… Настучало уже без пяти давно пора бежать… Догладь, а?
Я согласился.
Я не припотею, доглажу, только куда это он налаживается в глухой, волчий час? К какой-нибудь вдовушке на диванный пожар?
Я ни о чём его не спрашивал.
Он же, уходя, строго распорядился:
– Ты тут моих мышек не обижай. Будут скрестись – не пугай, не бей. Знай себе спи.
Часа через два – я ещё читал в постели – он неслышно вернулся.
– Как ты вошёл? Я ж закрывался на крючок!
– Мастер тёмных дел везде пройдёт.
Разделся. Потушил свет, лёг ко мне.
Старая сетка, охнув, не выдержала, опала, похоже, до самого пола, и мы, столкнувшись носами, очутились будто в мягкой, тёплой яме.
Ни Глеб, ни я не выказали неудовольствия.
Напротив, тихонько рассмеялись, словно боялись разбудить кого-то третьего, точь-в-точь как когда-то в детстве.
Тогда, в детстве, да и потом, пока жили вместе, я спал всё время на одной кровати с Глебом.
Ни люлек, ни колясок, ни кроваток с оградкой у нас в дому не водилось. Сколько помню, поначалу всех нас троих укладывали на ночь поперёк на одной кровати.
Годы вытягивали нас.
Мы ложились уже валетом и не всегда мытые Митрофановы ноги упирались и Глебу, и мне то в подбородок, то в ухо, то под мышку.
Потом взяли отца на фронт.
Митрофан перескочил спать на пустую койку. Долго спал всё один, очень дорожа этим одиночеством.
Пришла пора, и Митрофан – старший, ему доставалось, вырос быстрей и больше всех – уехал наш Митрофан в Усть-Лабинск, в молочный техникум, из техникума в армию.
Но и тогда мы не расставались с Глебом, спали вместе, не зарясь на незанятую постель.
И как-то позже, много лет спустя, едва получил я на Зелёном, в Москве, отдельную квартиру в одну комнату, закатились в столицу на экскурсию от завода Митрофан с Глебом.
Легли втроём, как в детстве, на один просторный диван. Куда до его шири нашей старенькой кроватоньке, а всё ж тесен оказался диван, и мы легли тогда поперёк, подставив под ноги стулья.
Проговорили мы до утра.
Никто и для смеха не свёл глаз во всю ночь; будто условившись, не единожды завертали к мысли, ненароком сходились все в едином мнении, что ни в кои веки, нигде, ни в каких богатых заграницах, не спалось нам вольготней, раздольней, слаще, чем на нашей старенькой кровати; нигде не заживали, не затягивались так быстро кровавые наши ссадины на розовых локтях-коленках, нигде так легко, без боли не закрывала живая сила наши ссадины и на душах, уже молодых, горячих, бедовых; во все времена не ведали мы исповедалища благодатней, благословенней, добрей, чище.
– Знаешь, звал я тебя к маме. А ты и мне нужен не меньше…
Голос у Глеба задумчивый, открытый, беззащитный.
Как в детстве.
– С кем попало про всё не поговоришь… И мама, и Начальник, и на работе шагу не пускают ступить: когда женишься да когда женишься? Тоже мне новости в калошиках… А я почем знаю, когда я женюсь…
Глеб грустно смолк.
Прошло несколько мгновений, и мне причудилось, что сама давящая тишина зароптала его голосом о скоротечности дней наших. Наступит пора, заберёт, повыпустит силу из рук, потушит во взорах блеск, кинет на глаза пелену и будешь из-под руки сквозь ту пелену смотреть на прохожего и не узнавать, как не узнают старики, как они ни старайся. И мы будем старые, вовсе уступим дорогу тем, кто у нас за спиной. А кто у нас за спиной? Кто? Лика, Лялька да Людка. Ре-е-еденько…
– А не хотел бы ты попробовать? – негромко проговорил я. – На весь отпуск кати к нам. Раздобудем месячный абонемент в клуб знакомств… Дискотеки, дрыгалки-танцы… Приплясывай на здоровье и…
– …. и высматривай, – с печальной иронией перебил Глеб – себе хомутишко по шее? Я читал… Абонемент на девять вечеров… А если я на первом же встречу, так сказать, свою законную половину, брошу туда ходить, мне вернут монету за остальные вечера?
– Вряд ли.
– И не прошу! – жёстко отрезал Глеб. – Что я потерял в том клубе? Я считаю, найти жену в клубе «Будем знакомы!» всё равно, что заквасить ребёнка в пробирке. Издевательство над человеком несчастным.
– Почему? Вам же хотят помочь. В конце концов дело утопающих не их сугубо личное дело.
– Нет. Уж лучше тонуть, чем, краснея, созерцать из вечера в вечер сборища калек. Я-то в добрые, в молодые времена не совался на плясандины. Был там раз-два, с потными ладонями вжимался спиной в стену, подпирал, всё боялся, что упадёт. А теперь, в мои дедушкины годы… Согласись, есть в этих сборищах что-то убогое, унизительное.