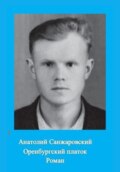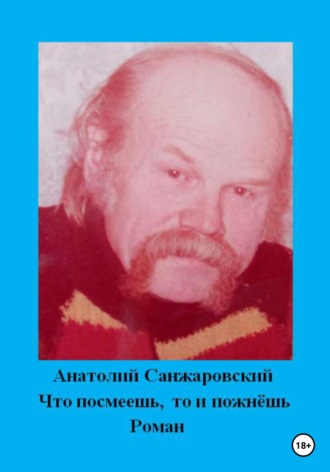
Анатолий Никифорович Санжаровский
Что посмеешь, то и пожнёшь
3
В дверях показалась каталка с таблетками, порошками, микстурами.
Молоденькая, ладно скроенная девчушка, что поталкивала её, весело объявила:
– А вот и мы. Радуйтесь, бабульки. Завтрак приехал!
– Глаза б не глядели, – с омерзением уставилась Борисовна на каталку.
Мама с усмешкой возразила ей:
– Здоровье наше приихало.
Девушка взяла с каталки стакан с градусниками.
– А градусники вам давать? Вы у меня нормальные?
– Светочка, мы уже нормальные, – сказала Борисовна. – Ещё на той неделе как померили… По тридцать пять ель наскребли. Так с той порушки и не меряем, боимся мерить. А ну ещё меньше градусник скажет!
– Да нормальна в нас температура, – подтвердила мама. – Откуда тому жару взяться у списанных бабок?
– И не скажи. Оюшки и не скажи, Владимирна! – Из-за девичьего плеча плутовато щурился на Борисовну старый знакомец в газетном колпаке.
– А тебя кто звал, голова бумажная? Поди! – махнула на него разом обеими руками Борисовна.
Но старик только рассмеялся, стал с интересом смотреть, как девушка клала на ту и на ту тумбочку таблетки, как ставила на ту и на ту тумбочку по пластмассовой мензурке.
Весёлый её взгляд зацепился ненароком за уголок подоконника. Из-за сбитой в гармошку занавески виднелся стакашек с такой же мёртвой прозрачной жидкостью, как и та, которую медсестра только что поставила Борисовне.
Удивление округлило девичьи глаза.
– Почему ваш кальций со вчера стоит?
Бабка виновато сжалась:
– Что ему? Стоит и стоит… Не прокиснет…
– Ну-ка пейте при мне!
– Н-не насмелюсь я так сразу…
– Пейте, пейте! Некогда мне. Сколько ещё надо успеть обнести!
– Светушка! – вмешался тут старик. – Ты ехай своим дальнейшим историческим путём, а я, дай мне веру, присмотрю, чтоб было всё оприходовано наичестнейшим макаром. И потом доложу тебе по полной форменности.
– Ну, пожалуйста, – обрадовалась Светлана. – Проследите… Ох уж эти больные! А потом ещё говорят, чего это так долго лечат.
Проводив её необрывным, плотным взглядом и убедившись, что она и в самом деле уже в соседней палате (за стеной расплывчато дребезжал её голос), старик приветливо попросил Борисовну:
– Анна Борисовна, вы уж не подводите под монастырь свою стахановскую палату. Исполните как надобно, чтоб не в стыд мне было перед Светланией.
– Чем пустые смехи продавать, – заворчала Борисовна, – лучше выручи. Пить не могу. А вылить жалко… За товар же дадены деньги! Пускай не мои, а всё ж деньги… Не наберусь дурной смелости выплеснуть. Иди выпей за меня!
Старик оторопело осклабился.
– Однако, – прошептал опало. – Напрочь надумала от меня избавиться?
– Вот и вся цена давешним твоим красным словам! – с укором пустила Борисовна. – Выходит, брехал… Все дни брехал напролётно! Не хочу знать! И духу твоего козлиного не надо до скончанья! Уходи!
– Нюрушка! Да возради!..
В каком-то горячечном озарении старик подскочил к тумбочке, выхлестнул в себя стакан. Перевалившись через старуху, толкнул занавесь – на окне готовно выстроилась шеренга из пяти мензурок всё с той же зловеще-прозрачной жидкостью.
– Не смей! – вскрикнула старуха, – Не смей!
Она повисла на протянутой руке, насыпалась колотить по ней, пытаясь отвести её в сторону.
Но силы в мужской руке были молодцовские, неповалимые, и рука раз за разом дотягивалась до новой полной посудинки; и только когда последний стакашек был опрокинут в рот и проглочен одним глотком, старик, утомлённо опустившись на краешек койки, в ногах, припал чисто выбритой щекой к спинке кровати и как-то смирно, покорно закрыл глаза.
– Ванюшок! Что ты натворил? – В панике старуха кинулась трясти его за плечи. – Да ты притравился!
– Наскажешь ещё… – В слабом его голосе были ясность, твёрдость. – Лекарствами лечатся, а не травятся.
– Нигде не жгёт? Не печёт?
– К жали, нигде, золотиночка…
Борисовна ликующе уставилась на старика.
Я не знал, что делать.
То ли выйти, то ли продолжать сидеть?
Выходить было неудобно. Но и оставаться было ещё неудобней. Когда врасплох для самого себя оказываешься свидетелем пускай и высокой чистоты в отношениях людей, почему-то чувствуешь себя так, будто застал себя на чём-то стыдном.
Я встал и пошёл к двери.
– Не надо, – шумнул мне старик. – Если уж кому и уйти, так это мне, – и побито воззрился на стакан с жёлтым, стоял у мамы на тумбочке. – А вы, Владимирна, глубоко извиняйте. Вам я не помогальщик. Вам поднесли жёлтенькое, на коньяк схожее… Мне самому кажный вечер такое подносят на сон… У Борисовны больше шло цветом за винтовой коньяк.[216] Не могу я принимать ёрш.
С просительной усмешкой взглядывая на Борисовну, добавил:
– А гадость всё-таки тебе подносят. Такое ощущение, будто уговорил литровую кружку ерша неизвестной национальности.
Мама посоветовала старику пойти сорвать.
Борисовна ухватилась за это предложение и как-то просто, по-домашнему взяла старика под руку, взяла, словно старого своего мужа, с которым выстарела, и пошла с ним в коридор.
Торжество засветилось на помолодевшем лице старика.
Не прими он этого кальция, когда б ему привалило у всех на виду пройтись под ручку с Борисовной?
4
Закрылась за стариками дверь.
Мама проронила с несмелым восторгом:
– Бачишь, сынок… Стари вжэ люды, а промеж ними яка милость живэ. Это надо стока выпить чужого лекарствия!
– Кто не рискует, тот не пьёт ни чужого лекарства, ни шампанского, сказала бы в таком случае Валя.
– Вот так послухаешь чужу жизню… Той же Борисовны… Воспомнишь свою… И шо в голову лезет?.. – Тут она совсем стишила голос. – Хороша советска власть, да дуже долга…
– А вы хотите покороче?
– Не возражала б, – прошептала мама. И с горячечной мольбой: – Только ты этих моих нечайкиных слов никому не отдавай…
– Не отдам! Не отдам! Успокойтесь. Положу на сберкнижку… Ну что Вы так всего боитесь?
– Давай перевернём пластинку… Спокойниш будет… Ты тут про Валю вспомнил… Как она там? Не болеет?
– Нет.
– Берётся по дому?
– Старается. Пока всё хорошо…
– Значит, не боксуетесь?.. Не деретéсь?
– Мы мирно.
– Ну и славь Бога. А то я нет-нет да и подумаю грешным явлением, какая там досталась, не бьёт ли. Глупое думаю. Человека сразу видать… Она у тебя молодая, не распущенная. Гарна у тэбэ жинка. Жалей. Повсяк день жалей, сынок.
За разговорами я устроил санитарный налёт на тумбочку.
Выпростал несвежие продукты на кинутую по полу газету, положил в тумбочку принесённое. На всё хватило места. Лишь тарелка с виноградом не шла в тумбочку.
Мама велела поставить виноград на верх тумбочки и половину отложить Борисовне.
– Придёт вот зараз. Будем натощак московские митамины пробовать!
Я отложил половину винограда в тарелку Борисовне, поставил ей на тумбочку и присел на табурет у двери.
– Ну, чего ты садишься там где-то, как чужой? Садись сюда. Рядком…
Мама уважительно разгладила морщинки на одеяле.
Я пересел к ней на краешек кровати.
Она накрыла мою руку своей рукой.
Рука была лёгкая, сухая, в тугом пергаменте кожи. Годы взяли из неё силу, твёрдость, сноровку, взяли всё долгой надсадной работой. Однако жизнь билась-таки в руке, жилка на узком запястье сине вздрагивала: а мы живём! а мы живём!! а мы живём!!!
– Вы с Валей там дуже не серчайте на мене. Только вот летом булы. Каких месяца с два назад и сновушки ехать… Я и словами не складу… Дурна зробылась… Захотелось, как Паски, чтоб ты приихав. И вчора утром ты был в Воронеже уже…
– Откуда вы знаете?
– Матирь всегда, сынок, чуе, где её дитё, шо с ним. То все дни лежала пластом. А учора проснулась – вроде кто тяжесь с меня смахнул. В голове не шумит, нет той слабости, на душе благо. За все дни первый раз села на койке. Сижу и вижу, как ты выходишь из поезда… Как вошёл в гнилушанский автобус… Э-э-э, говорю себе, бросай, бабка, придурюваться. Хватэ лежать барыней, подымайся давай. К тебе сын едет! Пока жива, доежжай, сынок, днём и ночью… Вовсегда теплыми руками встрену…
Голос её дрогнул.
Она положила мне на колени голову книзу лицом, попросила поискать.
И Митрофан, и Глеб, и я были ещё маленькие, когда мама, вымывшись в корыте, просила кого-нибудь из нас поискать у неё в голове. Что искать? Я толком не знал и не спрашивал, и если это делать доводилось мне, я просто перебирал волосы, длинные, густые, зачем-то прищёлкивал ногтем об ноготь. Это щёлканье я перенял у Глеба.
Часто мама засыпала под это пустое щёлканье. Убедившись, что она спит, засыпал и сам. Проснувшись, она всегда выговаривала мне, обещала больше никогда не просить поискать, что мне и нужно было.
Когда же рядом оказывался Глеб, она обращалась только к нему со своей просьбой. У Глеба чертовски всё получалось. Он раз за разом яростно щёлкал ногтями, будто давил какое-то страшное мелкое зверьё, пойманное им, и чем сильней и чаще он щёлкал, тем чаще хвалила его мама, хвалила, пожалуй, ещё и за то, что он не в пример мне никогда не засыпал за делом.
Неспешно перебирал я материнские волосы.
Оторопь холодила меня.
От былых пышных волос до пояса остался всего-то жиденький белый пучок.
– Мне, сынок, большой грех будэ. Правду держу от сына. Всё думаю, сказать или не сказать…
– Хочется – говорите.
– Оно, сынок, уже кучу лет как хочется… Всё думала, вот приедешь на лето, спытаю. А приедешь – не наберусь храбрости спросить. Думаю, ладно, на то лето спытаю. Приходит и то лето, перекладу на новое. Всё перекладувала, перекладувала… Какой стаж набежал… Крутая жизня була, а по больницам и неделю не прокурортничала. А тутечки завезли в Ольшанку в таком разбитом виде… И дождевой червяк изогнётся, когда на него наступят… Чую, плохи мои коврижки. Лежу и так страшно стало мне: помру, а так и не дождусь нового лета, не дождусь сыночка спытать, был то он или не он. Ой, та я уже дурна, стала стара, голова пуста, як кошёлка, везде продувает. Всё умное давно выдуло, а это никак не выдует… Колы, сынок, пойдёт у тебя ребятёжь, поймёшь, как ото его жить, когда кто из детворни один куликает где на стороне по чужим людям. Зараз – признаюсь тебе на всю! – пока не болела, выходила я к воронежским антобусам. Всё казалось, ты приихав, а встретить тебя некому. Вы вчора с Валей уехали, а я сегодня пойди к антобусу! Ну это разве нормальна бабка? Только я того никому не говорю и схожу за нормальну… А раньше, в Каменке, выходила я к дальним поездам с твоей стороны. То и свету в окошке было, что при станции мы жили. Поезда мимо неприкаянно мотались туда-сюда, туда-сюда… То в Москву. То из Москвы назад к нам и ниже туда, к югам…
Как подходит время твоего поезда, у меня важное дело. Бежу сыночка встречать! Стану на станции и жду, не сойдешь ли ты. Если нету тебя, а поезд всё стоит, пойду заглядывать в окна. Може, думаю, утомился в дороге сынок, уснул. Я увижу, постучу, он и сбежит ко мне…
Однажды она пошла к скорому поезду.
В Каменке он не останавливался.
Шла и ругала себя. Ну совсем плохая! Как же сын приедет этим поездом, если поезд этот не останавливался?
Так-то оно так, только ноги сами несли на станцию, хоть что ты тут делай.
– Дождалась, – рассказывала дальше мама, – летит этот самый скорый на всех ветрах, только окна льются. В одном окне вроде как качнулось твое лицо. Что было во мне моченьки, кинулась я за тем окном, кричу, руками зову. Уже и станции конец, семафор дальше краснеет. Упала я в канаве, выкричалась… Был ли то ты? Неужели мой сын мог проехать мимо? Я и так вижу его раз в году, и он мог? Не-е, мой не такой. То всё мне намерещилось. Мало ли похожих людей? А потом, скорый поезд, разбери на скаку… А то кольнёт в грудь. Мой! Мой был в окне! Ясно ж видела! Тогда что? За что такое зло? Может, за то, что сама не умела расписаться, а всех трёх на последнем куске довела до людей? Митька механик, Антон в газете, Глеб не камни ворочает. Всех как могла повыучила. Разве за это можно держать сердце? Не-е, не мой… Чтоб мой – сам других в газетах продёргивает! – да проскочил? Будь он, хоть на денёк, хоть на час, хоть на минутку, а заехал бы. Ну правда ж? Скажи, шо правда. Сыми с меня этот камень. Вить если сын ехал мимо и не заехал к родной матери, за то вина лежит на ней. За ту вину ей отвечать там… Я боюсь помирать. Человек помирает… дыхание перехватывает… Нет дыхания, совсем нет, а потом опять дыхнёт… Боюсь… Скажи, что это не ты был в окне… Правда?..
– Правда, ма, правда, – скороговоркой подтвердил я, опустив голову.
На правду меня не хватило.
Разве скажешь даже матери то, что хотел бы скрыть от самого себя?
Ещё за год до этой истории я жил со своими в Каменке.
Мама уже выпала на пенсию, выпала, как она говорила, в списанные бабки. Митрофан, Глеб и я работали на маслозаводе.
Кроме того я писал в газеты.
Меня заметили в обкоме, в день печати озолотили грамотой и направили в щучинскую районку.
К той поре я уже дважды стучался в университеты и соответственно дважды обжигался.
Первый раз ткнулся в Воронеже. Без стажа, сразу после школы. Из двадцати добросовестно наскрёб девятнадцать баллов. У нас тогда не проскочил один даже сдавший на круглые пятёрки. Десятиклашкам кинули, кажется, семь мест, а на отлично подсуетились восьмеро!
В МГУ я поймал гусика на сочинении.
Однако знакомым твердил, что свалил меня немецкий.
Выходило чуть-чуть престижней и не так стыдно. Что ж я за журналист, раз за свою сочинилку отхватываю заморскую фигуру?
Вскоре после московской беды меня послали в газету.
По третьему заходу ладился я пытать судьбу.
На этот раз в Ростове-на-Дону.
Там только-только открыли факультет журналистики. По мне, никто про то ещё не знал. Знал пока я один. Ну, может, ещё какой университетский погорелец, от силы ну с десяток, не больше.
Наверняка конкурс будет божеский, уступчивый.
…Добежал я до своего вагона, стукнуло: останавливается в Каменке!
В газете я был первые три месяца. В стороне от своих эти месяцы показались каторжным веком. Я писал домой часто, как безнадёжный любовник. Дорогого бы дал, лишь бы слетать хоть на один взгляд. И где набраться такого терпежу, чтоб поезд стоял в Каменке, а я и не выйди? Не смогу.
До вступительных неделя. Денька на три и можно остановиться, отгостить…
Можно, да лучше не нужно!
Не дай бог завалюсь снова. Ну, раз срезался. Ну, два… Ещё можно как-то списать на счёт случая. Этот Сивка две беды с грехом пополам свезёт.
Но чтоб три!
Да и как с третьей шишкой на душе гляну своим в глаза?
И ребёнок же поймёт что к чему. Раз тупенький, с колокольным звоном в голове, не лезь в университет, отступись…
А не умнее ли?
Провалюсь – гордо смолчу.
А выхватит моя, поступлю – этаким чёртом на белом коне заявлюсь!
Вариант с белым конем был мне симпатичнее.
Я сказал себе, наскреби хоть малую горстку духа, заверни домой уже после университетской лотереи, с результатом уже.
Я побрёл от поезда к кассе, закомпостировал на скорый.
В Каменке скорые не стояли.
Но самое непонятное и по сей день было то, что я не торчал у окна.
Когда подъезжали к Каменке, я вжался в угол, задёрнул занавеску, чтоб ни одна знакомая душа не видела.
А как же тогда мама?
А может, матери видят своих детей и сквозь стены?
Где-то недалеко, палаты за три, послышался нарастающий глухой шум множества нестройных шагов.
– Сынок, обход… Сбирайся!
– У солдата короткие сборы, – потянулся я к горячей от больничного тепла куртке. – Что вам завтра принести?
– Завтра не приходь. Не надо. Отдохни. А там если надумаешь… А нести ничего не неси. И так набита тумбочка харчем.
– Как это не неси? Что врачи советуют есть?
Насмешливо махнула она рукой:
– Иди ты, врачи… Слухай врачей! Врачи наговорят. Им за то гроши платять… Бачишь, винград, урюк, узюм… Где вóзьмешь? Выпляшешь? Нема и не треба. Можно печеную картоху, сала немножко, селедки. А! Шо есть, то и можно… Аппетит ко мне, чую, вертается. Я теперички буду подметать всё, что ни подай. Буду наедаться, как дождевой пузырь. По нонешним временам, сынок, жить можно. Надо спасаться…
Глава восьмая
Прямая дорога на кривую наведет.
1
Дорога назад была уже и короче, и ладней, и шлось по ней легче, стремительней, оттого что давешний груз неизвестности, груз страха больше не давил на плечи, не давил на душу; радостное сознание того, что с мамой всё ладится, правится к добру, к поправке, сняло с меня старый груз беды, и я широко, шаговито мял просёлочную слякоть, весело дивясь, что-де вот только ещё оглядывался на ходу, видел, как приседала за бугром ольшанская церквушка, точно играла со мной в прятки, – и вот уже сама госпожа Гнилуша!
В Гнилуше, с развилки, я не взял вправо, к дому. А сунулся к междугородке.
Благо, это совсем в каких-то шагах, под коленом у первого поворота улочки.
На междугородке, тесной, пенально-узкой, было пусто, тепло. Уютно бормотало радио.
В открытом окошке женщина в наушниках уморённо роняла в трубку:
– Горшечное… Горшечное… Горшечное… Или вы там все поснули?
Она приняла у меня заказ на Москву, сказала, что дадут не раньше чем через час, и снова взялась уныло вызывать поднадоевшее ей это кислое Горшечное.
Куда девать битый час?
Взгляд зацепился за стопку синих телеграфных бланков на круглом столике. Я сел за письмо жене.
Моя милая женьшениха!
Самая красивая девушка квартиры тринадцать!
Второй день не вижу тебя и мне уже не сахар. Ненадолго хватило меня, пришлёпал на переговорку вот, заказал тебя. Пока соединят, расскажу бумаге свою одиссею…
Обстоятельно расписал я свои набеги на облздрав, на Ольшанку и вспомнил. Обещали ж в течение трёх часов перевести маму и не перевели. Да как же я, тыря-мотыря, забыл у мамы спросить, говорили ли ей хоть что-нибудь похожее на перевод?
Ладно.
Спрошу в следующий раз.
Милая, даю цэу по пунктам. Внимай:
1. Кончились деньги – возьми в чёрной кассе. На большую дорогу с дубинкой не ходи. Дубинку могут отнять. Лишние расходы нам ни к чему.
2. Не сиди голодом на одном таллинском кефире. Ты не срок отбываешь. Талия у тебя и так на уровне мирового стандарта.
3. Повесть мою начисто стукаешь по вечерам на машинке? Больше воздуха (пропусков, абзацев). На твоё усмотрение. Я верю твоему чутью.
Тебя так долго не дают, что я и не знаю, что ещё написать.
Да, заглянул вчера в сарай.
Там вокруг кабана мыши водят хороводы. Я и подрядись. За пойманную мышку Глеб начисляет мне рубль – такса. Расчёт при отъезде. Вчера поймал восемь рублей.
Глеб весьма болезненно переживает мой успех. Мысленно желает мне всяческого провала.
Способы ловли не оговаривались. Я сходил купил мышеловку. Она добросовестно ловит. Я только успеваю приносить Глебу на фиксацию тёпленьких мышек. Этих сивых буренушек и дома не любят и на торгу не купят, а у меня берут. Я очищу Глебовы сараи от мышек и карманы от валюты-с…
Вот шёл сейчас мимо Чуракова рва. Остановился, постоял, где собирали с тобой летом чемпионов, как ма называет шампиньоны. Будто с тобой побыл. Грустно так стало…
Пока с мамой всё в порядке.
Сходи на почту, узнай, можно ли послать килограммов пять винограда. Если можно, вышли. Я буду здесь до возвращения мамы домой. Мне она рада, это ей на пользу.
Ну, пока, моя женьшениха.
Пиши сразу.
Твой з-з-з-золотой кор-р-рень.
PS.
Да! А петух поёт тебе по утрам?
– Мужчина, ваш номер не отвечает. Что будем делать с заказом?
– Снимите. И дайте конвертов авиа. Десяток.
Я достал из кармана мелочь, принялся отсчитывать.
– С авиа у нас нескладёха, – замялась телефонистка. – Вот, – на раскрытой ладошке она то опускала, то подымала конверт, будто взвешивала, – вот последний. С витрины. Никто не берёт.
– Он что, инвалидный?
– Да не так чтоб совсем. С лица чистенький. А назаде художественный видок… Мухи рассыпали своё грешное золото…
– А! Согласен на золото!
Я обвёл скандальное скопление и черкнул:
Видит Бог, это не я!
И отпустил письмо в ящик у входа.
2
В компрессорной Глеба не было.
Я туда, я сюда. Нету!
Повстречавшийся старик, которого я спросил, не видел ли он Глеба, ответил как-то кроссвордно:
– Ищите нашу месткомовскую власть между небом и землёй.
Уголки глаз у старика ехидно поблёскивали.
– А поточнее нельзя?
– В кочегарке за котлами. На лестничной площадке.
Кочегарка…
Сердечко во мне проснулось, заторопилось, переступи я только её порожек.
Трудовую жизнь я начинал помощником кочегара, оттого теперь искал приметы былого и, теряясь, ничего похожего, ничего мне знакомого не находил. Ни чёрных гор угля у котла. Ни пыли – на вытянутую руку ничего не видишь. Ни копоти в палец на стенах…
Как всё переменилось!
На окнах лилово горели шары гортензий. Стены и пол, выложенные цветастой плиткой, были ликующе чисты и нарядны.
В приоткрытую дверку несколько мгновений я очарованно наблюдал, как в топке жизнерадостно билось, кипело пламя, вырывавшееся, казалось, вместе с тугими струйками мазута из форсунки, и видел себя давнишнего, ещё заморышем мальчишкой, который, кусая губы, качаясь из стороны в сторону, каторжно тащил центнерные носилки с углём; видел себя без разгиба натужно подбрасывающего в топку уголь; чудилось, смоченный ещё полудетским по́том, горючим, взрывным, отчего, пожалуй, уголь схватывался огненной шапкой едва ли не на лопате…
За котлом почти отвесно взбегала узкая металлическая лестничка. Уже на порядочной высоте она переходила в площадку с перильцами.
С площадки свешивалась Глебова нога в желтоватом шерстяном носке. Сапог смирно стоял под лестницей, переломившись и касаясь верхом голенища пола.
– Гле-еб… – тихонько позвал я.
Глеб готовно катнулся к краю площадки, свесился, как с креста снятый. Утомился бедолага со сна у жаркого котла.
– Высокомученик… Занесло же на такую верхотуру мучиться! Давай спускайся. Дело срочное!
– В обед у меня не может быть срочных дел, – зевая, ответил он. – Я засыпаю своё законное. Глотнул полгранёный молочка…
– Из-под бешеной коровки? – предположил я.
Он несогласно покачал головой.
– Что я, фанерный? На работе – ша! Без глупостей. Зажевал моньку корочкой и на бочок.
– Пролежней ещё нет?
– У меня бочки из дюралюминия. Ни один пролежень не проест. Лучше скажи, как там мама.
– Помалу встаёт…
– О! – оживился Глеб. – Вот кто весь из дюралюминия склёпан! Сколько бегает, за всю жизнь только раз и споткнулась. Всего-то лишь однажды залетела в больницу! Какая выносливая… Мы с тобой размазюхи против неё.
– Слушай! Да слазь ты в конце концов! Я только от главврача Веденеева.
– Так, так… Какие новости из зоопарка?
– А новости такие… Договорились, что в час будет встреча на высшем уровне. Он приглашает Святцева, я приглашаю тебя.
Глеб как-то разом сник. Поскучнел.
– Может, ты сам с ними разделаешься… Один как-нибудь…
– Вот так задел![217] Зачем же как-нибудь? Так дела не делаются. Я, собственно, не знаю дела. Всё шло-кувыркалось на твоих глазах. Сто́ит уж только затем пойти, чтоб посмотреть Святцеву прямо в глаза.
– Да что мне эти смотрины? Что мне его глаза? Масла с них не набьёшь… Конечно, я не отказываюсь с тобой пойти. Но мне нельзя отлучиться от мартена. Кинутся – меня нет. Какой звон пойдёт! Апостол месткома в рабочее время покинул территорию завода!
– Не навек же. На десять минут. Без ущерба для производства. Компрессоры без тебя гоняют холод. Всё равно без дела спишь!
– О не скажи! – Глеб щитком выбросил руку. – Это за проходной, дома я без тугриков и без дела сплю. А здесь я сплю строго по графику. Мне за это мани-мани платят!
– Ну и задвигон! Тебя б к капиталисту. Он бы живо из тебя безработного сделал. Вон в Японии… Стоят девочки на конвейере, рвут с огня, умываются по́том. Как какая не выдержала темпа, чуть замешкалась – над нею загорается красная лампочка! Трижды загорится на день – ты уволена!
– Кончай молоть горох! – озлился Глеб. – Будь спок, надо мной не загорится. И вообще отзынь… Срыгни в туман! С работы я никуда не пойду.
Он лёг на другой бок, повернулся ко мне спиной.