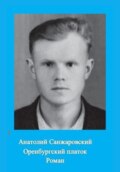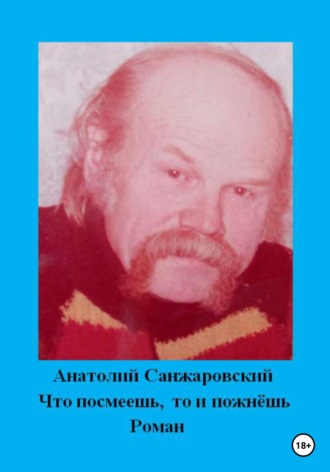
Анатолий Никифорович Санжаровский
Что посмеешь, то и пожнёшь
6
После рассказа я таки не удержался, достал снова блокнот и принялся по горячему следу записывать услышанное.
Какое-то время Святцев полохливо косился на блокнот.
Потом словно выдохнул:
– А я уже и въехал в веру, что ты не начальник… А ты всёжки начальство!
– Опеть ты, кривой кочедык, своё раздишканивать! – напустилась Авдотья на мужа. – Ты что, сослепу не видишь? Дитё перед тобойкой!
– Это тебе он дитё. А мне не то что начальство… Вышкарь! Ты ж, – придвинулся ко мне Святцев, – вышку мне привёз! Так? Разрядишь в меня пистолю, как в погану собачонку, и укатишь к себе допивать свои чаи…
– Какую ещё пистолю? Если вот это, – покрутил я карандаш, – можно назвать пистолей, так да, это единственная моя пистоля. Но разрядить её не разрядишь. Её можно только стереть о блокнотную бумагу.
– Пошёл писать… не верю, – сторонне твердил Святцев. – Я на своём зарубил… Не верю, что мне простили… Такое не прощается… Сменял горшок на глину… Либо-что… На рак сел…[222]
– Э! Пустограйка ты! – с ядовитым смешком в голосе возразила ему Авдотья. – Да кому ты сейчасошный нужон? Кому охота тратить на тебя цельную пулю?
Святцев зыбко уставился на тёмную тёлушку с зеркалом.[223] Основательно и сдавленно вздохнув, тёлушка потянулась в незакрытой на вертушок своей закути, легла.
– Уклалась, Маечка… Ну и подай тебе Господь хорошей ночи! – ласково погладила Авдотья тёлушку по голове. – Зараз и мы ляжем, перестанем колготиться. Не будем тебя беспокоить.
Со смешанным чувством обвел я просторную комнату и подумал, где меня положат. В комнате была всего одна койка, старая, с вытертыми белёсыми шариками на спинках и с прихваченным к пруту у изголовья корнем думной травы от клопов.
– А вы-то что не собираетесь? – виноватясь лицом, как-то уютно спросила меня Авдотья. – Сельский мне строго-настрого наказал, чтоба кирспандента вела на сон к нему.
– А нельзя ли у вас переночевать?
– Оно и можно… Только… Больно уж строг сельский наш владыка. У него на ножу ходи. Сказал привесть, надо весть. А у сельсоветчика в дому какой рай! Жарких комнатей… Заплутаешь, как в лесе! Пуховые перины одна одной выше. А нам вас и положить негде. Разь что на лавке?
– Посплю и на лавке. Не переломлюсь.
– Мне лавки не жалко, не протрёте, – подойдя ко мне вплотную, как-то странно проговорила Авдотья, понижая голос, понижая, видимо, с тем, чтоб не мог её слышать её же муж. Наклонилась, горячечно зашептала: – Не оставайтесь у нас… Мой на одну ножку немножко ухрамывает. Не попёр бы в дурь, как всё поснёт в доме. От греха подале!
Эта интрига подогрела меня.
Нет уж, я всегда норовил к греху поближе.
Работа!
Разве газетный раб не обязан, по крайней мере, разве не должен быть очевидцем того, про что наладился чирикать?
Правда, чтобы написать о Святцеве, вовсе не обязательно скрываться с ним двадцать один год. Но почему одну-то ночку не провести под одной крышей с этим человеком? Всего-то одну?
– Позвольте остаться, – шепнул я. – По работе так надо…
– Ну, разве по работе… Оставайтесь. Может, что и выработаете. Только под бока нечего вам кинуть и раз… Одна соломенка и есть…
Она взяла с койки ближнюю из двух подушек, тесно набитых хрусткой соломой, положила на конец лавки.
После пробежки двадцати вёрст по налитому водой снегу я обрадовался лавке не меньше чем королевской перине и безо лжи повалился в восторге на лавку, вольно раскидав руки по сторонам, отчего одной рукой бухнулся в лопнутое бревно в стене, другая упала на стылый пол.
И только сейчас я почувствовал, что устал, настолько устал, что не нашлось сил подобрать с пола руку.
Я тупо пялился в аврально провисший чёрный потолок, готовый во всякую минуту рухнуть.
Хозяева потихоньку укладывались.
– Двигайся, клумба. Знай двигайся к стенке. Дай места с краю, – ворчал он.
– С краю все места заняты, – с глухим трудным смешком отбояривалась она. – Ползи, кривой партизанец, через. К стеночке давай.
Наконец они присмирели.
Поперёк одеяла на них толсто чернели одна за другой её и его фуфайки, будто две громоздкие птицы раскинули подбитые крылья.
– Дуня, выщелкни свет, – жалобно запросил он. – При свете я слепну… Без света способней…
– Пускай горит, как у всех у добрых людей, – твёрдо обломила она и принялась мне объяснять: – Вперёд у нас в лампочке ель-ель желтела ниточка. А вот уже с год кормимся мы от высокой линии. Светло – майский день! Вся Ищередь спит при свете, наглядеться, – гордо повела бровями на толстую, жирную лампочку без абажура, свисавшую так низко, что не пройдёшь под ней, не пригнувшись, – наглядеться никак не наглядимся да не налюбуемся. А кому не нравится свет, – коротко катнула по подушке голову к мужу, – воткни свои бесстыжики в подушку и сопи. А без света как? Мыши на свет всё робеют лезть. А коли полезут, так коту способней будет на свету перехлопать эту нечистоту.
За Авдотьиными словами я не слышал, как на мягких копытцах подошла Маечка.
Схватила меня за ухо, накинулась взахлёбку сосать.
– Майка! – шумнула Авдотья. – Тебе сбедокурить – молоком не корми. Иша, игрец напал! Чего не лежалось у печки?
Отвечая, Маечка задавленно замычала, и я, выдернув своё родное ухо из её розового рта, пахнущего молозивом, надел шапку, завязал тесёмки под подбородком.
Долгим и пронзительно-печальным взглядом посмотрела на меня Маечка. Тяжко вздохнув, она не пошла назад в свой закуток, легла возле лавки. Я благодарно положил ей руку на лоб, погладил атласную шёрстку.
Лавка моя стояла вдоль глухой, без окон, стены. Было холодно. Холод я прежде всего ощущал коленями, на которые никак не мог натянуть короткие полы полупальто. Я лёг, вовсе не раздеваясь: в ботинках, в ушанке, напялил даже перчатки.
Сквозь дрёму я размыто вслушался в улицу.
Улица студёно безмолвствовала. Лишь изредка за стеной взрывались стремительно нарастающие, столь и стремительно затухающие хрустки снега под быстрыми, спешащими ногами. В зимний холод всякий молод!
Сильней таки невероятного холода была усталость, взявшая меня в тисы, и я скоро заснул.
7
Откуда-то сверху раздался надсадный, истошный детский голос:
– Папка!
Этот цепенящий вскрик подбросил меня, как мяч.
Я было сел, но тут же, увидев над собой Святцева с длинным – с локоть! – блескучим тонким ножом, снова повалился на лавку, зачем-то заслоняя лицо руками.
– Папка! Что ты! – дуром ревел всё тот же голос, и выроненный нож, которым обычно колют кабанов, стоймя упал мне на грудь.
Жало ножа было до того острое, что насквозь прохватило пальто и завязло, завязло настолько глубоко и плотно, что, когда я в следующее мгновение вскочил на ноги, нож торчком торчал из меня и не падал.
Я сражённо вытаращился на пятящегося к двери Святцева. Лицо у него было дикое, мстительное. Я не знал, что мне делать.
– У-уб-и-и-ил! – придушенно захрипела Авдотья, схватываясь с постели.
В два резвых прыжка Святцев вернулся ко мне, потянулся, растаращив кровянистые глаза навылупке, к ножу, но я, растерянный, инстинктивно опередил-таки Святцева, выдернул нож.
Это уже кое-что, если не всё, меняло.
Увидев у меня в руке нож, Святцев кинулся прочь, и я, двумя пальцами сжав нож за шильный кончик, изо всей силы метнул вдогон Святцеву.
Какой-то миг спас его. Хватило именно мига, когда Святцева успела загородить от летящего карающего ножа закрывающаяся дверь. Воткнувшись в дверь, нож закачался из стороны в сторону.
Я окаменело сел на лавку.
Подбежала Авдотья, с плачем обняла.
– Сынок!.. Сыночек!.. Т-ты живой?
– А я почем знаю…
Я расстегнул пальто, задрал к горлу свитер.
На мне не было ни царапинки!
– Вот так штука! – Разлохмаченная Авдотья разинула рот, как поле поворот. – Я ж своими гляделками видала… Из самой же из грудоньки ножина колом выставлялся!
Я обследовал пальто.
Сверху оно было испорчено. Я сунул в дырочку палец. Наткнулся на жёсткий широкий блокнот в кармане. Достал блокнот. Насквозь, до второй обложки, блокнот был пробит.
Конечно, в блокноте нож и завяз.
Под ножом, под этой бедой, страницы как бы сжались, плотней подобрались друг к дружке, чтобы выстоять, чтобы уберечь меня, литком слились в единую тугую броню, и сломалась беда в этой броне, не дала броня ей дальше ходу.
Зато теперь эти дырчатые страницы уже не жили отдельно, уже не могли с бархатным хрустом рассыпаться, разойтись по листочку – по краям прохода ножа листки чуть завернулись во все стороны, и одна сквозная смертельная рана держала их вместе.
Ком набух у меня в горле. Я погладил блокнот…
– Мамушка моя породушка, – вслух разбито думала Авдотья. – Ну какими словами всё это обрисуешь? Какого ума дашь всей этой ужасти? Курёнку ж головы не срубил! А под старость лет на человека с чем лихостной кинулся!.. Я-то, ляпалка, ещё с вечера как-то неясно почуяла, к неладности он правится… Хотел, чтоб ночь без огня… Тогда б, сына, я уже не говорела с тобой как сейчас…
В бережи положил я блокнот в карман.
Застёгиваю пальто.
– Это ж надо, – благостно засветилась Авдотья. – Так глянуть – белые листочки. А ты смотри, артельно уберегли человека…
И, оживляясь и радуясь голосом, почти выкрикнула:
– Однако листочки листочками, да не одне листочки были тебе, соколушка, защитой. Наиглавный спаситель вот он вот! – в торжестве указала на беленького мальчика, что заморенно и пугливо хлопал с печки долгими ресничками. – Вот кто выдернул из беды. Царствует себе на бочкý, тепло стерегёт. Санушка, бесхвостой горносталь, как ты всю эту безобразию углядел?
Саня конфузливо задёрнул занавеску, поскрёбся в запечную глушь.
– Чего ж прятаться? Ты уж со своей вышки докладай ёбчеству как на духу, – ласково выманивала Авдотья признание.
– А чё, мамика, докладать… – несмелым, мятым голоском откуда-то, казалось, из недр печи отозвался Саня. – Всхотелось по-малому, толкнулся лезть вниз, в холод, и не полез. Увидал чужого дяденьку, забоялся… Лежу гляжу, больно интересно, как он в завязанной шапке спит. Тут ворухнулся папка, тихо кругом посмотрел и кошкой полез с койки не по ногам твоим, ма, а так, через верх…
– Через спинку, – пояснила Авдотья. – Я его, паразитовца, даве нарочно утолкала к стенке. Думала, ежли поползёт, заслышу. А он, видал, в самую силу сна через верх тенью прянул! Через шишаки! А потом? Что потом, сыну?
– Оделся, обулся, на пальчиках докрался к дяденьке и хва-ать из сапога ножик да ка-ак замахнётся! Я и воскричи.
– Божье дело сделал ты, сынок… Спас… Человек не без сердца. Ты вот уберёг гостюшку, а гостюшка, может статься такое, в благодарность не тронет папаньку нашего. Подаст же Господь гостинчик!
– Да не трону я ваш гостинчик. Не убивайтесь… – Я поднял тон, нарочито громко позвал: – Саня! Божий человек! Покажись! Дай пожму на прощанье твою ясную руку.
– Уходить?! – всполошилась Авдотья. – Одному? Не лепи дурину! Не пущу! Самая ночь, зги божьей не видать. На свету только и выпущу из хаты!
Авдотья пришатнулась ко мне. Затараторила на ухо:
– Ты, стоумовый, думствуй… Можа, он за дверьми дожидается с топором… И за селом способный настигнуть… Кисель же в коробке!.. Пропащая душа! Ни к лугу ни к болоту… Запало дуравливому, что ты заберёшь его, он и…
Авдотья снова подняла голос, твердя, что не пустит в ночь одного.
Она напяливала на себя в спехе фуфайку, совала босу ногу в валенок и не могла всё никак попасть.
С минуту я постоял у печки, ожидая Санушку.
Однако ждал я напрасно.
Санушка так и не выткнулся меж плотно сдвинутых кусков занавески.
Жутко стало мне в святцевской хате. Ещё не хватало, подумалось со злорадством, что в этой Ищереди уцелеет от меня один мой полустёртый карандаш. Потемну незвано пришёл, потемну в глухой час и выкачусь.
Я побрёл к двери.
Распатланная Авдотья, выпередив меня, распято кинула руки перед дверью. Не пущу!
Молча я приподнял её податливую, усталую руку и ступил в тёмный проход, опахнувший стынью.
Оберегая в проходе от нечаянной беды, Авдотья подняла, разрогатила руки, нависла сзади надо мной, идя след в след.
– К чему этот маскарад? – запротивился я, конфузясь.
– Ничего, ничего! Так он тебя ничем не достанет.
Провожала Авдотья меня и по мёртвому селу, не отставала уже и потом, когда дорога упала с бугра и полилась в стонущий на предутреннем ветру голый лес…
Глава десятая
Что сказано, то связано.
1
Я стоял у окна, собрав руки на груди.
За окном кидало мрачным снегом. К снегу несмело подхватывался редкий, непрочный дождь. Я смотрел на эту торопливую, тревожную заверть и явственно видел давнюю Ищередь и всё то, что там со мной случилось. Неужели тому уже двадцать лет? Неужели тот маленький храбрун, так и не отважившийся подать мне руку на прощание, и есть вот этот человек?
Из снежной кутерьмы выломилась расхристанная, нервная фигура Святцева-младшего с трепетавшим на ветру куском газеты в руке.
– Какой же я дубак! – во весь рот пальнул он с порожка. – Какой же глупарь! И на что было тогда кричать отцу? Сейчас я бы был по крайней мере избавлен от объяснений с вами! Да, я резок. У меня есть на то право. Вот оно!
Святцев карающе потряс старой, с желтинкой, газетной вырезкой, швырнул её ко мне на стол и, процедив, что вернётся через минуту, демонстративно вышел, нервно подтанцовывая.
Старые газеты всегда меня волнуют.
Но когда в старой газете видишь себя, цену такой газеты в две копейки не впихнёшь.
В святцевской вырезке был мой фельетон «И покойницу выдали замуж».
«А, старый знакомый… Ну, здравствуй, здравствуй… Что же ты весь такой рваный да мятый? Или ты с кем воевал?»
Осторожно разгладил я на колене истёртый, продранный во многих местах на сгибах листок и с грустью начал читать:
«Его любили коллективно.
Всей службой Фемиды.
– Наш Алёша – эталон молодого человека. Услышит неблагозвучное слово – рдеет, что невеста на выданье. А какой внимательный! Ах, если бы все мужчины были такие! На женском лице не просеклась бы ни одна морщинка!
Им восхищались. Носили на руках. Потому что «вёл себя идеально и на работе, и на досуге».
Алёша Шиманов – судебный исполнитель. Учился заочно в юридическом. Прочили ему карьеру народного судьи.
Для начала перевели в нотариусы.
Вызвали в область. Опыта подбавить.
«К прохождению практики Шиманов относился серьёзно, – свидетельствует заместитель областного нотариуса Катигрош. – Особое внимание уделил сложным видам нотариальных действий, а именно: удостоверению сделок, выдаче свидетельств о праве наследования, о праве собственности и т. д. Зарекомендовал себя настойчивым, энергичным в достижении поставленной цели».
Напрактиковали Алёшу.
И в новом мундире он идеален. По-прежнему все от него без ума.
Однако любовь любовью, а табачок врозь.
Как ни обожали, а ревизора прислали.
«Проверить тождественность принятых сумм полноте сдачи их в госбанк бывшим судисполнителем Шимановым».
Ай-ай!
У непрошеного гостя «вызвали сомнение подчистки и исправления банковских документов с меньшей суммы на большую. С 20 рублей на 200. С 8 на 80…»
Гранатовым огнём горел Алеша, шумно сморкался и писал объяснение:
«В четвёртом квартале было большое поступление исполнительных листов. Выезжая по ним на места, т. е. в сельские Советы, я расходовал деньги, принятые по квитанции, так как своих не оставалось. Когда наставал срок нести деньги в банк, для сдачи полноты сумм у меня не хватало, взять негде. Кроме того, часть денег я израсходовал на сессию в юридическом институте, где заочно учусь. Недосдал я всего 306 рублей. Основная причина состоит в том, что в это время в семье были большие неприятности. Я отдавал зарплату на питание, а жена Ираида из своей зарплаты мне ничего не давала и – обратите внимание! – даже запрещала учиться. А учёба в то время была для меня всего дороже. Я стремился получить образование и быть достойным человеком, т. е. достойным членом нашего общества. А на поездку в Москву требовались определенные расходы. Вот это и толкнуло меня на преступление. Заверяю, что никогда не совершу больше ничего такого и прошу дать мне возможность оправдаться честным трудом на том участке, где позволите работать».
Кумачовый Алёша умолял.
Это ничуть не мешало ему параллельно заваривать кашу покруче, чтобы «разойтись с долгами». Он почти твёрдо считал, что клин вышибают клином.
Глаза не смотрели со стыда, а руки, соответственно, делали.
Не дай Бог обозначится на миру эта история. В неё ж в мгновение ока вцепится прокурор. Тогда доказывай, что тебе до смерти хочется быть достойным человеком!
Вошла знакомая бухгалтерша узла связи Борина с каким-то мужичком. Мужичок петлисто заулыбался.
– Работёшка, сынок, есть…
– На общественных началах?
– Кладёшь в обиду… либо-что… За барашка, спаситель наш, в бумажке… Чтоба колёса не скрыпели… Всякие колёса любят масло…
– Бабульки вперёд…[224]
– Только вперёд!.. Слушай, не благопрепятствуй. Тут такое дело, сам архиерей не расколупает… Значит, у меня примёрла Дуня. Мне жена, а ей, – кивок на Борину, – сестра. Раз померла, чвирикаю один… Недели с три! Вдруг заявляется Ванька-Вояка, с детства дружок: «Акимыч, наливай благодарственную. Невесту тебе нашёл! Мотюшку!» Я, может, и не взял бы горожанку в дом… Да осенины уже на носу, картошку убирать, а подсобить некому. Ладноть, думаю, вдвоёмша скорей уберём.
Расписываться я не стал. Резона не видел. Распишись, ан сам Христу душу наперёд подаришь, чем она? Тогда ей – всё моё! Дни-то мои заходят, тухлеют. Мне под полста, а она на полный двадцатник свежей!
Ладно, сошлись. Сжили без венца, без расписки всего полтора месяца и на, раздуй тя горой, выпала моя Мотенька из лада. Слегла в городе в больницу. Бах вскорости новостюха. Угас огонёшек! Померла! Я так и сел. Да что это бабы моду взяли? Мрут, как мухи! Схоронил одну, вот другая. Снова ищи невесту?
Ну, невеста товар не заморский. Сыщется. А вот неповалимое горе сушит-кручинит. Распишись, совет отвалил бы красненькую на похороны, а то – ни граммочки!
Ладнуха. Открываю её чемоданишко. Одежонку-то ей надоть в чём привезть. Глядь – кучка десяток! Че-ты-ре тыщи! Я считаю в старых. Так всегда боле… Либо-что… Еще две книжки! На пят-над-цать тыщ!
Чёрная кровь во мне так и закипела кипнём.
– Ну, Ваня, – смеюсь дружку, – некогда распускать басни. Раз ты самолично подсуропил мне такую невестушку, ты и вези мне моё достояние из города. Лови машину да за Мотюшкой за золотой!
Ванька-хват живо прикатил покойницу, гроб – за магарычовую косушку чужой отдали! – и два ящика зверобоя. Проводины были красные! – мужичок мечтательно закрыл глаза и пошатался. – Господь не прогневается!
Розовея, Шиманов робко покашлял в кулак.
– Папаша, давайте дело.
– Завсегда, пожалуйста. Какими чарами мне уголубить, усватать эту пятнадцатку?
– Чары стандартные, потолочно-чернильные, – алея от крайнего смущения, покаянно прошелестел тихими словами Шиманов. – Так и быть, пожалую вам свидетельство, что вы, Святцев, – господи, фамилия-то какая святая, аж холодно!.. – Святцев Александр Акимович, житель села Нижняя Ищередь, являетесь единственным наследником имущества гражданки Алексеевой Матрёны Николаевны. И в сберкассу!
– Отдадут мигом? – маетно уточнил Святцев.
– Быстрее мига! – багровея, роняет Алеша. – Только сперва… Подай горы бумаг. А где они у вас? Ну, хотя бы свидетельство о браке, самая главная бумага, где?
– Нет как нет и невеста на погосте… Ах, бабы, ах, козье племя! – яро хватил себя Святцев по колену. – Это идолы в юбках! Ведь сколь ш-шокоталенка[225] таила! Наведался в больницу.
– Мотенька! Малинушка моя! Либо-что мне скажешь? – спрашиваю.
По лицу вижу, музыку пора заказывать, а она: не думай, от соколика от своего я ничего не скрываю. А!
– Волнуетесь? Со всеми бывает перед регистрацией. – Пунцовый Алёша заговорил менторским, вязким голосом: – Для регистрации требуется: а) взаимное согласие; б) достижение брачного возраста; в) паспорта. Согласие и возраст имеются, паспорт её будет. За неграмотного, – повернулся к Бориной, – вы? Пишите. Такая-то и такой-то вступили в брак – до нас замечено, «разве б хорошее дело назвали браком?» – десятого января одна тысяча девятьсот пятьдесят второго года.
– Эк хватил! – сглотнул слюну Святцев. – Додуть могут. Ить Дуня, законница, перед Матрёной была, только в шестьдесят третьем отстрадалась-то!
Алёша с изысканной вежливостью пропустил замечание мимо ушей и, пылая осклизлым кровавым румянцем, поздравил «новобранца» с законным, вручил копию свидетельства.
– А теперь выправим бомагу о смерти. Почила дорогая не четвёртого июля, как тут, а четырнадцатого февраля. Смерть в наших скромных интересах должна наступить раньше, ибо имущество умершей можно получить лишь через полгода после смерти. Ждать? Рискованно. На вклад вне конкурса претендует сестра умершей. Сестра пока и не подозревает о наличии этого вклада.
Отредактировал Алёша.
И вышло…
На пятый день после отхода в мир иной «невеста» собственной персоной пожаловала не в небесный сельсовет, а в земной и прописалась в Ищереди.
Ах, Алёша!
Маху дал. С лёта.
Горячая головушка.
Ей и сейчас горячо.
Под южным красно-медным солнцем.
Видите, устал, умучился в заботах. Катнул в геленджикское «Солнце» побаловаться солнцем.
Время мне сделать доклад прокурору. Ан против супружница Алёши.
– Да Алексей Михалыч вовсе не виноват! – истомно разъясняет она. – Он мягкий, застенчивый, добрый. Но есть, мягко говоря, люди, которые, опять же мягко говоря, нахально эксплуатируют его доброту в корыстных целях. Во-он кого надо брать под микитки! Не Алексей Михалыча! Да узнай Алекс Михалыч, что им интересовались из газеты, – со стыда помрёт. Я-то его знаю лучше вас!».