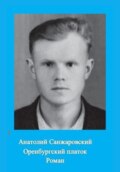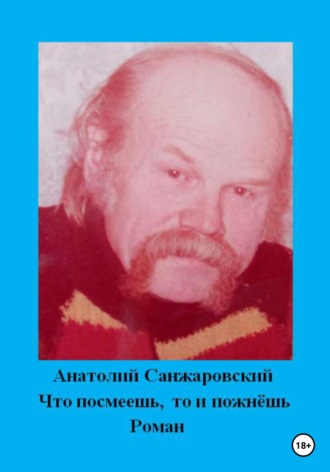
Анатолий Никифорович Санжаровский
Что посмеешь, то и пожнёшь
4
Катя сидела на своей койке и молча ждала его ухода. Изжога так изжога, пей, мне-то какое дело, говорило выражение её лица.
Он уже поднимал бокал к губам, когда Катя, почуяв запах чеснока, рванулась к Ивану, вытолкнула из руки бокал.
Бокал слетел на пол и разбился.
Заворочалась укутанная с головой старуха.
Больше никто и никак не прореагировал на этот короткий, как хлопок, шум.
Кате кажется, что у неё развалилась высокая причёска. Царицей проследовала к трюмо и принялась обстоятельно, рассвобождённо взбивать, ухорашивать волосы, мстительно любуясь собой.
Выходка эта вывела Ивана из оцепенения.
Ни удивлённый, ни огорчённый тем, что опять, словно в дешёвеньком фарсе, всё обошлось, он несколько мгновений с полным безразличием наблюдал, как она, вовсе не замечая его, извивалась перед зеркалом, упоённо хлопоча над великолепием бабетты.[264]
Глухо спросил:
– Сколько можно играть?
– А эсколь захочу! – хлёстко стегнула.
– Э нет, милахуня! – всё так же глухо пробубнил Иван, закипая. – За кого ты меня дёржишь? За долбонавта? Ну сколь можно кидать метлу?[265] На конце концов каждый отвечает за свои штукерии. Тоже деловая колбаса!..[266] Ты не даёшь мне житья, не даёшь и смерти! Что же ты за изверг!? Вечная мозгобойка!
Резкий прыжок перенёс его к Кате – он дважды ударил её в спину ножом, что лежал на подоконнике.
Всё так же держа расчёску глубоко в волосах, Катя запрокинулась на старуху.
Выглянув из-под одеяла, старуха блажно завопила.
– Молчи, глуха, – меньше греха! – сквозь зубы прицыкнул на неё Иван, медленно занося над Катей нож.
Со страха ничего не соображая, старуха сошвырнула с себя край одеяла и, боясь перевернуться на живот, привстав, накрыла собой Катю и увидела, что уже над ней стоял нож.
Капля крови стекла с ножа и, упав старухе на нос, мелким алым веером рассыпалась по сторонам.
Старуха не знала, что делать, и не спускала вывороченных глаз с ножа, от которого, казалось, не могло быть большой беды: нож короткий, столовый, всего на палец красным отростком высовывался из пестрой магазинной обертки. (Вчера Катя купила; не развернув, сунула на подоконник.)
В следующий миг старуха сдёрнула со спинки кровати свою юбку, со всей старой силы перевалила ею Ивана с плеча на плечо.
– Ну ты, прелая авоська! Ещё драться… Не суетись, пока я тебя не смокрил!
Плашмя приложив пластинку ножа к старухиной щеке, Иван толкнул с такой силой, что старуха скубырнулась с Кати на пол. Падая, старуха угадала поймать за полу пиджака, так что Иван, замахнувшись Кате в грудь ножом, сполз, съехал – удар завяз в одеяле.
Это набавило ей смелости, и навалилась она из крайней силы тянуть Ивана от Кати, настёгивая по чём попало веником, подвернулся под руку.
Может, это и помогло.
Отступившись от Кати, Иван поднёс нож себе к горлу.
– Ва…ня… не… – вышепнула Катя.
Прикрываясь у груди своим белым букетом, Катя перехватила голой рукой нож, отвела от Иванова горла.
Это вконец взбесило Ивана.
Резко крутанув ножом и до кости развалив Кате ладонь, он со всего маха кольнул ножом в цветы и раз и два, а затем, вскочив на Катину койку, открыл окно и выломился в ночь.
И только тут, будто по уговору, разом изо всех трёх дверей высунулись, наползая друг на дружку, полунапуганные, полуудивлённые молодые жилички.
– Аспиды! – захрипела на них старуха. – Ни одна зараза не вышла!.. До чего ж дешёвый мир![267] Уберите ваши поганые рыла! Не то я сама вас топором посеку!
Девчонки втянулись в темноту, неспешно закрылись двери, и старуха, обняв Катю, с причётом заплакала невыразимо горько.
– Бабушка, – слабо сказала Катя, – что же вы плачете? Зачем вы плачете? Всё обойдётся… Что же так тянет?.. Что же так печёт?..
Ей казалось, что цветами обязательно уймёшь жар, и она в судороге стала прижимать к себе свои белые хризантемы.
Но жар не уходил.
Обхватив туго голову руками, села за стол; и пяти секунд не удержав себя в покое, побрела в угол, воробушком приткнулась на табурете; тут же снялась и маятно закружила по комнате, криком крича:
– Вот и всё!.. Вот и всё!!.. Вот и всё!!!..
За нею под неярким светом каплями чернела кровяная дорожка.
Катя вышла в сени.
– Мамочка!.. Ноги не слушаются… Уста-али… Пи-ить!.. Тесно… Всю жжёт… И почему дверь на запоре? От кого запираемся?.. Бабушка!.. От кого запираемся?..
Она отодвинула засов, вышагнула на улицу.
На улице лил дождь как из ковша.
Катя стала ловить лицом благодатные, прохладные дождины, пробуя содрать с себя тяжёлую красную кофту, паркий, тугой чёрный сарафан. И кофта, и сарафан тоже были в ранах.
С угла крыши аврально бил водопоток.
Катя сделала к нему шаг, второй и упала.
Тоненькая ивушка вздрогнула над ней.
5
Первое движение мысли – убежать!
И Иван, спотыкаясь, падая, бежал что было в нём мочи, бежал, не разбирая пути, не ведая направления.
Но чем дальше бежал, понемногу остывал. Червь начал точить его. Он засомневался, что сможет уйти.
Куда скроешься по такой мразине дождю? Кто приютит? Гляди, уже дозвонились до собачьего домика,[268] рыщут уже псы по всем кусточкам.
Тут всяк кусточек – враг!
Иван ловит себя на том, что правится к городу. Зачем к городу? В объятья городских тухлых ментозавров?[269] Наверняка связалась уже Гнилуша с городом, наверняка в подмогу уже летит навстречу наряд. Да куда ни ткнись теперь, нарвёшься на ночника краснопёрого![270]
«И что я, тупарь, пру, как танк, посреди большака?»
Он берёт по канаве за голой посадкой вдоль дороги.
Едва сошёл с тверди, как откуда-то сзади покачало светом: по ухабам плыла с подвоем машина.
У Ивана душа оторвалась. Где стоял, там и повалился, вжался в канавную киселину.
Просвистев на дурной скорости, машина погнала ныряющие огни к городу.
Иван зверовато приподнялся и застыл.
Бобик!
Наверняка ментовоз. Кому ещё в этот ненастный глухой час гонять?
Не сводя сторожких глаз с уходящего света, присел на канавный бережок.
Куда бежать? От кого бежать? От беды? Ты сел – и беда с тобой села. Ты встал – и она встала. Ты пошёл – и она пошла. Ты сам – беда. Так куда от себя убежишь?
Он сидел на земле и вовсе не чувствовал ни сырости, ни холода. Он не знал, что предпринять.
Из вязкой выси чёрно валил забубённый, не последний ли перед снегами дождь.
«Катя… Жива ли?.. Я на всё пойду… Лишь бы ты жила… Мне от тебя не уйти…»
С каким-то лихим молодечеством выкатился он на середину большака и заторопился в Гнилушу.
Теперь он знал, что ему делать.
6
Вся Гнилуша пропаще спала.
Ярко и тревожно горели лишь два окна у самой дороги.
Это была операционная.
Иван вошёл в свет.
Серые выцветшие шторы будто нарочно, для дразнилки на палец не добегали до низа окна.
Иван припал, втаился в щёлку.
Он увидел пару мужских ног до колен. Мужчина был в красных туфлях на тупых высоких каблуках. Дальше – врастопырку пара женских ботов.
– Кто же это тебя так? А? – нарочито громко спросил Святцев.
Иван слил всё внимание в кулак, в струнку вытянул слух.
– В… Ва-а… – трудно выдохнула Катя.
Ни ответа, ни голоса Кати Иван не расслышал.
Легонько надавил на створки – створки пошли врозь.
С полминуты Катя копила силы, по слогам повторила ясней:
– Ва… ня…
Дрогнул Иван.
Жива Катя!
В её голосе ему послышался зов.
Не мешкая, кинулся в окно.
– Ох уж этот Ва…
Святцев обрезался.
Заслышав сопенье, выше надвинул на Катю простыню, что бугрилась у её ног, бросил выжидающий глаз на окно.
Качнулась штора, выступил Иван.
Мокрый, загвазданный; на пиджаке, на брюках размытые красные пятна, вся шея в крови.
– А это что ещё за явление из-за шторы Христа народу? – громким шёпотом выдавил из себя пораженный Святцев. – Что за бегунец?[271] Кто ты?
– Ваня я, – так же шёпотом ответил Иван.
– Какой ещё Ваня?! – свирепо раздул ноздри Святцев.
– А какой… – Движением головы Иван указал на Катю.
– А-а… Вон оно что, – сразу как-то мягче, покладистей заговорил Святцев, на всякий случай отшагнул от Ивана. – Понимаю… – На святцевском лице просеклось подобие улыбки. – Всякого влечёт своя страсть. Ты что же, явился до конца свести с нею счёты?
– Не тратьте время на дуристику.
– Я тоже так думаю, – строго рубнул Святцев и обратился к оторопевшей от ужаса сестре: – Мария Онуфриевна, проводите товарища в приёмный покой. Пускай ему перевяжут шею.
– Не суетитесь, доктор. В милиции мной и таким не побрезгуют.
– Тем не менее, – жёстко продолжал Святцев. Ему не нравился тон этого гаврика. – Это не танцплощадка! Посторонним здесь не место. Уходи.
– Никуда я от неё не пойду! – напористо пробормотал Иван.
Обидой легло на душу, что даже чужие люди гонят от Кати.
Иван видел, что простыня над её лицом стояла белым шалашиком.
Ему вдруг наперекор всему и всем захотелось подойти, поднять белый шалашик и хоть раз в жизни поцеловать Катю.
«Столько встречались, а и разу не поцеловал», – пропаще подумал он и твёрдо побрёл к столу.
– Ради всего святого, не подходите! – с блёстками слёз на глазах бросилась к нему сестра. – Я вас прошу… Совсем её погубите…
Мольба сестры отрезвила его.
Попятился он назад к окну.
– Нет, нет, – упрямился Святцев. – Попрошу вообще из операционной!
– Разве я вам мешаю? – набычился Иван.
– Что это ещё за митинг? – Святцев гневно выпрямил спину. – Молодой человек! Безумствуйте там, где это уместно. Не уйдёте сами – позову милицию!
– Напугали шоколадной ментовнёй…[272] Я сам туда пойду… Отвечу за своё… Лет на десять наработал… Я уже заштриховал в клеточку свой червонец, никто его у меня не отымет… А вы, доктор… Что же вы теряете время? Сейчас время – жизнь! Не только её, – кинул руку в сторону Кати, – но и – ваша. Учтите! Умрёт – платите головой. И плата на месте. Если не хотите сегодня нырнуть в гроб…[273] Так что работайте… До упора! Без помарок!
В знак того, что разговор окончен и что больше Иван ничем не намерен мешать, он вернулся за штору, к чёрному окну.
7
Мучительно уходили минуты.
В кровь искусал Иван губы, слыша Катин стон.
– Ва… ня… Ва… ня… – звала в бреду. – Разве я виновата, что ты такой маленький, и я не вижу тебя за…
– За кем? – невольно выпало у Ивана.
Иван было шагнул к Кате.
Опустив окровавленный тампон в лоток, Святцев жестом запретил приближаться.
Сам подошёл к Ивану:
– Человек вне сознания. И чего лезть с выяснениями?
Минутой позже Катя просила:
– Не говорите… маме… Мама… этого не…
Каждый её стон гвоздём вбивался Ивану в душу.
Не выдержал Иван, тихо заплакал, когда Катя, поймав блуждающими руками докторову руку, целуя её и плача, стала горячечно умолять:
– Гле-е-е… Гле-е-е-еб… Никит Михал… Родненький!.. Спасите… Я хочу жи-ить!..
Слепляя с запястья цепкие пальцы, высвобождая руку из слёз, Святцев с плохо скрываемой раздражительностью назидательно бормотал:
– Я не Никита Михалыч… Александр Александрович я… Святцев…
Иван насторожился.
Почему Катя зовёт человека, которого здесь вовсе и нет? Не Никита ли этот Михалыч заслонил его перед Катей?
Иван спросил сестру:
– Кто такой Никита Михалыч?
– Старый, видалый хирург.
Иван приподнял бровь, узнав, что Никита Михалыч сам лежит в четвёртой палате. Видалый и – болен! Лежит в больнице!
Вот тебе на…
Каждый в округе ловчил угадать к Никите Михалычу. По кусочкам ведь склеивал. Живут! А вчера самого прищемило сердчишко в этой же операционной. Чуть не слетел на пол со скальпелем.
– Гле-е-е… Никит Михал… жи-ить!.. Ники Ми… жи-ить!.. Ни…
Иван нетвёрдо подшагнул к Святцеву.
– Доктор! Несчастный вы помощничек смерти! А вам не кажется, раз больная зовёт Никиту Михалыча, то вам она не доверяет?
– Не хотите ли вы сказать, что она доверяет только вам? – с ядом резнул Святцев.
– Я в положении вне игры. Но если она зовёт Никиту Михалыча, так и со сна подавайте его сюда. Не забывайте, товарищ мясник в глаженом халатике, условие прежнее.
Из глубины коридора донеслось слабое постукивание.
Мария Онуфриевна выглянула за дверь.
– Никита Михалыч! Про вас речь, а вы навстречь!
– Только навстречу, Машенька, только навстречу! – страдающе просиял Никита Михалыч, робко радуясь тому, что вот встал и с палочкой, по стеночке, волоча ноги, а сумел-таки самостоятельно докулюкать. – Нипочём не усну… Слышу: машина, голоса… Беду привезли… Думаю, надо пойти посмотреть. Может, чем буду в пользу.
Однако старый хирург уже ничем не мог помочь.
Катя умерла, не приходя в себя, умерла с тихим последним вопросом:
– Так… никто… и не сбросит… снег с хризантем?..
Иван закрыл Кате глаза, ждущие ответа, в первый раз поцеловал.
Только тут Ивана заметил Никита Михалыч.
Помрачнел.
– Молодой человек! Вы-то что здесь потеряли?
– Что и он… – Вмельк глянул Иван на Святцева. – Всё!
Растерянный Святцев покосился на Ивана:
– Поменьше хлопотунов… Оно б и лучше…
Иван выстыл лицом:
– Так звоните в лягавку.
Святцев хотел прощённо улыбнуться – только кисло пожмурился.
– Зачем же? – уклончиво возразил он. – Я не видел вас, не слышал… Можно тем же порядком, – еле заметно качнул бровями в сторону окна, – что и сюда…
Говорил Святцев одними губами.
Напрасно Никита Михалыч напрягал слух, пытаясь понять, что же такое потаённое сорочил Святцев; недоумевающе перекинул взгляд со Святцева на Ивана.
Иван показывал на черневший в предбаннике телефон:
– Звоните! Не то!.. Слизняк!..
Хмыкнув и коротко раскинув руки, мол, раз требуете, не смею не повиноваться, Святцев привычно, легко набрал ноль.
Но двойка ему не давалась.
Он долго никак не мог попасть пальцем в нужную ямку.
В нетерпенье Иван оттёр его локтем от телефона, выкружил ноль-два.
– Милиция! – отозвался ясный голос. – Дежурный сержант Коренной.
– Милиция… Ровно в четыре ноль-ноль тут убили человека. Убийца Александр Александрович Святцев. Находится на месте преступления. В операционной гнилушанской райбольницы. Спешите. Через пять минут вы можете его самого не застать в живых.
Иван резко, с пристуком положил трубку.
– Ну… У вас, извините, и юморок, – искательно поморщился вспотевший Святцев.
– Да нет, это, – указал Иван на стол с Катей, задёрнутой простынёй, – это у тебя юморок… Неужели он тебе ничего не будет стоить? За такое, ёксель-моксель-фокс-Бомбей, мало потушить бебики…[274]
Святцев пробует говорить что-то невнятное в своё оправдание.
Иван выставил усталую руку щитком. Не трещи! Разве не о чем помолчать?
Оставаясь сидеть у телефона, кладёт медленно руку на трубку так, что его часы хорошо видимы всем.
Воцарилась такая тишина – часы словно колокол слышны во всех уголках.
Недоумение сковало лица Никиты Михалыча и Марии Онуфриевны.
«Что это, шутка? Розыгрыш? – загнанно думает Святцев, подымая глаза на Катю. – Не довольно ли одного розыгрыша?»
Отрешённый Иванов взгляд блуждает по Святцеву.
– Безвыходняк… – бормочет зацепистый Иван, вставая и опуская руку за полу пиджака. – Ну что, минисованный?[275] Похоже, им там, в мильтовне, живой ты, мудорез,[276] не очень-то и нужен. Не поспешают что-то…
В панике Святцев попятился.
Невзначай смахнул на пол лоток с инструментами.
Невообразимый грохот побежал по всей больнице.
Из этого грохота Иван слышит ещё более громкое:
– Руки!.. Вверх!
Крутнулся на голоса – из простора двери наставлены два милицейских пистолета.
Иван обмякло растаращил руки.
В правой у него сверток. Край свёртка концами пальцев прижат к ладони. Серый бумажный свёрток разворачивается сам собой, тянется книзу тяжестью, похожей на металлическую палочку.
Из бумаги, перепачканной кровью, с тонким звоном падает на пол нож с белой пластмассовой ручкой. На лезвии в сухой крови несколько лепестков хризантемы.
Следом за ножом с бумаги слетел магазинный чек на семьдесят пять копеек.
Иван настолько устал, что не может поднять пустые руки, и, секунду помедлив, покорно несёт их навстречу пистолетам. Надевайте ваши браслеты!
Ему надели наручники.
Один милиционер, тот, что повыше, покруче телом, вышел в коридор, посторонился, дал выйти Ивану.
Второй припал на корточки в операционной, подхватывая с полу всё, что оставил Иван.
– Надо трофеи подобрать… эту потеху…[277] Наши рыщут по всему району, а он, видите, субченко-бульонченко, обосновался в операционной. Дома сказался…[278] Это жирно зачтётся… Может, загасился на дурдом?[279] Разбежался отдохнуть в доме жизнерадостных?..[280] Хор-ош гусик, ещё б летал…
8
Издалека, из приёмного отделения, долгое время рвался придавленный телефонный стон.
Почему не снимают трубку?
Мария Онуфриевна скользнула тревожным взглядом мимо Святцева, кто был ей сегодня начальством непосредственным, вопросительно уставилась на помертвелого Никиту Михалыча, – добровольно ведь приполз в операционную на правах болельщика. Не больше.
Никита Михалыч согласно кивнул.
– Сан Саныч! – строго заговорил он, когда дверь едва закрылась за медсестрой. – Зачем вы заехали не в свою епархию?
Святцев отчуждённо молчал.
А что скажешь «в защиту своего дома»? В хирургии Святцев чужой. Однако ради чего он, терапевт, нехирург, кинулся на самостоятельную операцию?
Святцев галопом заперебирал события этого злосчастного ночного дежурства по больнице…
В два тридцать по звонку выскочил на «скорой».
Пострадавшей нужна срочная операция.
Кто будет делать? Главпинцет,[281] генерал хирургического корпуса, как за глаза звали Никиту Михалыча, со вчера сам лежит почти с инфарктом тут же, в больнице.
Второй хирург, Катигроб – с такой фамилией как только и жить? – отпускник. Где-то на море охотится за последним загаром.
Везти в город?
Неблизок свет. А потерпевшая нетранспортабельна. Нет, нет. Город отпадает.
Будить хирургов в соседних селах?
В волчий час по такой непролази пока вытащишь кого – не поздно ли будет?
И тогда он решился.
– Что же не послали за мной? – как-то виновато разводит руками Никита Михалыч.
– Дык… Преступление трогать вас с вашим… – на полуслове завяз Святцев.
– Ох уж эти реверансы! Да разве я не оперировал, когда сам был на излечении в больнице? Пускай сейчас я, может, и не стал бы сам. Но… Всё равно лежу без сна. Увидал свет в операционной – заныли все косточки. Пробую встать – никак… Всё же переломил себя, поднялся… Да… Время упущено, жизнь упущена… Трудно стоять… Приди сразу… На худой конец, я б на каталке прискочил. С каталки мог бы вас хоть консультировать… А то… Ну никакой же подготовки хирургической!
– Почему никакой?.. Я в меде первый курс полностью отбегал на хирургическом… Потом меня попросили перевестись на терапевтический…
– За громкие успехи?
– Возможно… Подвернулся случай… Мне загорелось доказать, что напрасно срезали меня с хирургического… Я и полез…
– Ах ты, мать моя! Да хоть позвали б меня для совета!
– Я как-то не подумал, – прижух Святцев.
– Тот-то и оно! – с видимым усилием поднял голос Никита Михалыч. – Когда мы не думаем, мы вот что в итоге получаем! – кивнул на покойницу. – Ах, беда!.. Будто у самого под ножом дочка умерла… Совсем ведь девчошка… Ей бы к венцу собираться… Ей бы жить да жить…
Святцев окаменело уставился на Никиту Михалыча:
– Четыре колото-резаные раны. Повреждены лёгкие, диафрагма, печень, брыжейка, тонкая кишка. Всё в ранах и на ранах и – жить?
– Да, жить! – пристукнул костылём в пол Никита Михалыч. – Если вы заметили, на ноже были лепестки хризантем. Наверное, пострадавшая прикрывалась толстым, тугим букетом, когда ей наносили ножевые удары, и нож, не очень-то и длинный, пока проходил сквозь цветы, гас, застревал в цветах, нанося несерьёзные увечья. Вы плясали вокруг этих зряшных царапин спереди. У вас не хватило интуиции осмотреть спину. А все-то тяжёлые беды пришли именно со спины. Вы даже не знали о ранениях со спины, которыми следовало заняться в первую очередь как наиболее опасными… Я считаю, если человек живой попал на операционный стол, вернуться домой он обязан на своих ногах. На сво-их!
– Ну… Это в идеале… У вас, знаю, не было случая, чтоб умер кто на операционном столе. Счастливое исключение. Так у других, увы-с, умирают. Даже у московских грандов, профессоров, не говоря уже о богах младших родов, – извинительно поднёс в поклоне ладони к груди.
Из последней силы ударил Никита Михалыч в пол палкой.
– Несчастный дурапевт! Да над вами весь район уже в пословицах смеётся! Кого схоронил, того и вылечил! Каково? Как вы не поймёте? Кто везде, тот нигде! Врач, уврачуй наперёд свой недуг!.. Да где… Врачу не исцелить свою хворь. С вашей меркой, сударь, вас нельзя подпускать к больному. Да! Нельзя! И об этом я уж позабочусь!
Глава четырнадцатая
Суд правый кривого дела не выправит.
1
Её нет… Её больше нет…
Глеб сидел за своим столиком, за которым ещё вчера напротив сидела Катя, и без мысли на помертвелом лице смотрел в окно.
Он видел, как люди шли смотреть на Катю, как возвращались от неё.
Покойницкая находилась по тот бок улицы, почти напротив завода – наискосок вправо от проходной. Всем в одночасье не уйти, производство без присмотра не кинешь, и люди, меняясь, ходили поодиночке или маленькими кучками.
Две встречные людские струйки чёрно лились от завода к покойницкой.
Дело уже к обеду. А народ всё шёл и шёл.
Струйки потоньшели, но не рвались, всё текли, текли в молчащее горе.
Глеб тоже было качнулся посмотреть.
Дошёл до скособоченной ветхой двери подвала, занёс ногу над гнилым порожком, увидал самый угол сине-холодной простыни, свисавший с носилок и неосторожным сапогом вдавленный в сырь земляного пола, – его что-то резко толкнуло в грудь, и он шально вальнулся назад, вызвав у идущих следом недоумение.
Постояв несколько у двери, он снова двинулся войти.
В тесный просвет меж людьми увидал глянцевито блеснувшую ручку санитарных носилок – снова полоснуло в душу.
Глеб попятился и, выворотившись из толпы, разгромленно побрёл к заводу. Он понял, что боится посмотреть Ей в лицо. Но почему? Какая его вина перед Ней?
За проходной он почему-то не повернул в компрессорную, а как-то неосознанно, по привычке поднялся к себе на второй этаж, в бухгалтерию, присмиревшую, полупустую. Машинально сел за свой столик.
Сел, поднял лицо и вздрогнул: с того самого места, где ещё вчера сидела Катя, теперь смотрела Она с большой карточки в чёрной рамке.
Перед карточкой на столе широкая тарелка.
На тарелке горка мятых рублёвок, белая мелочь.
Глеба ошеломил Катин взгляд. Любопытство, удивление, восторг, вполовину смазанные недоумением, укором.
Не вынес он этого взгляда, тихонько поставил карточку несколько к себе боком и почувствовал себя сразу успокоенней: изображение карточки размыло боковым светом.
Входили люди, молча клали деньги на тарелку и так же неслышно выходили.
Глеб никого не замечал.
Но он весь подобрался, заслышав грузные шаги на лестнице.
С каждой секундой тяжесть шагов нарастала.
Запоскрипывали уже коридорные доски.
– А! Председатель! Наше вашим! – Поднятую руку Здоровцев сжал в кулак, разжал. Так он здоровался. – Я ведь, есля честно, могу не класть пока свою долю. Не в смене я. Я мимоидущий. Я пофигист…[282] Отхрамываю на низ за молоком. Слышу, такая чудасия, я и вильни на заводишко. А ну дай разведаю, что оно такое да как стряслось. А мне говорят: сбегай кинь сколь можешь на похороны. А что я кину? Не из воды деньжанятки гребу… Мне бабец под строгай расчётко ссудила полтинник. Вернусь без молока своим киндеряткам. Зато полтинничек отдаю досрочно. Не попрекнут…
Здоровцев прошёл к столу, с шиком бросил монетки в тарелку у карточки.
С жалобкой звякнуло.
– Слышь, пред! Я не пошёл в химкину хату,[283] сразу сюда… Зафиксируй исторический моментик… И почему не фиксируют, кто дал, кто не дал… А то потом ещё ляпнут, что не дал. Неси по второму кругу.
Этот скулёж взбесил Глеба.
Вальнувшись через стол, он зачерпнул из тарелки горсть мелочи и швырнул Здоровцеву в глаза.
– Бери! Тебе нужней!
Сражённый нежданным поворотом, Здоровцев хлопнулся на колени подбирать мелочину.
– Ну и начальнички пошли, – рассеянно забубнил. – Хулиганят как хотят… Не отсаживаться ж от коллектива… Раз надо, так надо. Посидят денёк какой мои чингисханушки без молочкя. Я негордюха. Соберу и верну на стол. Бу-удет и моя там доляра…
«А не внёс ли ты свою долю ещё вчера? – скомканно думается Глебу. – Не с твоей ли доли эти похороны? Не твоя б, гад, червивка, я б на розвязях не уснул за котлом… Проводил бы её чин чинарём до дома и ничего б такого не сварилось… А набеги тот плюгашка машинистик Ванюра, я б ему живо голову открутил, как курчонку пакостливому…»
Собрав монетки столбиком, Здоровцев сунулся поставить его на тарелку.
Глеб защищающе заслонил тарелку руками:
– Оставляй себе. Я скажу, что ты вносил. Оставляй на похмелюгу… На банки-хвостики[284] там…
И покровительственно дважды тукнул Здоровцева пальцем по лбу:
– Спокойно отпускаю тебе две пиявки!
Здоровцев насторожился.
Как-то жалко взвесил на руке монетный столбик и не спешил класть его в карман, будто ожидая ещё чего.
– Что, мало?! – с подначином яростно гаркнул Глеб. – Добавлю! – Сорвал со Здоровцева промасленную блинчатую кепку-аэродром, смахнул в неё всё с тарелки и надёрнул кепку на Здоровцева, горячечно твердя: – Всех-то и сборов набежало… Разве что на каблук хватит. Нужны эти поборы нищие? Обойдёмся!
Уваловатый, неповоротливый Здоровцев вроде того и опешил.
Да как можно похоронные деньги брать? Как можно?
В следующий миг его мысли споткнулись.
Встретив утвердительный кивок Глеба, говоривший: «Бери! Можно!», – он легко успокоился и даже с каким-то скрытым торжеством несмело погладил деньги на голове. Эти мятые, всяко кручёные рублёвки и вытертая мелочь приятно холодили ему голову.
– Раза три хватит сходить на низ за червивкой иль за соляркой,[285] – уже тише, свойски сказал Глеб. – А здоровяг своих потчуй не молоком – маслицем! Покуда начальство из маслоцеха унеслось смотреть, дуй в цех. Прямо из-под рожка набирай в бидончик и до хаты!
– А не в засыпку втравливаешь? Не попаду я в бидон?[286] Есля что, статьёй стеганут!
– Я когда-нибудь тебя подлавливал? Сказал – честно!
Здоровцева это ободрило.
Да, сколько он знает Глеба, своего сменщика, Глеб никогда не подводил его, не сажал в калошу.
Напротивушки.
Уже трижды Глеб, месткомовский вождь, спасал его, несунишку, от стыдного увольнения. Весь свой в доску был Глебка!
И как только обрадованный Здоровцев – Алёха не подвоха, сдуру прям! – загрохал по хлипким ступенькам в сторону маслоцеха (похоронные деньги он всё же вернул на стол), Глеб позвонил на проходную.
– Сейчас на выход прошпацирует панок Здоровцев. Не стесняйтесь, загляните к этому мазурику в бидончик. Шутя устройте сухую баньку.[287] И вы увидите такое, что может вас слегка заинтриговать.