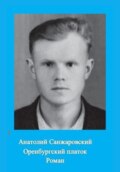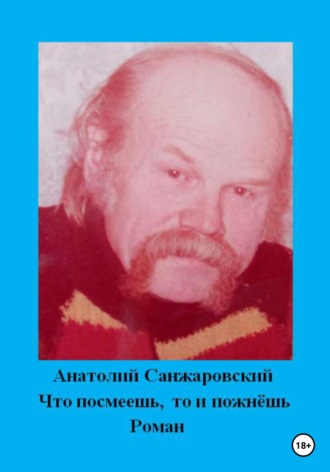
Анатолий Никифорович Санжаровский
Что посмеешь, то и пожнёшь
3
– Надо бы к столу перейти. Записать…
– Ничего. Сядите у огня. Либо-что… Стол у нас не гордый. Сам к вам перейдёт. С-сам… – С неприятным детски откровенным услужением Святцев притаранил к печке стол, локтем махнул по столу: – Записуйте за этим царём!
– Стол – царь?
– А кто жа? Стол кормит, стол силу даёт…
Я не слишком доверяю своей памяти, я верю только бумаге, оттого всё несу в блокнот. Пока сядешь отписываться, сольётся какой-то срок. Что-то забудется, выпадет, выронится из ума, что-то не бывшее примерещится от времени, от дальности, а ты и подай всё то за чистую монету?
Как-никак, на монете на той сутолока послекомандировочных дней наверняка уже поднасорила, мимо воли подмешала своего домысла, пускай сыпнула какие там жалкие крохи, а всё одно сдуй те крохи с газетного листа на человека – обида невозможная, обида крайняя. Пускай, записывая, я терял на искренности рассказчика, зато не терял и малого в достоверности.
Из потайного кармана полупальто я достал блокнот.
Святцев, примостившийся было напротив, потихоньку поднялся и, не снимая сторожких глаз с толстого, в палец, блокнота, опало, потерянно-вкрадчиво скривил рот в мученической улыбке.
– Мы люди не с норкой. Либо-что… Побудем и стоявши…
В голосе у него не было ни силы, ни ясности.
Говорил он глухо, с надломом.
– Да вы что, на допросе – стоять?
– А нешто нет?.. Рубните напрямки – заберёте, начальник?
– Куда? Какой я начальник? Я всего-навсего из газеты.
В недоверчивости хмыкнул он:
– Раз пишете – нача-а-альник…
Вот ещё новости на палочке!
Даже Авдотью подожгла эта начальственная карусель.
– Ей-бо, – шумнула с укоризной, – иль тебя, отец, заело в начальниковой колее? Никак не выедешь, рохлец? Раз пишет, видали, – начальник… Какой же ты пустоколый! Ну прям, извиняй, глупый всем ростом! Да по нашей по грамотной поре одна кошка и не пишет! Хватни сам карандаш, черкни чо-нить в тетрадину… Что ж ты, стал быть, начальник уже? Не видал ты настоящего начальства! Даве приезжал вон потребитель… Из райсоюза… Во-о начальник так начальник. Пузень – на отдельной повозке надо попереде везть! А где ты видал заморённое начальство? – качнулась в мою сторону. – Где? Где ты видал, чтоб начальство из района к нам пéшки по беспутью скакало? Где?
И чем настырней, торжествуя, допытывалась Авдотья, тем заметней прояснивалось на его лице. Наверняка её доводы казались ему верхом убедительности.
– А что пишет, так это он так, абы пальцам согрев дать. И взаправдок… Куцый капитан общипанной команды…
Я почувствовал, что мне ни слова не удастся записать, и, сказав, что я уже согрелся, вернул блокнот в карман.
Пропавший с виду блокнот явился тем лишним перышком, от которого и судно тонет. То, что я не буду записывать, на воробьиный скок набавило Святцеву смелости. С опаской, с какой-то неживой, приклеенной улыбчонкой он опустился-таки на угол табурета.
– Так-то оно, – сронил, – без писанья, гляди, либо-что и способней, раздуй тя горой… Без писаньев почему не потолковать? Очень даже возможно.
Но разговор не вязался.
Широко замахнувшись, оглядчивый Святцев всё отмалчивался, смятенно пялясь на валявшийся на столе приспешный ножик, совсем уже старый, «стёртый весь бруском и хлебом», одна только спинка и осталась.
Проворчав пустую прибайку про то, что не покидай ножа на ночь на столе – лукавый зарежет, Авдотья сгребла со стола нож, отчего Святцев, дрогнув, побелел, как-то разом опал, будто мешок, откуда выпустили зерно.
Минутой потом мне показалось, что Святцев обрадовался тому, что ножа больше не было на столе.
Он стал собранней, спокойней и заговорил раздумчиво, всклад:
– А хороший был нынче денёка, ладный. Ваньке-Вояке, – кивком головы показал на окно, – во-он по той бок ульцы, навпроть живёт, щепу подсоблял щепать. Мы с ним вроде на паях. Ему надо крышу крыть, мне весь верх менять. Там ещё двор подпрел… Валится… Делов набежало полный мешок, чёрт на печку не взопрёт. Сперва Ваньке крышу скулемаем. Посля навалимся мой скворешник латать. В одно плечо работа тяжела, оба подставишь – лекша…
Он медленно обошёл комнату глазами, привскинул руку:
– Вишь, матица припрела. Пол гнилинкой исходит… Эхма, была крыша новенькая, стала голенькая. Укрывище… – он ватно шатнул рукой. – Как дождь, вся небесная вода наша. Спасибушки, дали лесу, дали лошадку. При спешном деле служила, из спешного дела выдернули! Святцеву, мол, срочней. До половодки увернулись с Ванькой привезть. Надо подновить да заживать по-людски…
Мало-помалу разохотился, разогнался он в рассказе.
Мне нравились его искренность в словах, его прямой, открытый взгляд.
Похоже, это приятие читалось у меня на лице, отчего Святцев, высмелев окончательно, так повёл дальше:
– Вот ты топтун молодой, ум свежак. Рассуди… Как, по-твойски, можно умирать по работе? День-денёчный ломай спину в кузне – кузнец я, – не устаю. Вдобавки по утрам-вечерам щепу рву, не устаю. Тащит тебя ещё в правлению, на люди. На кой?.. Человеку без человеков беда… По себе строгаю мерку. Веришь, как-то боязко уходить в сумерки от людей… Вроде сызнова спускаешься в погреб…
4
– Человек я ма-аленький, – жаловался, комкая ушанку, Святцев. – Грамотёшки… Всё про всё полторы зимы ума копил. Вот как ты было пошёл писать я б не смог. Нацарапаю… Однем мышам в норе читать. Обхохочутся! Ошибок же лопатой не прогрести!
Подпихнули меня под красну звезду в сорок первом, уже под сам последок. Молоденькой что, не старше твоего сейчас. Толик-только двадцать годков насобирал себе, только в ус входил. Ещё и разу, почитай, путём не брился. Аха-а…
И как судьба карты киданула… Обребятились мы с Авдотьей, явилась у нас Олюшка, первенькая. Нынь привёз из больницы, а назавтра под ружьё…
…Наша рота копала рвы против танков. Работа аж гудела. Так впряглись – раз дыхнуть некогда.
И вдруг нá тебе! Накатился ненавистной немчура бомбить. Всё сделалось пламя и дым, вокруг и на локоть не видать.
Ото всей роты уцелели лишь двоя. Я да Иван Севастьяныч. Мы с ним и однодеревенцы, и одной фамильности. Но не родичи.
Завспоминали Нижнюю Ищередь. Всяк вспомнил своих. И такая тяжесть навалилась…
По слухам мы знали, что деревенька наша охала под немцем. Что постоем стоят человек с десять у меня в хате. Живность всю нашу прирезали. Авдотью с Олюшкой выпихнули в сарай. Чем мои живы и в толк не возьму.
Стал я потиху экономить на желудке, стал откладывать сухие пайки. Надумал собрать посылочку – не век же немчурёнку власть держать. А тут и ударь меня: сам снеси своим гостинцы да постояльцев не обойди!
И так нам загорелось, и так нам восхотелось к своим.
На одну ночушку!
Абы повидаться! По такой близи к утру обернёмся! На домок, на своих взгляну и в часть!
Поверх пайков накидали в мешки гранат, патронов, в руки по автомату – постояльцам моим гостинчик будет горячий!
Обозначились мы в Нижней Ищереди уже под вечер, разведали: немчика нету, во вчерашний день наши вытолкли.
Авдотья моя не насчастливится. И радостной слезой слезу погоняет, и корит себя: «А я, мокрохвостка, когда провожала, воюшкой выла: что военная буря подхватила, пиши пропало! Не-е, не пропало. Хоть ранетый, да мой!»
Про раненого она взяла с того, что правая рука была у меня в бинтах. Шалавая пуля летуче карябнула поверху.
Ну, час у нас радость, два, три…
На первом свету проявляется Иван Севастьяныч.
– Не время, товарищ Мозоль,[220] наведываться в потайной час к бабе за сладким пайком. Хватит жопой жар раздувать!
Я засобирался.
Авдотья с Олюшкой на руке повисла на мне, благим криком кричит:
– Ты, Ванюшок, как знай! Тебе что? Ты в жизни без семействености прохлаждаешься. Встал – один, пошёл – один. А у нас рожёное дитё. Дитю надобен батька не на карточке. Живой надобен. Никуда не пущу!
Этой вяжихвостке что…
Чуток уступку дал, всего на ноготь – либо-что захочет боле. Будешь отдавать, пока всю руку не отдашь. Верно, пусти бабу в рай, она и корову за собой приведёт. Это уже так…
Бабье дело реви да не пущай, жаль свою кажи. Да ты-то, мужичина, не будь тряпицей. Побыл, сповидался – в сторону свою уютнозадую и ступай!
Набрался я смельства, шагнул было к Иван Севастьянычу. Был он за порожком, так при открытой двери и вели перетолки. Он – там, мы – тут. Шагнул я, значит, – Авдотья с больной дочкой у груди бух на пол поперёк в дверях:
– Иди, героец! Иди!! Через!!!
Разбилась моя Россия на две.
Жена, дочка, дом – одна; в фашистском горела огне другая.
И обе звали.
Не хватило меня переступить через жену, переступить через больную дочку. А не сделавши первый шаг, разве сделаешь второй?
Той, другой, я был нужней тогда.
В лихочасье она выстояла и без меня. Не согнулась. Русская кость не даёт себя гнуть! А будь я с ней, и первая приняла б меня потом всякого, приняла по богатой цене…
Это после мы так с Авдотьей рядили.
А в то утро, как ушёл Иван Севастьяныч, думали инаково. Одну надумали удобную оправдательность: ну чего ловить пули, когда можно и переждать?
Сразу видать, у-у-умные головы дуракам достались…
Ну, неделю я дома, либо-что две. Поправилась наша Олюшка. Зажила моя рука. Хватит, поди, курортничать. К чему приступаться?
На народ не покажешься. Что делать? Заворачивай оглобли в часть? Да где ж её, часть-то, искать?
Авдотья моя – кара те в руку! – подкатывает коляски с мягким советом: ступай в военкомат, там пояснят, где часть.
Мозгови-итая! Да я до её указа был уже у военкомата. Ночью бегал. Так и думал, дождусь утра, скажу всё как есть. Решайте! Навесил медальку свою боевую. Жду. Жду и раскидываю умишком. Хорошо, что я пришёл. Да медальку мне вторую за это не нацепят. Весь же я в грязи. Невозможный принял грех. Присягу съел. Лупанут же по всей вышней строгости. Вожмут под трибуналку!
Страх душу в пятки вбил.
Покрался я назадки. Домой.
А над землёй подымался рассвет…
Никак не думал я, что родной дом, пустивший в жизнь, станет лютей каторги. Сожмёшься, бывало, в комок ночью на чердаке, вот в этой, что на мне, фуфайке… Либо-что… Бедная, вся износилась, меня не спросилась… Чёрные думы мутят голову. До того от тоски, от страха тошно – впору… Дело в прошлом… Вверху, возле трубы, приладил я петлю. На крайнюю крайность. И ходили эти крайности ко мне не по всяку ли ночь…
Лежишь, обминаешь бока. А тебя вроде кто приподымает, руки твои к белому провислому кольцу тянет.
Зыркнешь навкруг – никого. Сам себя к петле подсаживал…
Впереглядки с белой петлей и тащишь с тайным дыханием рассвет из ночи.
А то прилипнешь к раздёрганной соломенной щёлке…
Луна. Парубки женихаются. Девчачий пересмех.
Там «жизнь жительствует». А ты смотри, как она льётся мимо.
Смотришь, смотришь… До слезы насмотришься.
Да ещё ревмя ударишь.
Авдотья вскряхтит по лесенке – из хаты на чердак люк у печки был, – с иконой утешает, понуждает креститься. Икону подставляет: цалуй!
Да толку…
Мочей моих полный нехват…
Болит душа… Душка не сучка, не вышлешь вон, коли Бог не берёт…
Спустишься, добромученик, во двор. Двор у нас глухой. Чужому глазу нет ходу.
На воле покойнее.
Покружишь-покружишь по-над плетнём. Откатит вроде на волос. А сон нейдёт. То в сарае посидишь, то в подвал наведаешься, то на чердак снова… И весь уши, весь глаза. Как бы не прикрыли!
Мельком меня видели либо-что раза три. С обысками наскакивали.
Лежу как-то – рожа из люка сунется. Она – за трубу, я под стреху и на огород. Поднырну под горку картофельной ботвы – ищи Ваню Ветрова в поле.
Из будылья вижу, угорело скачут мужики вкруг избы. Побегают-побегают, на нолях и отъезжают.
Не было ночи, чтоб спал я сполна. Я знал, когда кричать первым петухам, когда вторым, третьим. Ждёшь-пождёшь… Молчок. Наладишься считать… Над ухом, оглашенный, ка-ак заорёт петушина. Душа с телом расставайся!
И с простоном, донно дохнёшь в судороге.
Ещё одна ночь изжита. Ещё одна ночка прощай.
А сколь таких было ночей? Семь тыщ шестьсот…
Авдотья тягуче загремела подойником. Олюшка понеслась за водой.
Расчехлился новый день…
Да какой он новый? Вчера белый червяк сыпал на голову березовый порошок, выдавливал паук из себя свою хатку. И нынче пред глазами та же публика. Что ж тут нового?
Бабы выпроваживают стадо.
Чинно здоровкаются мужики. Я слышу, как они ручкаются. Вроде пустяк, вроде ничего такого. Но ежли тебе не подали руки год, не подали два, не подали двадцать, тут, братка, другая ручканью цена.
…Сготовит Авдотья, подаст в ведёрке на чердак. Иной раз и спустишься поглотать. Убираешь, а глаза с двери и на раз не отдерёшь, хоть вся изба на запорах, хоть ставни всегда назаперте…
5
– Чтоб днём спать – этого не бывало. Ещё сонного угребут. Тачал сапоги, тапки, вязал на всю семеюшку носки, варежки там, душегрелки – это вроде свитеров без рукавов. Да-а… А что тут диковинного? Нуждинка научит сопатого любить.
До войны, как и таперика, был я в кузнецах. С утра до ночи начальник над молотом. Намахивал крепко. Откуль что и бралось, виду-то я был жиденького.
А тут тряхнуло… Прилепился клопиком к жизни, наловчился вязать.
Наловчишься…
Какая жива душа корочки не просит? Да трижды на день?
Дитю сама природа положила есть родителево.
Ну а я-то, кормилец, чьи хлеба лопал? Бабьи. Совестно дурноедом сидеть. Уцелился ей подсоблять.
Поскоку толкёшься всё в тёмном да в тёмном, навострился я видеть в ночи проворней лошади, проворней крота или той же совы.
Подавила деревуха огни, поснула – у меня самая работоспособность.
Двор наш на отшибе. В глушинке. Вскопать огород… Либо-что там посадить, протяпать какую огородину, выкопать ту же картоху, перетаскать – всё сам.
Леснины – яблок, груш, грибов, ягод – в дому вдохват. Места вокруг лесные. Подле лесу голодну не быть, потому как в лесу и обжорный ряд, в лесу и пушнина, в лесу и курятная лавочка.
Вытаиваешься, бывало, где-нибудь в мёртвой чащаре.
Мимо пробрызнул заяц, так я и без ружья – автомат с гранатами спокинул у военкоматовских дверей, – корягой настигну беляка. В ночи лиса мышкует и вовсе не догадывается, что промышляют и её.
И у высоких гор есть проходы, и у земли – дороги, и у синих вод – броды, и у тёмного леса – тропинки. И ежеля на этой на чёрной тропинке вляпается мне в капкан лиса ли, заблудлый ли телок, я не погребу от себя. Чать, не кура.
А скоко дивных трав живёт в лесу!
Ну, репей ото всех скорбей. Плакун – всем травам трава… Вот ещё святая рябина, адамова свеча, царский скипетр, русалейка… Оё! До бесконечности пальцы на руках пригибай!
Как из счёта выкинешь тайнишную траву? Сердечну траву? Царский посох? Расперстницу? Кукушкины сапожки? А самсончик? А собачий хмель?..
Светова трава вытягивает дурь из порезов. Ромашку хорошо от живота. Чихотная трава вытачивает зубную боль…
На всяку болячку выросло по травке!
Я знал, на какую боль какую напустить травку. Одни травки и бегали у меня в надёжных докторах!
Ну… Отдымилась войнища…
Вернулись наши не все мужики.
Да и то у кого рукав заткнут порожний за пояс, у кого холостая штанина на булавке сбоку.
Можь, под таку горячу моментуху и мне вывернуть на люди? Ну ведь жа и птицу стрела настигнет, засидись она на однем месте!
Не решился я выявиться своей волькой.
Страх не пустил… Такая в башке растрава… Либо-что… Этого дела вкруг пальца не обмотаешь…
Вскорости завернула к нам почтарка. Пихнула Авдотье какую-то бумагу. Причитался я – извещенья. Александр Акимович Святцев пропал без вести!
Вот те и раз!
Писали писаки, читали собаки!
Пропал я для державы без известий. Потерян. Отчислен, откинут от живых…
Быстро сработала сарафанная почта. В минуты натекло в избу полнёхонько баб.
– Что слыхать про твоего? – для зачинки справляются у Авдотьи.
– Что… Вот он весь, – суёт Авдотья извещенью.
Заохали бабы, заохали да в голос. Моя тоже не скупилась на слезу, держала с бабами компанию…
Видишь в щель такую скандалию – так бы выдрал доску, о-оп им на головы: «Не войте на похоронку! Живой! Живой же я!»
Да не рвал я досок. Голоса не подавал.
Скоро почтальонка стала пособие таскать на дочку за пропавшего без вестей отца. Оно б по-хорошему ежле – откажися Авдотья от пособия. Но… Одна, при дите, копейка всяка на прокурорском учёте. Как откажешься? Люди враз неладность учуют.
А меж тем подбольшела дочка. Въехала в допрос, с чего это я то в подвале впряме на картошке сплю, то на чердаке отсиживаю дни, а на ульцу ни ногой? Полный нельзяш, отвечал я. Стал я её побаиваться. Стал подламывать к тому, чтоб никому не уболтнула, что я дома.
– А у тебя что, игра? Я читала… Играли мальчишки. Один стоял на часах. Все забыли про игру, рассыпались по домам. А он всё стоял до ночи… Ты тоже с кем-то играешь по-честному?
– Как же нечестну быть? Как же?
Не проговорилась Олюшка, не пропустила славку про меня. Только… Придёт, бывало, из школы и ко мне, печальная такая, с уговорами. Иди, пап, да иди на народ!
А каковецкий он, этот выход? Я и не знай, что уж и отвечать. Да она, поди, и без слов уже либо-что понимала. И совестно вроде ей за меня, и жалко меня. Так она после школьности всё толклась подле, всё высиживала со мной в потаенных местах, всё жалела, жалела с тоской… С той тесной тоски, верно, и примёрла в девятых классах.
Два дня стоял в дому гроб. Горели свечи, чужие шли люди, совсем чужие, шли без конца. А ты, родитель, смотри на всё на это с потолка в щель. Так и унесли кровинку чужие люди. Не смог даже толком проститься.
Без дочки холодно стало на земле.
Холодней против прежнего заступили ночи. Безо время хряпнул мороз, капуста на огороде железна до седьмого листа. Обнимаешь, обнимаешь трубу, никакого согрева. Перебазировался я на житие в погреб. Лаз в подпол был у самой койки, ино на короткую минуту и вальнёшься к жёнке на согрев. На беду, с согрева того наявился у нас Санька Городской.
Прозвище ему Авдотья не от счастья пристегнула. Как могла отводила от меня подозрения всякие. Всем однаково тлумачила, что прикупила Санькá в городе. Пригуляла, стал быть. И что это именно так и есть, под запал даже побрёхивала, что в метрику впихнула ему прочерк в том месте, где надобно было врисовать отца.
Ну, отдрожал я пятнадцать… Отдрожал все двадцать…
Стала моя Авдотья в старость валиться. У самого дых ухватывает, зрение побеги́ хужать. В ночь ещё так-сяк. Конечно, не зорче филина, но вижу. А при дне слепым слепой. А погост всё боевей вижу. Неужели и ховать потащат из подпола?
Дале – боле. Совсем дожал я свою Авдотью до горячего. Нет-нет да и взбунтуется:
– До коих можно таиться? Крыша днями провалится. задавит же!. Докуда я тебя буду кормить? Докуда по-за чёрными дворами крадкома шастать? Сколь верёвочка ни вейся… Надо обозначаться на народ!
Сам знаю, либо-что надо. Да как я, глупарь, гляну людям в глаза? Что скажу? К сельскому к голове я не отважился грести. Порешил так: не бечь, как случится кто из чужаков в нашей хате. Люди увидят, люди выведут в люди.
Но страх был плотней меня. И едва, бывало, заслышь шаги пускай и своих, страх рысью нёс меня под пол. Лаз был всегда наготовку открыт, и чёрно стекала в него лесенка шириной в ступню.
Однажды я ел и не слыхал, как вкатился наш магазинщик.
Магазинщик был с корзинкой. Собирал яйца.
Я в чулан.
Бечь, раздуй тя горой, больше некуда. И – видно.
Выхожу.
У магазинщика глаза вываливаются, покорячился он от меня.
В молодую пору мы с ним были друзьяки. Вместе казаковали на вечорочках, вместе казаковали на фронте. Вместе уходили бить немца, вместе крадучись утрепали по дури молодой проведать своих. Он-то сразу и вернись на фронт, до самого до Берилина докувыркался орёлишко. Уже в Берилине его подбило. Выдал ему майский Берилин костыли для крепости… Как вы догадываетесь, магазинщиком был мой Иван Севастьяныч, по-уличному его ещё навеличивают Ванькой-Воякой.
И вот стоим мы друг против дружки, потерянные от удивления. Хватаем воздух, как рыбы на берегу, а слова выкинуть не можем. Наконец закашлялся мой Севастьяныч, тянет мне свою руку.
Не знаю, как я не дал слезу. За столько-то веков смертельного страха тебе впервушки подаёт человек руку, друг с малого мальства!
Руки наши было уже сошлись, как вдруг Севастьяныч в гневности зыркнул на меня и вскозырился. Согнал пальцы в тугой комок-кулак, кинул кулак себе за спину. Чуже вшёпот полосонул:
– Не-е, подлюга! Да ты мне противней однояйцового Гитлерюги! Не дам я тебе своей руки! Я б другое охотно сделал. Так и рвётся огонь настучать тебе по бороде!
Тесно потолковал тогда со мной Севастьяныч.
Я и не знаю, как я тогда не попал под его молотки. Я намекнул, чтоб шукнул про меня властям. И колодец ведь причерпывается… Мне было всё равно, что со мной станется. Я ненавидел свою бирючую жизнь. Не манило большь преть в подвале.
Дня через четыре к нам снова замахнул Севастьяныч втроём с корзинкой и с палочкой – подпирался в ходьбе. Он дважды на неделе обегал дворы.
– Зови, – велит Авдотье, – своего ненаглядушку.
– Какой разбегчивый! А где мне его взять? – с готовой слезой в голосе запричитала Авдотья (я не говорил ей про встречу с Севастьянычем), выдернула из-под матраса затёрханную косынку с домашними бумагами, зашуршала листочками. – Чего б слепой и плакал… Разве война отдала его мне? Мы с войной вроде как в менялки… Я ей хозяина, Акимыча своего, а она взаменки всего-то и дала что вот этот лоскуток, – жалостно подала похоронку на меня. – Разь ты это не видал?
– Это видал. Давай теперь в натуре самого сюда. Кукиш в кармане утаишь, а шила в мешке не утаишь!
– Да как же, гиря ты холодная, я его тебе дам-подам, коли на то мне от державы гербовая бумага дадена? Погибши он состоит! – Авдотья хрустко тряхнула похоронкой. С жаром намахнула: – Можь, геройски! А ты!..
– Дуня… Дуняша… – запросился я из погреба. Выбрался я на свет по грудки, откинул полсть одеяла, столбком торчу на лестнице ни жив ни мёртв. – Зачем же… Как же… Либо-что… Где я… геройски?..
– Чего ж, шелудёвый ты пёс?.. Чего ж ты, чёртова ты простокваша, поганую мордантию свою выставил?! – загремела на меня Авдотья. – Я за него тут глотку в кровя рву! А он… Ну совсемуще чердачок пустой!.. Дурик в полный рост! Как только и расплачиваться будешь?
В ярости поймала меня Авдотья за руку, выдернула из чёрного погреба.
Я попробовал вырваться. Спасибо, держала мёртвушко. А то б, игрец тебя изломай, сглупу ужёг бы в бега.
В дверь, понятно, я б не стриганул. За дверью наверняка могли быть люди. Я б своим проверенным порядком стёк: на чердак, во двор и в лес. А там ищи зайца!
Со слезами поталкивает меня Авдотья к Севастьянычу.
Томко пристёгивает к случаю слова:
– Забирайте! Делайте, что угодно! Тольк Христа вради развяжите наш грех. Ской принять утесненья… Умучилась я с ним. До смерточки умучилась!
– Нет! – выставил Севастьяныч щитком литую ладонищу. – Мне он никакой цены не имеет. Не сдашь же в райпо заместо хоть одного яйца. Может статься, им он в интерес?
На красоту размахнул Севастьяныч дверишку.
В хату неспешно вошли две фуражки[221] и наш сельский головарь.
Ясное дело, душа моя в подпол слилась. Враз разучился говорить. Присох язык к зубам. Вот я и попал под власть…
– Если по-хорошему, – сказали мне после долгой мягкой беседы, – надобно тебя под кару поджать. Да какой законник придумает кару страшней? Ты ж за четверых дезертиров отвалял! Самосудно покарал себя!
Я как народился. Наново начал жить… Либо-что… Поступил в кузню. Как и до войны. Молот у меня не холодит. Да что молот… Какой инструментишко ни возьми, молот ли, косу ли, пилу ли – всё в руках играет. Ежель по правде, я уж, кажется, так особо не стараюсь. А вот оно само собой уж выкручивается, что я в поте лица рвусь, будто отрабатываю за ту чёрную пору. Это ж надо… Полжизни выстегнул…