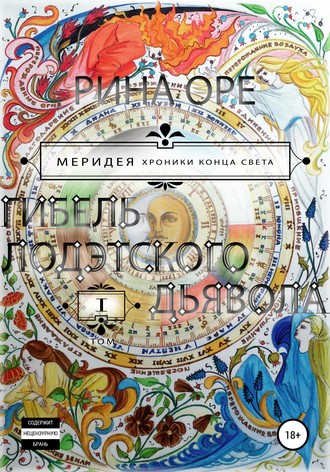
Рина Оре
Гибель Лодэтского Дьявола. Первый том
С изобретением белого куренного вина каждому гумору приписали свое вино. Так, черное терпкое вино, густого темно-вишневого цвета, стало сухим и холодным как черная желчь, красное сладковатое вино – горячим и влажным как кровь, желтое вино – холодным и влажным как слизь, белое крепкое куренное вино – горячим и сухим как желчь. Для хорошего самочувствия не употребляли вин своего гумора и противоположного. Маргарите с кровяным гумором и тетке Клементине с ее избытком черной желчи не стоило пить красных и черных вин, а флегматичной Марлене и горячей из-за желчи Беати – желтых и белых. Вина своего и противоположного гумора считались ядом, но и лекарством при разных хворях. Для обряда приобщения делали смесь из всех четырех вин, тем самым превращая их в целебный эликсир. Пиво в богатом виноградной лозой Лиисеме обеспеченные люди не почитали, называли его «хлебом бедных», предпочитая пить летом напиток из вина с водой. В такое вино добавляли мед или сахар, вишни, ломтики яблок или слив, также приправляли его розовым маслом, бросали лепестки фиалок, роз и лилий, а порой мятные травы или жгучие специи. Аристократы при дворе герцога Лиисемского баловали себя поутру ломтем хлеба, пропитанным медовым вином. Черное вино, привозимое из Санделии или Лодвара, стоило баснословно дорого, поэтому нечестные торговцы подкрашивали местное красное вино мальвой, добавляли в него для терпкости горькие соки руты, полыни и пижмы да подделывали печать, – неискушенный горожанин радовался, что сберег сотню регнов, не подозревая, что на самом деле переплатил за амфору раз в десять. В пиво тоже добавляли всевозможные травы и смолы, усиливающие хмельное действие. Пивом в Орензе называли и перебродивший сок: яблочный, грушевый или айвовый, – такое плодовое пиво наливали по празднествам даже детям, им же лечили подагру и желудочные колики.
Пирожные или пироги горожане готовили к торжествам, когда обед затягивался часа на три. Сытная выпечка выносилась на стол с началом трапезы, и ей закусывали между переменами блюд. Десерт предполагал сладкие и легкие яства в завершение обеда, не приторные, а скорее кисловатые: фрукты, желе, конфеты, драже или леденцы. Здесь стоит упомянуть о том, что меридейцы любили обобщать предметы, исходя из насущных потребностей. К примеру, плоды или ягоды, дарующие в сыром виде наслаждение устам, выделяли как фрукты, но всю годную в пищу растительность всё равно звали овощами, причем молодой зеленый горошек был фруктом, а вызревший – овощем.
Культура предписывала потреблять яства так, чтобы не запачкать рук, однако салфетка должна была лежать возле каждого гостя – «в противном случае хозяевам не стоило гневаться, если об их скатерть вытирали руки». В семейном кругу часто трапезничали без скатерти на столе, но к приходу гостей, в знак уважения, столы надлежало убрать полотном. Три скатерти, и не менее, должны были быть у образцовой хозяйки: первая скатерть – из цветного сукна или шелка, какой покрывался стол до трапезы; вторая – белая – для будничных обедов, третья – из ценной ткани с вышивкой – для торжеств. Нередко вышитая скатерть передавалась по наследству и хранилась как достояние семьи.
Кроме салфеток Культура в Орензе требовала подать каждому гостю минимум одну тарелку, один сосуд для питья и ломоть хлеба с ладонь к каждому из блюд. Зачастую люди приносили на пиршества свои приборы – ложку и ножи для еды. Культурные орензчане вкушали мясо при помощи двух маленьких кинжалов: одним резали, на другой накалывали; вилка же пока получила признание только в Бронтае. Дамам следовало кушать мало – ровно втрое меньше отца и вдвое меньше супруга. Отказываться от угощений также было нельзя: в тарелке дамы часть пищи всегда должна была лежать нетронутой. После застолья, дабы не оскорбить хозяев, гости забирали недоеденное из своих тарелок: на завтрак или в подарок прислуге.
Астрологи советовали вставать из-за стола засветло, кушать неторопливо, растягивая прием пищи на две триады часа. Окончательно завершалась вечерняя трапеза через триаду часа после десерта – орензчане «закрывали желудок» той же сладкой закуской, с какой начался обед.
________________
Весь обед Маргарита смотрела на Ортлиба Совиннака переполненными восхищением и благодарностью глазами. Он же, польщенный вниманием юной красавицы, сам на себя не походил. Хмурый и властный градоначальник в тот день дал волю чувствам, о каких позабыл: добродушию и открытости. Смотрясь, как в зеркала, в зеленые русалочьи глаза, он видел себя по-рыцарски благородным, неотразимым и способным на великодушные поступки – и, главное, ему хотелось соответствовать своему отражению.
– Полно благодарить меня, – сказал Ортлиб Совиннак после того, как они перешли от сладких закусок к основному блюду. – Я не сделал ничего такого для вас, госпожа Махнгафасс, чего бы ни сделал для других.
– Прошу меня извинять, но я не госпожа, – ответила Маргарита. – Я ничто не имею… и я даже не думаю, что еще горожанка – я не упло́тила городу податей после замужничества. А мой муж из деревни, так что я, наверное, свободная землеробая… Просто Маргарита Махнгафасс.
Ортлиб Совиннак странно улыбался, слыша от выглядевшей как дама красавицы простонародную речь. За столом их усадили рядом, и Маргарита должна была развлекать гостя беседой, а тот разливать напитки и отрезать для нее мясные куски.
– Ваш супруг перешел из мирян в воины, – ответил Ортлиб Совиннак, – а податей супруге воина платить не нужно, мона Махнгафасс… Так вы позволите себя называть?
К замужней аристократке обращались с приставкой «дама», к незамужней – «дева»; к горожанке, чей муж или отец имел в движимом имуществе дом – «госпожа» или «молодая госпожа». Дословно «господин» – это покровитель гостей (чужаков в городе). Вдова тоже могла быть госпожой, то есть хозяйкой дома и гостеприимицей. Не горожанку звали госпожой, если ее семья относилась к землевладельцам. Господином также становился окончивший университет мужчина, а женщины, над которыми он главенствовал, снова получали приставку «госпожа». Когда же ничего не знали о положении женщины и желали быть вежливыми, то к имени добавляли «мона» от «монада», что означало первую, единственную, исключительную особу и подчеркивало почтение собеседника. Но среди бедноты ее не использовали. Лавочники так говорили: «Или ты госпожа, или никто, – и раз ты никто, то нечего дурить головы простому люду своими «монами», а то мы не знаем, как кланяться, и кланяться ли тебе вообще».
– Прелестна ли она, подобно вам, мона Махнгафасс, или отнюдь нет, – снова долил Ортлиб Совиннак в бокал девушки желтого вина, и она не посмела отказаться, – молода или стара, бедна или богата, жертва должна получить справедливую защиту закона, а мерзавцы – справедливое наказание. И это мои же услужники! Почти у меня на глазах! Распустились… Нет, не те сейчас времена, что были при герцоге Альбальде, – вздохнул он, нарезая утиную грудку. – Тогда подобное не могло бы произойти. Закон был суров и беспощаден, но поэтому был и порядок. И была безопасность. А сейчас все страх потеряли. Не уважают старших, не чтят традиций. Как-то мудрый человек сказал мне: «И в нравственном человеке спит зверь – лишь страх не дозволяет ему открыть глаза»… – задумавшись, ненадолго замолчал он.
– Сейчас одна любовь у всех на устах да в умах, – продолжил говорить Ортлиб Совиннак, кладя на тарелку Маргариты шмат мяса. – Песенки поют срамные, где бесстыдник волочится за замужней, а та не имеет возражений и, дабы проучить супруга, нарушает клятву верности. Недавно за такое преступление без разговоров расчленяли обоих прелюбодеев на дюжину частей. Сейчас же времена мягкие – хорошо, если плеть, удобные для низостей времена… А какие книжонки листают! Даже сказать неприлично про что! Картинки рассматривают, где всё, что хочешь. Не осталось ни таинства, ни сокровенного, – сделал он большой глоток вина из серебряного бокала. – Все всё про всё знают. Даже юные девушки, невесты, и те надевают сейчас такие открытые платья! Словно так и жаждут позора для семьи. Вот увидите: в один прекрасный день нагими ходить станут! И всё о любви лопочут. Любовь! Затерли это слово. Да так, что и смысл его потеряли! Путают святое с грешным! Бесстыдство стали именовать любовью! Бесстыдство нынче людям заменило и всё прочее: и мораль, и закон, – вот и итог! Словом сказать, – выговорившись, выдохнул градоначальник, – не стоит благодарности, мона Махнгафасс. Для меня закон свят, «закон» означает ниспосланный свыше порядок, ибо вся власть от Бога. Нарушить закон – пойти против Нашего Господа, – вот мой принцип!
Ответом ему стал новый поток горячего обожания из сиренгских глаз.
– Стареешь, – с иронией произнес Огю Шотно. – Брюзжишь о былом. Времена же меняются, и ничего ты с этим не поделаешь. Сыновья не хотят жить так, как их отцы, дочери – как матери. Так было – и так будет!
– Когда потомки презирают предков – они самих себя презирают! – сказал Ортлиб Совиннак так строго, что если бы не было рядом Маргариты и зеленых зеркал у нее в глазах, то он бы стукнул кулаком по столу и разговор был бы окончен. – Огю Шотно, ты ведь сам так думаешь!
– Ты всё верно говоришь, Ортлиб, – манерно выставил Огю открытую ладонь, призывая градоначальника к спокойствию. – Но ты близок к концу второго возраста Страждания – вот и брюзжишь, а я во втором возрасте Благодарения – я смотрю на мир свежо и вижу изобретения, новые знания, развитие. И всё это благодаря послаблениям морали, случившимся на исходе нашего одиннадцатого века. И послабления, вот увидишь, только усилятся в следующем веке. Корабли, размером с город, повозки без тряски, сколько вокруг механических вещиц… Даже мой покойный батюшка не узнал бы наш мир. В его времена домашние часы были редкой роскошью, а теперь ими никого не удивишь. Более того, уже и пружинные часы появились, какие можно носить на поясном ремне, – так скоро часы будут у каждого, значит, и колокола будут никому не нужны. Когда-то патрициат Элладанна отобрал у Экклесии главную колокольню – мелочь, казалось бы: какая разница, кто бьет в колокол? Но на самом деле – это и есть власть. Горожане живут и молятся по повелению городских властей, а не Экклесии, – и неосознанно живут в смирении к мирским законам, как некогда к духовным. Когда у всех будут пружинные часы, то нравится тебе или нет, Ортлиб, люди станут подчиняться властям еще меньше, ведь будут жить сами себе хозяевами по собственным часам. И тогда законы станут еще мягче… Другой пример: живописные образы и изваяния нынче поражают взор, но нравственность этих вещей сомнительна. Моралисты качают головами и говорят, как ты: «Скоро все нагими ходить начнут». И что? Все привыкли к некогда срамным изображениям: голоногие сильфиды летают и на ларцах, и на посуде, и на картинах в гостиных и никто на них не таращится. Никогда мы не будем ходить голышом, не тревожься, Ортлиб, разве что это удел нищебродов. Как без платья явить, что ты богат, что почитаем, что знатен? Вот тебе мой вывод: да, нравственности стало чуть меньше, зато мир ныне удобнее. Это и есть развитие. Если бы новые поколения думали так же, как их предки, то мы бы до сих пор бегали с палками, как дикари, к тому же именно полуголыми, как эти бедные, несчастные воздушные сильфы, что не умеют ткать шелка и шить золотом, спят, будто убогие, на облаках под открытым небом, ибо не знают строительных ремесел, вынуждены, горемыки, порхать своими собственными крылышками, когда можно запрячь в повозку полезного зверя!
– Развитие… дурость она везде… – недовольно проворчал Ортлиб Совиннак, принимаясь за еду. – Нравственности вовсе не осталось, – тут ты прав! Уже и Бога не боятся! В храм идут за тем, чтобы нарядами хвастаться, любовные записочки передавать и глазеть друг на друга. Понятно, что не молитва на уме у таких «меридианцев», – с нажимом на последнем слове произнес он. – Прочитал у дочери в новом учебнике Культуры: «Ежели не можете сдержать улыбку в храме, то прикройте рот рукой, а смейтесь беззвучно!» Немыслимо! Лицемерию уже и девиц учат! Да видано ли это было раньше, чтобы кто-то смел смеяться в храме?! Слов нет! И куда смотрит Наш Господь?! Порой диву даешься, что наступил новый цикл лет и Луна с Солнцем опять разошлись!
Несколько минут все кушали молча. Маргарита неловко пользовалась двумя кинжальчиками и стеснялась этого, но градоначальник не обращал внимания на ее весьма далекие от совершенства манеры: не насмехался над ней, как Огю Шотно в первый вечер их знакомства, не выразил недовольства тем, что с ним за столом находится неравный ему по культуре, воспитанию и образованию человек, словно это не имело для него значения.
– А вы что думаете, мона Махнгафасс? – спросил Ортлиб Совиннак девушку, которая от неожиданности уронила на тарелку кинжальчик.
– Я… согласная с вами, – робко ответила Маргарита. – Я росла среди бедняков, каковые повторили бы ваши слова. С житьем света я незнакомая и далекая от него… Вы, господин Совиннак, сами увидали, как далеко-далёкая, – улыбнулась она, замечая, что градоначальник благожелательно сморит на нее и тоже немного улыбается. – Это от бедности, наверное, простые люди и праведные…
– Дело не в простоте или бедности, мона Махнгафасс, – ласково ответил ей, как маленькому ребенку, градоначальник-медведь. – Дело в природе людей. Слепил нас Бог из, прошу нижайшего прощения, из навоза и золота. И я вовсе не о кресте Пороков и Добродетелей говорю, что дает нашей плоти Луна. Я о порядочности, какой нет в Добродетелях, и о беспринципности. О благородстве и низости. Что-то еще дается нам от рождения, наследуется нами от предков. Я беседовал с епископом Камм-Зюрро, и он мне ответил, что это, помимо прочего, свойства плоти, и Бог пожелал, чтобы они остались тайною, чтобы их нельзя было определить сатурномером, поскольку еще есть воспитание… Я пожил и повидал достаточно, чтобы утверждать: воспитание в нравственности – это важно, но тем не менее сердцевину не переделать. Она проявится, сколько бы человек ни молился и как бы себя ни сдерживал: рано или поздно кровь возьмет верх. Сердцевина человека или его природа! И она у всех разная: кому-то больше досталось золота, другому – сами понимаете чего. Золота же в мире мало, а вот нечистот – хоть отбавляй. И ничего не поделаешь: нет закона – нет страха! И раз нет страха, что сдерживает и заставляет притворяться, то лезет наверх то, чего у тебя больше. Если такие «удобные» времена, как сейчас, длятся долго, то люди с грязной сердцевиной оказываются при власти и средствах. А затем, так как знают, из чего слеплены, и, конечно, стыдятся этого, но измениться не могут… Да и вонь от них не перебьешь ничем. И тогда они называют отходы золотом, а золото… сами понимаете. И запах свой называют тонким ароматом и душистые воды с ароматом навоза начинают продавать как модную затею, а простаки или глупцы – они верят! И тоже начинают подражать тем, кто успешен, – прячут свое золото поглубже, даже стесняются его. Вот, по моему мнению, причина распущенности, лицемерия и своеволия, что нынче царит, а вовсе не часы и не колокол тому виной. Просто всё больше таких навозных червей, снова прошу прощения, появляется год от года. Богатые, бедные, старые, молодые, красивые или нет, – все с радостью лезут в навозную кучу, все стали сами походить на…
Ортлиб Совиннак махнул рукой, говоря, что пустое.
– Сдается мне, я и правда брюзжу по-стариковски, – сказал он, поднимая с тарелки приборы. – Должно быть, я утомил вас, мона Махнгафасс?
– Чего вы! – искренне ответила Маргарита. – Вы самый умный человек, каковых я совстречала. Вы этакое знаете про людей… Я же не знаю ничто, наверное… Я будусь обмыслять ваши слова с триаду и не меньше́е…
Она осеклась под сверлящим взглядом Огю Шотно, который ей говорил: «Дуреха, тебя из вежливости спросили. Никого здесь не интересует мнение необразованной посудомойки. Ответь "нет" и жри себе молча!»
Лицо Марлены ничего не выражало: она не вмешивалась в разговор мужчин и не осуждала свою сестру. Маргарита потупила взор и стала ковырять кинжальчиками мясо на своей тарелке. Но градоначальника тянуло говорить именно с ней, а не с Огю Шотно.
– Хотели бы вы знать, мона Махнгафасс, об участи тех особ, что покушались на вас?
– Да, пожайлста, господин Совиннак, – скромно ответила девушка.
– С прискорбьем сообщаю, что Аразака мы пока не смогли изловить, но, думаю, Элладанна он не покинул: где-то залег. Вне сомнения, его ждет виселица за покушение и побег. Хадебуру я сегодня приказал задержать, хоть Несса Моллак и извелась на… Старуха много о себе мнит! Ничего, я с ней так потолковал, что ныне эта сорока воркует голубкой.
Щеки Маргариты слегка порозовели, когда она подумала, что острая на язык Несса Моллак легко могла передать градоначальнику слова о задранной юбке. Теперь девушка о них жалела.
– Хадебуру будут допрашивать о племяннике, возможно, пытать, – продолжил Ортлиб Совиннак. – В замок она не вернется. Стоит ее из города выслать, но пока нет: будем наблюдать за ней – так и найдем Аразака. Что до участи другого… Я еще не решил, какое наказание потребовать у Суда для своего слуги: позорную виселицу или более милосердное для души колесование. Что скажете, мона Махнгафасс? Ведь, по праву справедливости, вы должны быть судьей этому мерзавцу и кухарке.
Маргарита ответила так, как учила ее Марлена:
– Поминая то событьё, господин Совиннак, я радая, что осталась живая, и благодарю Бога за это: прочих дум у меня нету. Поступите, пожайлста, с теми людьми по закону. Я заранее согласная с велением Суда и не будусь в обидах.
Марлена улыбнулась. Выражение лица Совиннака невозможно было прочесть: смесь самых противоречивых чувств. Ответ угодил градоначальнику, и Маргарита, простушка с улочки незадачливых лавочников, высоко поднялась в его глазах, – и Ортлиб Совиннак немного расстроился тому, что она стала недостижимее, но одновременно обрадовался порядочности и чистоте красавицы, которая так ему нравилась, а он нравился ей.
В конце обеда градоначальник немного рассказал о своей юной дочери (уже, похоже, впитавшей чуму распущенности, что окружает свет Элладанна, ведь Енри́ити только и лопочет со своими подругами о любви и прочей дурости!). Затем Огю Шотно и Ортлиб Совиннак переместились в гостиную, где начали шахматную партию.
Шахматные фигурки в доме Огю Шотно изображали войска древних людей – народа, погибшего еще до рождения первого Божьего Сына. Однако от них осталось подобие библиотеки – когда Божий Сын стал юношей, он смог прочесть те записи, и на руинах давно угасшей цивилизации выросла новая культура Меридеи. Множество обозначений, названий и имен меридейцы позаимствовали из древнего, уже мертвого языка.
Куколки-статуэтки из олова, серебристые и черненые, очень приглянулись Маргарите: легкая пехота с дротиками, колесницы, тяжелая пехота, конники, короли на тронах и, конечно, их полководцы, поднявшие руку с мечом. Она рассматривала чудны́е шлемы, круглые или прямоугольные щиты, короткие мечи и копья, пыталась представить их живыми и красочными. Ее воображение превратило одного из «белых» пехотинцев в Иама – он попал в первый ряд к тем, кто храбро грозил врагу из-за круглого щита коротким, а не длинным копьем, но на его бедре, как и надо, висел меч, выкованный Нинно. Маргарита пожелала «мужу» удачи и ушла вместе с Марленой делать легкую приборку обеденной.
За игрой в шахматы мужчины распивали разбавленное водой вино. Вернувшись в гостиную, Марлена и Маргарита принесли им сладкие шарики, чтобы закрыть желудок. «Иама», как и большинство других легких пехотинцев, уже срубили. Пострадали тяжелые пехотинцы и конники. Безмолвный, неторопливый, внешне тихий поединок градоначальника и управителя замка находился в жарком противостоянии – Огю нервничал, а глаза градоначальника стали узкими прорезями. Ортлиб Совиннак в задумчивости вывернул левую руку и уперся ею в колено, нависая над доской и снова напоминая медведя.
– Кто побеждает? – поинтересовалась Марлена, подавая мужу чарку с последней закуской. Маргарита, конечно, обслужила Ортлиба Совиннака.
– Без сомнения – я, бесценная Марлена, – безмятежно ответил Огю.
Но его тюрбан съехал набок, как будто до этого он потирал лоб. Ортлиб Совиннак промолчал.
После Огю налил себе и градоначальнику по бокалу тутовой наливки – игра еще продолжалась. Пока мужчины «сражались», девушки наблюдали за их битвой. Огю Шотно потерял своего черного полководца, но с успехом разил колесницей, конниками и тяжелыми пехотинцами фигуры Ортлиба Совиннака. Вскоре на доске осталось совсем мало воинов, однако два короля гордо восседали на тронах, нисколько не смущаясь тем, что им приходится перемещаться вместе со своими помпезными сиденьями.
«Наверное, из-за этакой тяжести больше́е, чем на клетку, короли и не двигаются, – решила Маргарита. – Но бросить трон они всё равно не хочут».
Она представила, как вороной король с криком вскочил, убежал с доски, и бой прервался. Пару мгновений, шахматные воины чесали затылки, затем начали битву за опустевший трон – серебряные против серебряных, а черные против черных. Белый король гневался и кричал, что он-то никуда не убежал и не отдаст никому свое место, требовал прекратить сечу, однако его не слушали. Когда все воины зарубили друг друга, он захохотал, но после заплакал, потому что остался единственным живым в мире: без войска, без подданных, без любимых…
В действительности события на шахматной доске были куда как более тоскливыми: уж минут девять Ортлиб Совиннак и Огю Шотно бесполезно гоняли одиннадцать фигур по полю. Маргарита, заскучав, спросила градоначальника:
– Я слыхала, господин Совиннак, что Лодэтский Дьявол поджимает Нонанданн. Правда ли это? Мне страшно…
Марлена вздрогнула, а Маргарита за свое любопытство получила еще один ядовитый взгляд от Огю Шотно.
– Не тревожься, бесценная Марлена, – сказал управитель замка, поцеловал руку жены и с торжеством в страдальческих глазах съел колесницей белого полководца. – Нонанданн сейчас – это непреступная скала с несметным войском. Там укрепления, засады и ловушки. Одних камней для больших пушек заготовили с тысячу. И это не считая свинцовых ядер и гарпунов. В первой же битве враг будет разбит – его подведет самоуверенность.
– Так мне и отец, и сужэны твердили, – нервно ответила Марлена. – Все, как один, говорили, что не стоит тревожиться: Лирхготбомм в непреступных скалах! И особенно ночью… Вы же знаете, что было дальше…
– Госпожа Шотно, – серьезно ответил градоначальник, – я с вами отчасти согласен: все, кто проиграли Лодэтскому Дьяволу… как раз их подвела самоуверенность. Я же не сделаю этой ошибки. Конечно, Огю прав: Нонанданн укреплен так, что пытаясь его взять, наш враг понесет непоправимые потери – на это и расчет, но всегда надо мыслить другой исход. Это огненное оружие – громовые бочонки… По слухам, это очень могучая сила… Пока мы не узнаем, как удается вызвать столь сильные разрушения катапультами и пустяшным весом этих бочонков, вряд ли достойно ответим… Но даже если Нонанданн будет взят, волноваться нам всем не нужно. Если верно распорядиться поражением в битве, то можно выиграть войну, ведь одни победы делают и из умника глупца. Всё, что я могу пока сказать: если Лодэтский Дьявол сунется в Элладанн, то здесь потерпит поражение, – я в этом уверен! – твердо проговорил Ортлиб Совиннак и переставил белого конника. – Всё, Огю – попался на жирную наживку. Больше тебе от меня бегать некуда. Как я и сказал: одни победы делают даже из умника глупца!
– Хитрееец! – весело сказал Огю Шотно, получивший удовольствие и оставшийся довольным, несмотря на проигрыш. – В следующий раз придумай что-то новое… Я больше не попадусь.
Ортлиб Совиннак поднялся со скамьи, собираясь уходить.
– Годите, прошу, я мухой! – подскочила Маргарита с кресла и унеслась из комнаты.
Она вернулась с бежевым плащом, сложенным безупречным квадратом.
– Вот, – подала она плащ градоначальнику, не сводя с него восхищенных глазищ. – Я сама состирала ваш плащ и нагладила… Он как новый…
Ортлиб Совиннак принял его, словно большую ценность.
– Благодарю, – ответил он. – Не смел надеяться, что ваши маленькие ручки, мона Махнгафасс, удостоят этот старый плащ такой милости. Позволите ли вы мне… Я, конечно, не рыцарь, да и это против моих обычных правил, но… Окажете ли вы мне честь стать вашим защитником?
– Это для меня великая честь, господин Совиннак, – не вполне понимая градоначальника, ответила удивленная Маргарита.
Градоначальник поклонился ей, прикладывая правую руку к сердцу. Незнакомая с учтивой культурой девушка, подумала, что это обычное прощание и хотела присесть в ответном поклоне, но Ортлиб Совиннак, догадавшись о ее неискушенности, сам взял ее левую руку и поцеловал ее. Затем он посмотрел Маргарите в лицо – и будто не мог оторвать глаз: так ему нравилось лицезреть горячее обожание красавицы, польщенной и мгновенно порозовевшей в щеках.
– Пойдем, Ортлиб, я провожу тебя до ворот, – вмешался Огю Шотно.
Распрощавшись с дамами, мужчины вышли в ночной сумрак. Всю недолгую дорогу до Восточных ворот замка, градоначальник молчал и хмурился. Он быстро топал тяжелыми шагами, слегка наклонившись вперед, словно сражался с ветром. Плащ висел на его полусогнутой руке. Огю, хотя был выше градоначальника, почти бежал за ним, иногда подпрыгивая. Казалось, что он не бежит, а семенит шаги своими долговязыми, тонкими ногами. Ортлиб Совиннак нарушил молчание у самых ворот.
– Ну почему? – риторически спросил он. – Почему единственный, кто так на меня смотрит… Единственная женщина… Почему ее чистота принадлежит другому?
– Ооортлиб, да ради бооога, – схватил Огю приятеля за плечо, останавливая и разворачивая его к себе. – Не сходи с ума! Девчонка сейчас тебе благодарна – это да, но ты же знаешь: пройдет немного времени, и она станет, как все, кого ты знал до этого – привыкнет, забудет, а после ворчать от недовольства примется. Не останется и следа от ее признательности, – уж такие мы, люди. Всё добро, что мы делаем или нам делают, однажды стухнет, как протухает уже выловленная рыба… Ты сам всё понимаешь!
Градоначальник тяжело посмотрел на Огю Шотно. В глубине души он признавал, что его приятель не ошибается, но не хотел в тот же миг в это верить, не хотел терять приятные для него впечатления или разочаровываться в них. Он кивнул Огю Шотно и молча пошел к навесу для лошадей, где его ждали два услужника и большой вороной конь.
________________
Вернувшись домой, Огю Шотно устроился на скамье в гостиной с новым бокалом тутовой наливки, хотя уже настал час Воздержания. Маргарита и Марлена переоделись, помыли посуду и наводили порядок в обеденной зале.
– Прости меня, – сказала Маргарита, замечая подавленность Марлены. – Я не знала… Знала с мушку, – вспомнила она рассказ Иама. – Прости, я и правда дуреха… Зря заговорила про то чудовище.
Марлена дернула кончиками губ.
– Твоей вины нет, – печально ответила она, красиво расставляя свои лучшие керамические тарелки на открытые полки буфета. – Я боюсь войн… Боюсь и дальше терять родных. Я должна была тебе сама рассказать о той ночи… Когда на Лирхготбомм напал Лодэтский Дьявол.
– Иам немного сказывал. Что если ночью не горел маяк, то суда не могли заплыть в ваш городок, но Лодэтский Дьявол смогся. И убил всех защитников. Ваших братьев… Кажется, двух его двэнов и одного триза. Он тоже сильно его боялся…
– Да, мы так дрожали перед его головорезами! Иначе их не назовешь – подлинный сброд… Кто в чем, как разбойники. А кто-то полуголый и с безумными глазами. Кто-то в цепях… Цепи эти были в крови, – закрыла на мгновение глаза Марлена. – Нас разбудил колокол. Мы едва оделись и побежали к храму, надеясь, что там безопасно. Наш Лирхготбомм маленький: всего пару тысяч жителей и один храм… Помню, сперва была сильная гроза: небо разрывало от молний и грома, шел ливень. По дороге к храму, мы увидели, как у маяка убивали воинов, может быть, даже наших братьев… Мои сужены еще не достигли возраста Посвящения, а тризу четырнадцати не исполнилось. Жениться и завести семью успел только один сужэн… Потом мы в храме закрылись, а эти безбожники выломали двери и ворвались туда… Лодэтчане недалеко ушли от своих соседей, северных варваров, – приняли веру сто лет назад, и они сами еще наполовину язычники, а те, кто служат Лодэтскому Дьяволу, они худшие из худших – у них нет и малейшего почтения к святому дому. Других он к себе не берет… Людей сгоняли на площадь у храма. Иам был рядом, я обнимала его – он же спрятал лицо в моей груди, а батюшку отвели к другим мужчинам. Лодэтский Дьявол появился верхом на коне – кольчуга, плащ сверху, и капюшон плаща надвинут на глаза… Дождь кончился, кругом разбойники, ночная тьма, мечутся огни и он такой… Я так Смерть себе представляла… Помню, я всё спрашивала Нашего Господа, почему он оставил нас, – и пришел страшный ответ: внезапно в храм, без грозы, ударила молния – и шатер Юпитера, запылав, провалился внутрь, а небо словно разорвалось от грома. Священники выбегали в горящих рясах наружу… лодэтчане, хоть и помогали сбить с них огонь, хохотали… безумие и дикость кругом… Святое распятие успели спасти, но лик Праматери… А Лодэтский Дьявол смотрел на горящий храм, на то, как в нем горел лик Праматери, и широко улыбался! Я тогда зарыдала, осознавая, что все мы за что-то прокляты Небесами, раз в наш маленький городок пришел сам демон, и куда бы мы не убежали, проклятье останется с нами. Лодэтский Дьявол заметил меня, повернул ко мне коня и приложил палец к губам, приказывая молчать, – вот тогда я хорошо увидела его лицо. И уже его не перепутаю. И еще… Об этом даже Иам не знает, – понизила голос Марлена. – Когда Лодэтский Дьявол смеялся, я видела… У него часть зубов была из серебра!
Маргарита нарисовала на груди крест: о таких чудесах, что зубы могут быть из серебра, она еще не слышала, – это был точный признак колдовского чуда, а значит, и демона.
– А Иам пуще зарыдал, – продолжила рассказ Марлена, – боялся, что его убьют. Он потом еще долго просыпался в криках, – вот я и молчала о зубах… Я до недавних пор вообще отказывалась говорить о Лодэтском Дьяволе, – вздохнула она. – Он мне тоже до сих пор снится – всегда один сон: он уже без коня, но в том же плаще с капюшоном, оборачивается ко мне с пальцем у рта, потом хватает меня и тащит куда-то… А затем я одна во мраке, черно-черном, лежу вроде как нагая и… так мне страшно в той тьме, что двинуться не могу, кричать пытаюсь, да тщетно… Я будто заживо похоронена в том мраке. И ничего там нет, только жужжание мух… они и на мне, и внутри меня… то ли выползают из меня, то ли заползают…







