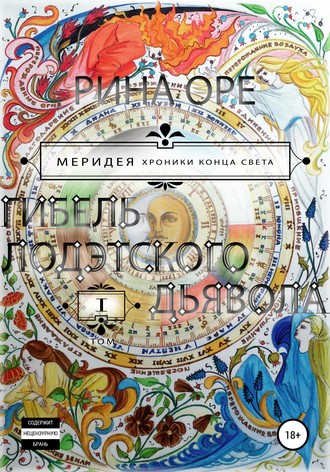
Рина Оре
Гибель Лодэтского Дьявола. Первый том
Иам Махнгафасс, наоборот, смущенно посматривал исподлобья. Невеста ему понравилась, и он запутался, взвешивая «за» и «против». Дед Гибих и дядя Жоль тоже молчали, боясь испортить смотрины.
– Нуу… пусть… – наконец сказал Иам. – Давайте послезавтра венчаться. Нам всего пять дней дали, чтобы с семьей проститься. Сорок третьего дня, к четырем часам вечера, я уже должен быть в крепости. Завтра я к сестре пойду – всё устрою. Тут храм Благодарения рядом, как раз послезавтра четный день – повенчают, значит… Перед храмом, после двух часов и одной триады часа, давайте встречаться.
– Ты-то хоть согласная? – легонько толкнул дядя Жоль Маргариту. – Эт не шутка ведь. Навсегда будёт…
– Да! – с вызовом сказала она.
– Ну тогда… – протянул дядя Жоль руку Иаму. – Уговорились?
Тут Раоль Роннак остановил друга. Маргарита приготовилась умереть на месте или же сойти с ума от позора.
– А она точно непорченая? – уточнил Раоль. – Уверен, что твой сын до нее не добрался? А то смотри – вернем ее.
– Да-да, – благодарно улыбаясь «усатому», подтвердил Иам. – Такая жена мне не нужна и за пятьсот регнов. Разве что за тысячу… или две… Нет – за десять золотых подумаю, может быть, еще…
Дядя Жоль рассвирепел.
– Вон! – гневно изрек он. – А мне вот не нужное, чтоб наутро после свадьбы вы тута околачивались и спрашивали еще монет. Даю двести серебряных регнов приданого и ни медяка больше́е! А коль Богу не боишься, то знай – сам тебя за дочку прибью!
– Спокойно, старик, – миролюбиво ответил Иам: он уже настроился на последние радостные деньки в Элладанне – с красавицей-женой и деньжищами в кошельке. – Просто предупреждаю: гульня мне не нужна. Если обманите, сдам ее в монашки – так и знай! Идет?
Дядя Жоль, памятуя, что с Маргаритой никогда не бывает гладко, отвел ее в беседку.
– С тобой там… кх…что Оливи… м-да делывал? – шепотом и несмело поинтересовался он.
– Трогал… – кусая губы, так же тихо и робко ответила Маргарита.
– Всё?
– Да… Целоваться еще лез…
– М-да, – вздохнул дядя Жоль и сам поцеловал ее в лоб. – Держись до сорок второго дню от него подальше́е. Один день сталося стерплять… Не выходь всё ж таки из спальни, а сейчас поди тудова и затворися. Я ж с ими пойду – надо как-то всё… кх… м-да… На добром духу надо всё ж таки разойтися, а то еще того гляди раздумают. Мы же послезавтру дураками выстоим у храму перед Гиором Себесро.
Дядя Жоль и Иам подняли полусогнутые правые руки, перекрестили ладони и согнули пальцы, – пожали руки, скрепив сделку клятвой. Затем все четверо отправились обратно в трактир, обмывать такое событие. Маргарита удалилась в дом и, как назло, в коридоре столкнулась с Оливи. О том, что ее сужэн был мертвецки пьян, говорили лишь его стеклянные глаза.
– Марргариииточка, – промурчал молодой мужчина, – так что у нас там с Географией? На чем мы остановились? На чем-то очень интересном, как я помню… Или на Истории?
– Чего я тебе сделала? – сторонясь его, спросила Маргарита.
– Да полно… – махнул рукой Оливи. – Сама виновата, что так вышло: вела бы себя тихо… А сейчас… Деваться тебе некуда – к празднеству матушка вышвырнет тебя из дома. Вот тут-то я о тебе и позабочусь, помогу в трудную минуту. У меня сбережения есть, средств хватит… Устрою тебе рай земной – будешь мне всю жизнь благодарной. А сейчас, – поманил он к себе девушку, – иди-ка ко мне, несчастная моя. Я тебя в твоей комнатке утешу, а ты начнешь меня благодарить…
– Оливи, – сердитым голосом ответила Маргарита, – я послезавтра венчаюсь. И как бы мне тяжко не пришлось, я никогда не пожалею, что уйду отсюдова. Я никогда не попрошу ни тебя, ни твою мать подмочь мне, и не приму от вас ничто, даже умоляй вы меня!
Она, прижимаясь к стене, обошла усмехавшегося сужэна, без слов говорившего ей: «Дуреха».
– И вот еще, – добавила Маргарита, отворив дверь под лестницей. – Мой жених – воин. Он поколотит тебя, коль еще полезешь ко мне!
Довольная тем, что испугала сужэна, Маргарита закрылась в своей спаленке. Больше она не плакала и засыпала в приятных надеждах, а весь следующий день мечтала о чудесной жизни в замке герцога подле красивого мужа. Она поклялась стать самой лучшей супругой на свете для того, кто так скоро избавит ее от тетки Клементины, простыней Мамаши Агны, противного Оливи и всех Себесро. И дважды поклялась никогда не жалеть о своем отчаянном согласии выйти замуж за незнакомца.
________________
Слово «венчание» меридианцы понимали как благословление Бога; «свадьба» означала языческий обряд породнения; «жених» – это тот, кто женится, «невеста» – готовая к семейной жизни. Некогда в Орензе обряды породнения справлялись только весной; жених и невеста садились за стол, под цветущее плодовое дерево, им обоим надевали на голову венки, и начиналось пиршество с танцами; вино лилось рекой, шумно играла музыка… До заката невеста и жених имели право оборвать свадьбу, а после того как цветы смыкали лепестки, отец или иной ответственный за невесту родственник брал ее на руки и передавал жениху – тот, под веселый гул и шуточки гостей, уносил девицу в свой дом.
Экклесия рьяно боролась с языческими обрядами, вот только на свадьбы священникам пришлось закрыть глаза, ведь между венчанием в храме и свадьбой, меридианцы неотступно выбирали свадьбу. Невесту требовалось ввести в род верно, чтобы у общины не осталось сомнений в законности союза.
________________
Сорок второго дня Нестяжания, в день меркурия, к Маргарите зашла Беати, чтобы помочь подруге убрать себя для «главного девичьего торжества». Смуглянка вплела ей в косичку у лба маргаритки – и получился будто бы венец из белых перьев с нарядными желтыми солнышками, а из-под него по плечам невесты текли волны волос цвета теплого золота. После венчания незамужние подруги брали по бутону из прически невесты и прикрепляли его к своим волосам, – считалось, что так они тоже вскоре выйдут замуж. Лучшим цветом для свадебного наряда признавался алый, но Маргарита отправлялась в храм всё в том же светло-лавандовом платье – «милостивая» тетка Клементина согласилась на последнюю жертву ради того, чтобы бедовая племянница исчезла с ее глаз. Маргарита сама хотела поскорее выйти за порог дома Ботно и никогда более его не переступать.
С очередным перезвоном колоколов, донесшимся с улицы, невеста вздохнула и поглядела на себя в ручное зеркальце. Оттуда, из мутноватого стеклянного мира, на нее строго смотрела очень красивая в своем пышном цветочном венце, зеленоглазая незнакомка, загадочная в тусклом свете маленькой лампы. Даже непослушные волосы Маргариты в этот день блестели как у ведьмы.
– Ты – наикрасатющая! – восхищенно вздохнула Беати. – Так жалко, что завтра ты покроешь голову, – и никому, кроме мужа, нельзя будет повидать твои дивные волосы.
– Ну и пусть, – равнодушно ответила невеста. – Нинно будет?
– Нет, я ему сказать не успела. Он еще вчера, поутру, выехал из городу с парой других кузнецов: хотят скупить у деревенских руды и железов. Всей в заказах до празднества Перерождения Воды… Так всегда: то ничто, то ты и сам работам не радый. Я ему давно твержу: хватит молотиться о свои подковы – мастери и ты срамные статуйки, как сосед, а он говорит, что я ничё не понимаю, что гвоздя, подковы и топоры будутся нужными завсегда, а безделицами дома не починишь, дров не наколешь и врага не погонишь. Дескать, щас война – и он заработает столько, что из гильдии выйдет и за доспехи с оружьем примется! Что за добрый меч может и полсотни золотых просить, и всю сотню. А я ему: «Как же, так тебе и дадут старейшины набогатеть, патрыций ты наш!» Ой, мы так поругались! И он сказал, чтоб я из дому ни ногою! Особенно с Синоли, – улыбалась смуглая красавица. – Так что я ему скажу, когда вернется и отоспится, наконец, а то разозлится еще пущее и мое венчанье отменит. Не знаю, чего ему твой брат так не сгодил, но я слезами да на коленях вымолила у Нинно согласья на помолвку.
– Пригласишь на венчание и пиршество? – отлично зная ответ, спросила Маргарита. – Лишь ради тебя я еще раз в этот дом войду. Как ты не боишься моей тетки?
– Больше́е всего я боюсь за брата, – сразу загрустила Беати. – Сженился бы и он поскорее, а то хозяйству вести не может. Не постряпает ведь, и полов не пометет – ему до полов интересу нету. Яйца и того не сварит! Дюжину выпьет да буханку за раз умнет, – и сыт! Так и вижу его: одного, в грязном дому, кушает непонятно что или даже пьянствует… – вздохнула она. – Буду навещать его всякий день, покудова малыш не народится. А после… – снова глубокий вздох. – Уж не смогусь часто…
Дверь открылась, и без стука вошла тетка Клементина.
– Вам пора, – хмуро сказала она. – Беати, оставь нас… Вот что, – продолжила тетка Клементина, когда подруга Маргариты ушла из спаленки. – Мне надо сказать тебе о замужничестве… – нервно затеребила она тряпичные шарики пуговичек на своей груди. – Там всё простое… Всё, что тебе надобно делать – не противиться, чего бы у вас с мужем не былось ночиею наедине. Закрой глаза, молча возлежи в покою… и представь чего-то приятное… Как лопаешь конфеты в лавке или портишь мне жизню! – гневно тряхнула оборками чепца Клементина Ботно и протянула Маргарите серебряное колечко с ирисами. – Вот, бери… Продать бы его, как вазу моей бабули, но… Благодарить не надо. Нам больше́е вовсе не надо никогда говорить… И прощаться тоже… Поди теперь… исчезни, наконец, из этого дому.
Маргарита слушала тетку, сидя на кровати и уставив взгляд в стену. После чего она молча надела кольцо на палец, взяла мешок со своими вещами и, не оглядываясь, вышла из комнатки.
В передней ее ждали братья, дядюшка и Беати. Она улыбнулась им, говоря, что готова. Когда Маргарита выходила из дома, в двери обеденной появился Оливи. Усмехаясь, он смотрел на невесту и будто бы опять говорил, что она дуреха. Сужэн и сужэнна не сказали друг другу ни слова на прощание.
Дед Гибих тоже решил проводить Маргариту и поджидал ее возле лавки. Он растроганно высказал свое напутствие:
– Жителяй сытая да в любвови. И сюды не воротайся.
________________
На стотысячный Элладанн приходилось двадцать два храма, включая грандиозный храм Возрождения на Главной площади и храм Пресвятой Меридиа́нской Праматери за крепостными стенами замка герцогов Лиисемских. Как правило, храмы были скромного размера, с четырьмя ярусами лож, вмещали они от тысячи до пяти тысяч прихожан (вместительность храма всегда учитывалась вместе с площадью перед ним), называли храмы в честь святых мучеников, покровителей того или иного ремесла. Кроме того, обустраивали часовни – залы без шатров-пирамид, с часами и календарем вместо сатурномера. При храме проживали священники, там ежедневно проходили полуденные службы, а также исполнялись четыре главных ритуала: единение ребенка с Богом, приобщение дарами стихий, венчание по четным дням и успокоение умерших по нечетным. В часовни священников приглашали для проведения праздничных богослужений и ритуалов; в будни меридианцы сами читали молитвословы. В восемь главных празднеств года святые дома и часовни не могли вместить всех желающих – тогда и заполнялись площади, на бесплатную службу. В Возрождение все горожане вставали на колени за час до полуночи, занимая любое свободное пространство.
Меридианцам предписывалось бывать в храмах по возможности каждый день, ну или хотя бы по благодареньям, лучше – дважды за триаду, еще лучше – трижды за триаду (до медианы, в медиану и в благодаренье). Полуденную службу могла заменить молитва в час Веры, но прочтение строк из молитвослова не шло ни в какое сравнение с посещением святого дома, где играла чудесная музыка, звучали сладкоголосые песнопения и всё завершалось пилулами да вином. Самыми дивными песнями наслаждались счастливчики в храме Пресвятой Меридианской Праматери: герцог Лиисемский, его придворные и работники замка, жившие за крепостными стенами.
Там, на холме, за надежной двойной оградой, укрылось епископство, то есть независимое княжество с правителем-епископом: земли храма Пресвятой Меридианской Праматери принадлежали не Лиисему и не Альдриану Красивому, а Святой Земле Мери́диан, и разбой на той земле карался духовным судом особенно сурово. Храмом с именем Праматери назывался самый значимый храм большого города, храмом Возрождения мог быть только храм с двумя сатурномерами, храмом Благодарения являлся первый святой дом, построенный в городе. Пять циклов лет назад площадь перед храмом Благодарения была центром Элладанна, и массивные архитектурные формы старинного храма еще восхищали горожан, но нынче он потускнел на фоне своего соседа слева – мирского суда: легкого и светлого дворца с широкой лестницей у фасада, крутой односкатной крышей, трехъярусной колоннадой и размашистыми окнами в полукруглых арках.
Храм Благодарения, напротив, производил гнетущее впечатление: в серой патине веков, нарочито тяжеловесный и без единого шпиля, он, казалось, мрачно щурился прорезями витражных бойниц. На его толстых стенах нашли прибежище ехидны, химеры, горгульи и прочие чудовищные твари, скалящие свои зубастые пасти. С карнизов, со сцен людского грехопадения, проступали столь бесстыдные сюжеты, что, приглядываясь, меридианцы краснели от смущения. Тем не менее храм до сих пор пользовался почетом в народе и по благодареньям всегда забивался прихожанами, которых вмещал до двадцати тысяч человек. Как все храмы он имел в основании крест с пятью пирамидальными шатрами по числу планет. Входили в молитвенную залу храма под шатром Меркурия – там были проходы и лестницы на разные ярусы, там же платили за свои места. Самый высокий, центральный шатер Юпитера символизировал Небеса. Под ним размещались восемь боковых ярусов с ложами для прихожан: с сидячими или стоячими местами; тех, кто не скупился заплатить от девяти до восьмидесяти регнов, ждали четыре ряда скамей на первом этаже, напротив алтаря. Под шатром Сатурна находилось алтарное возвышение или «взлет», за ним, в глубине – сатурномер, кафедральная площадка и диагональные трибуны для хора.
Если стоять лицом к вратам храма, то зала для ритуала единения под шатром Венеры примыкала к молитвенной зале с левой стороны, зала под шатром Марса с исповедальнями строилась с правой стороны, – так и получался крест. В исповедальни заходили из молитвенной залы, в единитную залу попадали с улицы, через отдельную дверь. Перед ней была площадка для пришедших единить ребенка с Богом и ожидавших своей очереди. На такой площадке перед храмом Благодарения можно было бесплатно набрать воды, поскольку внутри залы бил родник, наполнявший бассейн для омовения, и излишки воды вытекали наружу под каменным козырьком на углу храма, после чего попадали в узкий сток. Благочестивая Клементина Ботно, каждый раз проходя мимо этого козырька, кривила лицо, потому что источник портил ей дело по продаже воды. Только летом, когда из-под козырька сочилась тонюсенькая струйка, она переставала иметь нарекания к Богу, хвалила его и просила засухи для Элладанна. Синоли же уныло опускал плечи, зная, что ему придется целый день таскать бочонки с водой по соседям.
Справа от ступеней храма организовывали еще одну площадку – для пришедших на последнее прощание с усопшими. Устрины, места для сожжения тел, обустраивали перед храмом, справа или за ним, но никогда возле единитной залы. В храме Благодарения к устринам вели отдельные ворота у колокольни – по нечетным дням там всегда толпились люди в траурной одежде. Без сожжения покойников никак нельзя было обойтись, ведь даже больше столкновения светил меридианцы боялись того, что их умершие тела вовремя не предадут огню, что душа не расстанется с плотью, не переродится и станет голодным, мерзнущим, страдающим призраком. Другой страх заключался в том, что после сожжения их кости не похоронят под табличкой с крестом, так как могила со святым символом означала, что их сначала будет судить строгий, но милосердный Бог, а без креста – сразу Дьявол. Могила должна была сохраниться не меньше чем на восьмиду – столько душа хранила память, ожидая очереди на суд Бога. За храмом Благодарения раскинулось живописное кладбище с кипарисами, низенькими колоннами над захоронениями священников и стелами у могил богатых горожан. Погост отгораживали от глаз жителей Элладанна каменные стены, кельи и длинное здание семинарии, где послушников учили Богознанию.
Места на кладбищах в черте города стоили дорого. Лишь настоятели храма получали вечное право на земли своего прихода. Для останков всех остальных священников полагался срок в тридцать шесть лет, после чего их переносили в подземные склепы за городом. Туда же отправлялись кости мирян и воинов, если родственники переставали платить за могилы. Имена с могильных плит переписывались и сохранялись в архивах храмов, чтобы родня могла найти склеп, приходить к нему в Юпитералий и оставлять там угощения. Кладбища за городом стоили в разы дешевле, но останки матери и отца Маргариты уже лежали в склепе под Бренноданном, смешавшись с множеством других людских костей. Старший Синоли Ботно внес плату только за год захоронения супруги, а его собственную могилу, хотя он потерял место в гильдии, оплатили сжалившиеся плотники на срок одной восьмиды.
Могилы можно было устроить и во дворе своего дома, вот только это увеличивало поземельную подать, поэтому бабка Клементины Ботно и ее рано усопшие родители покоились за городскими стенами, на кладбище в трех часах езды от Элладанна.
________________
Для меридианцев человек состоял из двух сущностей: земной плоти и воздушной души. Рынки символично соседствовали с храмами; всего в Элладанне торговали по-крупному в трех местах. Самый масштабный крытый рынок со скотобойней находился в северо-западном округе; второй: самый чистый, наряженный в полотняные навесы, – на Главной площади; третий: средних размеров, под открытым небом, неприглядный и похожий на муравейник, – на площади перед храмом Благодарения. К вечеру этот стихийный рынок исчезал: с трех до четырех часов дня торговцы разбирали свои прилавки из досок и бочек, чтобы с рассветом вернуться.
В два часа пополудни площадь бурлила: кто-то покупал, кто-то продавал, третье приценивались, убивая время перед судебным заседанием.
– Орехвое, миндальное масла! Жирные, что свиная нога! – неслись громкие голоса с одного края площади. – Масло сандельянской оливы! И для свету, и для чреву, – просто диву!
– Веники! Банные веники! – раздавалось с другой стороны.
– Сменяю дожёвую воду на хлеба! Вядро – буханка сера́!
– Алоза, речная алоза! Налетай, покедова Лани свободна! Больше́е не будётся!
– Берем овощи и травы на салат! И чрево набьют и похлебку освежат! Зелен лук, латук и порей! Медяку для животу не жалей! Чабер, петрушка, чесночок! За пучок всего один медячок!
– Скуплю всякого металлу, даже ржаво́го! Иглы и гвоздя тож бяру!
– Овечьи сыры – чистое мясо! Не забудь и про коровье масло!
– Первая сладкая вишня! Лесная земляника, молошный горошок! Сладко́й и нежно́й!
– Сахерные слииивы! – зычно кричала разносчица с лотком под самой грудью. – Даааром! Всяго четвертак! Мядной регн за кулек! Сахерные слииивы, су́шеные в мё-оду! Даааром! Одна мядна́я монееета!
– Бл…дэтский Дерьмоявел всех курей ужо в Бренноданне стоптал! – залихватски орал грубый птичник. – В храбрейшем городу Элладанну позорник нико́гого не ишпужал! Скупляем цыплят, курей, пятушей, индюшей, голубей, гусов, уток и яйца́! Ро́стим силющу, мужики! Съел гусье яйцо – защитил своейное крыльцо! Съел голубьих с десяток – враг так отседа побёг, что остался без пяток! Съел за раз курьих дюжину – из любого поделал дерюжину! Дюжина курьих яйцо́в за шость регно́в! Не десятку – дюжину! За шость регно́в! Дешевше нету, и ужо не будёся!
Последние выкрики сильно удивили шедшую вдоль рынка Маргариту: восьмиду назад дюжина куриных яиц стоила всего один серебряный регн. Теперь же на этот товар торговцы сразу задрали цену, хотя враг еще даже не подошел к Нонанданну, поскольку без яиц орензчане не мыслили утренней трапезы – с них по древней традиции начинался день, а заканчивался яблоком.
Мимо невесты, ее родни и улыбчивой Беати сновали многочисленные разносчики, повесившие впереди себя лотки или несшие их на голове. Часто лоточницами работали женщины, продавшие свежеиспеченные хлеба, – за сбыт двенадцати буханок пекари платили им тринадцатой. Из-за этого число «тринадцать» считалось в Меридее счастливым. Здесь же, на углу площади, у рынка, жонглер, развлекая детишек, подбрасывал вверх восемь ярко-красных сердец. Оно из них на глазах Маргариты упало в грязь на камни – жонглер не обратил на него внимания и продолжил подкидывать другие сердца. Невеста вдруг испугалась, что Иам, протрезвев, передумал и не придет к храму, что он поступит с ее сердцем как жонглер – развлечет себя да других, а она погрузится в еще больший позор.
Но у ступеней храма Благодарения Иам Махнгафасс и его усатый друг уже ожидали невесту. Маргарита моментально прониклась горячей признательностью к своему жениху за то, что он ее не бросил и ей не пришлось возвращаться назад со свадебным венцом на голове, чувствовать унижение и видеть торжество Оливи. Рядом с двумя мужчинами стояла девушка семнадцати с половиной лет – красавица с нежным, ангельским ликом, достойным воплотиться в изображении Меридианской Праматери. Ее скромная одежда скорее напоминала платье зажиточной сильванки, а никак не дамы из второго сословия. «Девушка-ангел» тревожно смотрела на брата своими небесно-голубыми глазами, блестящими от слез любви. Этим бескрайним, всепрощающим обожанием она напомнила Маргарите ее тетку – та точно так же глядела на Оливи.
«В ней тетка Клементина души бы не чаяла», – подумала Маргарита, замечая белоснежно-белый чепец незнакомки.
– Моя сестра Марле́на, – представил «ангела» Иам. – Она тебя устроит в замке.
Иам обращался к своей невесте, но поглядывал на Беати – смуглянка явно приглянулась ему больше, несмотря на то, что Маргарита была хороша собой как никогда. Усатый Раоль тоже уставился на знойную красавицу. На Маргариту по-настоящему внимательно смотрела одна Марлена. Она улыбнулась и словно озарила печальную невесту светом.
– Рада знакомству, – сказала Марлена своей будущей сестре. Ее голос тоже звучал как у ангела: чисто и спокойно. – Мы пойдем в храм. Брат Амадей уже нас ожидает. Вы заходите следом.
– Нас будет венчать Святой? – не поверила Маргарита.
Брата Амадея или Святого любили во всем Элладанне. Молва приписывала ему чудеса – говорили, что злодеи начинали жить честно, девки отрекались от постыдного ремесла, а нуждавшиеся в помощи всегда ее получали. Делал праведник добро и тем, на кого всем было наплевать: кого-то из бродяг брат Амадей спас от голодной смерти, других – от стражников, третьих даже вытащил со дна и помог им встать на ноги. И удивительно это было, поскольку иные служители Бога оказывали лишь духовную помощь, а согласно закону о разделении людей на общности, миряне опекали мирян, воины – воинов, священники – священников, бродяги – бродяг.
После тридцати шести, своего возраста Возрождения, то есть два года назад, Святой перестал проповедовать, проводить ритуалы и прослыл затворником. Маргарита видела его всего пару раз на улице. Святой ходил в коричневой рясе, подвязанной веревкой, и с капюшоном на голове. Его ноги оставались босыми как в дождливую лиисемскую зиму, так и летом, когда булыжники мостовых накалялись, точно угли. Лицо, что видела Маргарита в отверстии капюшона, выглядело изможденным, но и одухотворенным, благородно красивым. Праведник проходил мимо людей в задумчивом отрешении, только добродушная полуулыбка лежала тенью на его губах. Еще Маргарита помнила, что у брата Амадея были добрые черные глаза, смоляные волосы длиной до плеч и прямой, аристократический нос.
– Святой Амадей? – переспросила Маргарита.
– Брат Амадей наш очень хороший друг, – кивнула Марлена. – Некогда, как и многим другим, он помог мне и брату.
– Да, всё так, – подтвердил Иам. – Мы бежали из графства Хаэрдмах из-за Лодэтского Дьявола пять лет назад, а теперь наш край – это не Бронтая, а его земли! Отец был изобретателем и зодчим – он решил поискать заказы в Лиисеме, но по прибытии сюда умер от желудочной хвори. Мы же с сестрой остались сиротами в незнакомом городе. Совсем не знали орензского языка… К тому же владелец постоялого двора вышвырнул нас на улицу и всё наше себе забрал. Я тогда с голоду украл хлеб на этом самом рынке, но меня словили, – и за кражу буханки за четвертак решили пробить мне гвоздем руку. Брат Амадей, к счастью, увидел это и спас меня – он уговорил пекаря не губить того, кто еще не достиг возраста Послушания. С такой отметиной на руке от гвоздя всю жизнь будешь маяться – никто тебя на работу не возьмет, – выходит, пекарь толкнет меня на путь преступлений, возможно, и убийств, – беззаботно улыбался Иам. – Бог же спросит за это и с пекаря, который не явил милосердия. Так меня отпустили. Потом мы разговорились с братом Амадеем – он отлично говорит по-бронтаянски. Еще брат Амадей убедил владельца постоялого двора вернуть нам по-хорошему все вещи и деньги. На них он пристроил нас в монастырскую школу при приюте Святого Эллы, где мы выучили орензский, грамоту и кучу псалмов… Сестра даже монашкой хотела стать, – засмеялся Иам.
– Да… – вздохнула Марлена, – хотела. Пойдем в храм, жених, – нежно погладила она брата по руке и снова вздохнула, как бы говоря: «Глупенький малыш».
После того как за Иамом и Марленой закрылись врата храма, Раоль Роннак сказал Жолю Ботно:
– Ты это… деньги мне щас давай… Не тревожься, я их при тебе отдам жениху, только пересчитать надобно… Иам не хотел, чтобы его сестра видела… И оплата венчания тоже с тебя – еще восемь регнов к двум сотням.
Маргарита вымученно улыбалась братьям и подруге, стараясь не разреветься, пока Раоль Роннак унизительно долго, сбиваясь и начиная заново, пересчитывал монеты из кошелька, а дядя Жоль, пожалел, что не поменял четвертаки на крупные деньги. Приданое Маргариты состояло из выручки за стирку простыней, какую тетка Клементина складывала в копилку «на черный день». Очередным таким «черным днем» стало венчание ее племянницы.
Наконец Раоль пересчитал приданое и, оставшись довольным, ушел в храм. За ним по ступенькам стали подниматься Синоли, Беати и Филипп. Дядя Жоль тем временем положил что-то в мешок Маргариты.
– Там, в кошелечке, тридцать регнов, – пояснил он. – Небогато, но на всякой случай…
Маргарита крепко обняла своего дядюшку.
– Может, поотменяем всё? – вытирая глаз, спросил он. – А то, как от чумного ковру, от тебя избавляемся… Еще и допло́чиваем, чтоб его снесли с дому. Хуже́е я не торговал, а я мастер отпущать в убыток – знаю, что говорю…
Невеста вспомнила лицо Оливи и помотала головой.
________________
Церемония проходила на меридианском языке. Половину триады часа или двенадцать минут, пока длился ритуал венчания, Маргарита, находясь по правую руку Иама, думала о чем угодно, только не о нем. Сначала она рассматривала брата Амадея, вернее, его красивую, шитую золотом мантию с меридианскими звездами – такими же восьмиконечными, как символ Орензы, но со стрелочками на концах. Крест со стрелами являлся святым знаком мирян и воинов, символом четырех сторон света; священники же носили звезду – восемь сторон света.
В тринадцать с половиной лет, в возрасте Послушания, вольные мужчины Меридеи, имевшие родовое имя, избирали свой дальнейший путь: духовный, мирской или воинский. Но незаконнорожденные не имели права подать в суд, учиться в университете или семинарии, представлять мирской закон, владеть землей, заниматься ремеслом или торговлей, – такие мужчины, как правило, сироты из приюта, мечтали пойти по воинскому пути, какой мог дать им средства на достойную жизнь и имущественные права. Девушкам оставалось надеяться на выгодное замужество. Еще хуже для свободного человека было родиться преступнорожденным: быть плодом преступного женского прелюбодеяния, – таким людям, ко всему прочему, запрещалось венчаться, а их дети становились незаконными или снова преступными. По мнению Экклесии, преступнорожденные люди были обязаны хранить целомудрие и тем самым платить за грехи своих матерей; священник же отказывался исполнять таинство венчания, если имел сомнения. Все подброшенные к приютам дети считались преступными, в иных случаях ребенка принимал туда священник, хорошо знакомый с семьей. Преступнорожденного мужчину чаще всего ждал удел «чернорабочей босоты»; несчастливцы пополняли ряды бродяг, бандитов, воров; девушки с малолетства продавали свое тело. Большой удачей для преступнорожденного считалось стать, с милости аристократа, лично зависимым землеробом.
Несвободные, лично зависимые, землеробы относились к четвертому, низшему сословию среди мирян, обладавшему чуть большим числом прав, чем бесправные бродяги. Из-за того, что деревни всегда располагались у лесов да за дикарство сохранившихся в них со времен язычества обычаев, горожане, подразумевая невежество, надменно называли землеробов «сильванами», а их жен или дочерей – «сильванками», то есть почитателями Сильвана – лесного бога древних людей, рожденного от козла, последней черни и отброса среди других богов. Жители деревень не знали о таком боге, слово «сильва́нин» им нравилось, а «землероб» не очень – так что они не возражали и сами так себя величали. Землеробы не имели родовых имен, поэтому нуждались в покровительстве: аристократы позволяли им работать на своих полях, забирая часть урожая, женили их и судили. Продать, подарить или передать людей, словно рабов, было нельзя – только вместе с землей и только другому аристократу. Добровольно несвободные землеробы не могли покидать своих поселений; если же сильванки выходили замуж за свободного человека или за землероба другого господина, то платили за открепление от земли. Супружество между вольной женщиной и несвободным землеробом не дозволялось, их дети опять же не получали имени. «Право первой ночи» Экклесия признавала, но проповедники всё чаще порицали эту древнюю традицию и призывали хозяев землеробов добровольно от нее отказаться. Сильване могли получить свободу в награду от господина и тогда, если продолжали пользоваться его землей, платили одни денежные подати, не трудовые. Самым простым путем получения отпускной грамоты являлась почетная воинская служба, поскольку среди воинов несвободных людей быть не могло. На воина не распространялась власть мирского суда, жена воина и ее дети от прошлого супружества получали права свободного человека без дополнительных выплат, вдовы и сироты содержались из средств господина, да и воинской службой мужчины Меридеи очень гордились.







