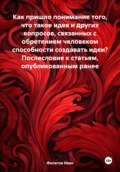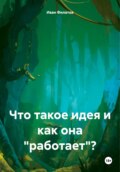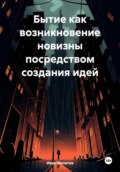Иван Андреянович Филатов
Метафизика возникновения новизны
Во-вторых, рассматривая процесс становления мысли (а в нашем случае процесс развертывания идеи в мысль), мы обосновываем бытие из мышления. Вспомним Парменида: «Ибо мыслить – то же, что быть»25. Здесь Парменид раньше всех и вернее всех уловил саму суть бытия как того, что не только рождается мышлением, но и само является мышлением (правда, мышлением особого рода), да к тому же обладает свойством быть «Целым, единородным,… и совершенным», (там же, фр. 8-4), то есть обладает свойством законченной истины. Парменид впервые интуитивно почувствовал (прозрел) нерасторжимое генетически обусловленное единство мышления самого по себе с помысленным сущим, явленным уже во всей своей полноте, а потому и в своем постоянстве. Так, наверное, первобытному человеку пришло озарение существования взаимосвязи молнии и грома. Не потому ли Хайдеггер так ревностно ухватился за досократиков, что именно у них он усмотрел верное направление к пониманию бытия, направление, совместимое и с мышлением, и с истиной, и с сущим.
И в-третьих, только обосновывая бытие из идеи, явленной нам в иррациональном акте продуктивного мышления, мы можем получить – и действительно получаем – бытие само по себе, то есть, казалось бы, ничем не обусловленный акт возникновения объективной идеи и явления ее в наше сознание.
Кстати сказать, определение Платоном бытия через идею, – что было отчасти обоснованным с его стороны по причинам, изложенным нами в Разделе 1.1. «Платон как открыватель «технологии» интуитивного мышления», – в конечном счете свелось к определению бытия через сущее, поскольку идеи Платона соотнесены им преимущественно с единичными объектами. Если бы Платоном было дано достаточно четкое определение идеи как комплекса взаимосвязанных объектов, то у него не было бы необходимости соотносить идею, а следовательно, и бытие с единичным объектом, то есть с сущим во всем многообразии его существования.
В качестве пояснения к сказанному, то есть к вопросу абсурдности сопряжения «бытия» сущего с единичным изолированным объектом, возьмем, к примеру, идею кровати. Идея кровати как таковая включает в себя не только саму кровать как объект определенного размера, сделанный из того или иного материала и расположенный горизонтально – все это свойства кровати, позволяющие этому объекту вступать во взаимосвязи с другими объектами – так вот, идея кровати включает в себя и человека, который в свою очередь обладает определенным ростом, которому (человеку) необходим отдых в форме сна и непременно в горизонтальном положении, да к тому же в определенном температурном диапазоне – и это тоже свойства человека как объекта идеи, – что, кстати сказать, обеспечивается расположением кровати в доме, который является еще одним объектом, входящим в идею кровати и обеспечивающим не только температурные условия отдыха, но и дополнительную безопасность во время сна. И если бы мы задались вопросом, в чем именно заключалась новизна взаимосвязи таких основных объектов данной идеи как человек и кровать – в отличие от ложа первобытного человека, расположенного непосредственно на земле или на дереве, – то можно полагать, что таковой была некоторая приподнятость ложа над землей, что обеспечивало и большую безопасность расположения тела человека, и удобство в пользовании им, и более комфортные температурные условия для сна. Вот это так необходимое для жизнеобеспечения человека ценностно-смысловое содержание данного комплекса, воплощенного в практику, и явилось сущностью данной идеи, то есть той «изюминкой», что обеспечила жизнеустойчивость этого изобретения.
Так вот, продолжим далее: нельзя говорить об идее, а следовательно, и о бытии, единичного объекта (вещи) вне взаимосвязи его с другими объектами, комплектующими данную идею. Если мы забываем об этом, то речь у нас уже будет идти не об идее как комплексе объектов и не о бытии, а об отдельном объекте в процессе его существования. Данный пример наглядным образом иллюстрирует то, как Платон в некоторой степени совместил в своей теории идеи бытие как таковое с бытием сущего, а вернее, с становлением сущего. Не отсюда ли, скорее всего, и пошло в дальнейшем понимания бытия как «бытия» сущего. И это было, как мы понимаем, следствием все того же не совсем корректного понимания самой сути структурно-функционального состава идеи.
Вот теперь мы уже достаточно ясно видим: различие между сущим и бытием не только в том, что сущее нам явлено в виде феноменов, в то время как бытие «любит скрываться» (Гераклит – Хайдеггер), но и в том, что сущее производно от бытия, но производно не самим бытием, а через возникновение интеллектуальной новизны (Истины), которое и есть само бытие. Вернее было бы сказать, что бытие – это ощутимые нашим сознанием и нашими чувствами феноменальные проявления возникновения этой новизны в виде объективной идеи. И такими проявлениями будут:
– и понимание смысла идеи,
– и удовольствие от самого акта понимания,
– и удивление самой новизной смысла и внезапностью его возникновения, казалось бы, не обусловленного нашим предшествующим состоянием.
Используя математический термин, можно сказать: если Истина как раскрытая идея является первой производной бытия, то сущее (искомое сущее) производно от Истины, то есть оно является второй производной бытия. Имея ввиду данное обстоятельство, отметим один важный момент, который не учитывался в метафизике и который в значительной степени внес неразрешимую в рамка европейской онтологии неопределенность во взаимоотношения между бытием и сущим. И момент этот заключается в следующем: если сущие являют только самих себя, то мы уже не можем безоговорочно – вслед за Хайдеггером – полагать, что истина бытия в них упущена. Да, действительно, само бытие «улетучилось» из явленного сущего – как улетучился аромат розы после того как ее лепестки были использованы на приготовление духов, – но то бытие, которым оно обладало ранее (то есть в составе идеи, Истины), трансформировалось в ту новизну свойств и взаимосвязей, которой стало обладать данное сущее в дополнение к тем «старым» свойствам и взаимосвязям, что определяли его сущность ранее. Так что бытие в сущем никоим образом никуда не исчезает и нигде не прячется – оно преобразуется в дополнительно приобретаемую новизну. А вот в каком виде возникает эта новизна, у нас речь пойдет более подробно в пунктах 4 и 5 данного раздела. Кстати сказать, когда мы говорили о производности Истины от бытия, а сущего от Истины, то не является ли данное обстоятельство причиной столь частой употребительности в метафизике словосочетаний «истина бытия» (или «суть бытия») и «истина сущего». Истина процессуально расположена посредине между бытием и сущим, поскольку в Истине не только раскрывается предшествующая ей смысловая составляющая бытия, но и проявляют себя обновленные, выводимые из самой Истины, сущие как между собою взаимосвязанные объекты, являющиеся составными частями самой Истины.
Итак, заключая наш разговор о разграничении и взаимосвязи бытия и сущего через Истину, можно сказать следующее. Если бытие – это процесс возникновения новизны, то объектом бытия является в первую очередь новизна смысловая, и не в виде последовательного суждения или умозаключения, а сразу же в виде «схваченной» нами и уже готовой к развертыванию в Истину новой идеи. Таким образом, объектом, который «взращивается» в процессе бытия является ни на что ранее не похожая и никому ранее не известная новая мысленная конструкция. Отсюда нам понятно: объект, который осуществляет данную акцию – это наш интеллект (мозг), функционирующий как в режиме бессознательного мышления (то есть до явления идеи в наше сознание, например, в «инкубационной» фазе), так и в режимах сознательного допонятийного и логического (рефлексия-II) мышления, то есть после явления идеи в наше сознание.
п. 4. «Бытие» сущего как возникновение (в интеллекте человека) нового сущего и обретение им сущностной функции. Примеры
В лекциях, озаглавленных «Введение в метафизику», Хайдеггер задается вопросом: где прячется бытие мела, которым пишут на доске:
«Где здесь прячется бытие? Оно должно быть присуще мелу, ибо он, этот мел, есть»26.
При этом он перечисляет свойства мела:
«Вот этот кусочек мела есть продолговатый, сравнительно твердый, определенным образом оформленный бело-серый предмет, предназначенный для письма». (Там же, стр. 113).
Далее он особо указывает на фактор присутствия мела и пригодности его для письма:
«Этому предмету достоверно принадлежит свойство лежать вот здесь, но точно так же и возможность не быть здесь и не иметь данной формы. В возможности водить мелом по доске и исписать его нет ничего, что бы мы этому предмету лишь примысливали. Он сам как данное сущее находится в данной возможности, иначе он не был бы мелом как орудием письма. Соответственно этому всякое сущее каждый раз по-разному имеет при себе данную возможность. Данная возможность относится к мелу. Он сам в себе самом имеет определенную пригодность к определенному применению». (Там же).
Потом Хайдеггер указывает на различие двух понятий, заключенных в слове «сущее». Во-первых:
«Сущее подразумевает то, что в каждом данном случае суще, в частности, эта бело-серая, определенным образом оформленная, легкая, хрупкая масса». (Там же).
А во-вторых:
««сущее» подразумевает то, что как бы «делает» так, чтобы данное поименованное было сущим, а не наоборот, не-сущим, тем, что в сущем, коль скоро оно сущее, образует бытие». (Там же, стр. 113, 114).
Далее он поясняет:
«Соответственно этому двойному значению слова «сущее» греческое το ον часто подразумевает второе значение, следовательно, не само сущее, то, что суще, а «сущесть» …, сущность …, бытие сущим …, бытие. В противоположность этому «сущее» в первом значении называет сами сущие вещи – все или отдельные, имея в виду только их самих, а не их сущность, ουσια». (Там же, стр. 114).
Так вот, нам понятно, что «сущее» в первом своем значении – это свойства объекта, которые его характеризуют, но не совсем понятно, что же все-таки «делает» возможным само возникновение и последующее присутствие этих свойств в данном сущем, то есть, что «образует бытие». Попытаемся разобраться в этом на примере все того же кусочка мела и других сущих, нами уже не раз упоминаемых не только самих по себе, но и в контексте какой-либо идеи.
Как нам уже ясно, для понимания бытия важен не столько сам факт явления и присутствия данного сущего со всеми его свойствами, сколько фактор возникновения некоторого рода новизны в этом сущем. А новизна, как мы уже установили, может возникнуть только в результате участия сущего в той или иной идее. Возникновение идеи влечет за собой, – а не наоборот ли? Скорее, наоборот. (См. Р. S. I в конце данного пункта) – как образование взаимосвязей между объектами, так и обновление тех объектов-сущих, которые являются составными элементами идеи. Но все ли элементы идеи обновляются одинаковым образом? Оказывается, что нет. Одно из них, по сути дела, возникает почти что заново, остальные же – просто обновляются. В выяснении того, каким образом они это делают, и состоит наша главная задача, поскольку от этого зависит понимание вопроса, так в чем же именно заключается «бытие» сущего.
Сначала мы займемся тем сущим, которое возникает почти что заново, так как его образование является решающим фактором в формировании новой идеи. (О тех сущих, которые всего лишь обновляются, у нас речь пойдет в п. 5). Так в каком же все-таки виде проявляется новизна этого внове образуемого сущего? Вот здесь-то и выясняется самое главное: во-первых, эта новизна возникает не только в виде внове образованного облика (эйдоса) сущего, но и в виде внове обретенного свойства у этого сущего, а во-вторых, посредством этого свойства оказывается возможным выполнять какую-либо новую сущностную роль, то есть выполнять новую функцию по производству какой-либо Продукции нового вида, которой ранее не было в нашем жизнебытии.
Мы назвали это новое свойство – в отличие от остальных его свойств – сущностным (метафизическим) свойством или свойством идееобразующим, поскольку, как нам станет ясно чуть ниже, это свойство собирает вокруг себя все объекты-сущие внове образованной идеи. А само внове образованное сущее, ставшее обладателем этого сущностного свойства, мы назвали искомым сущим. По образцу же последнего можно изготовить материальную его форму, которую мы назвали подручным средством, позаимствовав этот термин у Хайдеггера. (Позже нам станет ясно, почему мы остановились на этом термине).
Итак, мы имеем внове образованную идею, одним из элементов которой является внове образуемое сущее, посредством которого, – а именно: посредством его сущностного свойства (то есть через его сущность) – можно исполнять какую-либо новую функцию в нашей жизни. А для того чтобы нам было более понятным, о чем идет речь, приведем пример самой идеи изобретения кусочка мела. Ведь мы же не будем отрицать того факта, что мел кем-то, когда-то был изобретен, то есть кому-то однажды пришла в голову идея использования предмета, оставляющего след на другом предмете, для целей более мобильной и более эффективной (массовой) коммуникации между людьми и передачи знания от одних к другим. Причем в данном случае этот след в виде текста может быть как легко нанесен на доску, так и легко удален с нее.
Здесь налицо аналогия с изобретением письменности. И если в соответствии с этой идеей знание передается на большие расстояния и на века, то есть от настоящего поколения поколениям будущим, то в идее мела это знание мобильно передается здесь и сейчас, то есть, как правило, от поколения, обладающего знанием, поколению, им еще не владеющему. И для нас не имеет значения, зафиксирован ли или нет сам факт изобретения, открытия или создания какой-либо другой интеллектуальной новизны. Главным является то, что возникло новое подручное средство и новое сущностное свойство, посредством которого можно исполнять новую, ранее неизвестную функцию в социуме в целом. Причем, новое сущностное свойство сущего взывается к жизни (изобретается – в технике, обнаруживается – в науке, создается и «понимается» – в искусстве) только с той единственной целью, чтобы удовлетворить какую-либо новую материально-духовную потребность.
Так сущностное свойство мела оставлять след на доске возникло в результате назревшей потребности найти определенного рода взаимосвязь между учителем и учеником (аудиторией) посредством еще одного внове созданного объекта-сущего (мела), которое бы мобильно, то есть в режиме реального времени передавало последовательность мысленных рассуждений от учителя к ученику. Иначе говоря, это сущностное свойство мела призвано было осуществлять как коммуникативную функцию в процессе передачи информации, так и функцию более эффективного, более мобильного распространения знания.
Но не следует думать, что в идее кусочка мела участвуют всего лишь три объекта: учитель, мел, ученик. Кроме них в ней задействованы и зрительное восприятие способное видеть текст и передавать его в мозг, который в свою очередь перерабатывает его в смысл; и письменность с ее свойством запечатлевать говоренное языком или мыслимое разумом в текст, изображаемый на доске; и доска с ее свойством сохранять на своей плоскости след от мела; и тряпка с ее свойством быстро удалять этот след. Не будь всего лишь какого-либо одного из перечисленных сущих, никакое изобретение мела не понадобилось бы вовсе: оно просто не было бы возможным.
Интеллектуальная новизна может зародиться только в недрах вполне определенного комплекса между собой взаимосвязанных сущих. Недостача хотя бы одного из них не позволит ей возникнуть, поскольку комплектность сущих скорее всего является не только достаточным, но и необходимым условием возникновения новой идеи.
Более того, мы видим, что эти сущие непременным образом должны быть взаимосвязаны («зацеплены») межде собой в замкнутую цепочку посредством своих сущностных свойств: свойство письменности быть изображенной в виде знаков и «изображать» смыслы должно быть связано со свойством учителя и ученика понимать эти смыслы и видеть текст на доске; свойство кусочка мела мелкодисперсно крошиться и тем самым прилипать к доске должно быть связано со свойством плоскости доски оставлять (а не отторгать) след от мела на своей поверхности и т. д. Именно поэтому мы назвали эти сущностные свойства сущих еще и идееобразующими или метафизическими свойствами, потому что отсутствие даже одного из них (как и одного из сущих) не дает возможности соединить эти сущие в единый и замкнутый комплекс, поименованный нами идеей. Что же касается остальных свойств сущих, комплектующих идею, то, как мы покажем далее, они не должны препятствовать образованию взаимосвязей между всеми сущими.
Так что внезапное рождение идеи, влекущее за собой возникновение нового сущего вместе с его сущностным свойством (или свойствами) – это результат осуществления взаимосвязи между определенным числом сущих. Главным здесь является то, что все эти объекты взаимосвязаны с внове созданным (изобретенным, обнаруженным, сотворенным) сущностным свойством мела оставлять видимый глазом след на доске. Все остальные свойства мела – форма, вес, цвет, консистенция и т. д. – важны постольку, поскольку они не вступают в противоречие со свойствами других сущих данной идеи. Ясно, что черный цвет мела вступал бы в противоречие с черным цветом поверхности доски, письменность в китайских иероглифах была бы непонятна русскоязычной аудитории, а мел, положим, тетраэрдной формы неудобно было бы держать в руке преподавателя. То есть, вполне определенные свойства объектов-сущих должны быть «пригнаны» друг к другу. Иначе: рвется единая цепочка взаимосвязей между объектами, что не позволяет осуществить функцию, определенную смыслом самой идеи. В данном случае это функция мобильной передачи знания от преподавателя к аудитории его учеников и более эффективного, массового способа распространения знания.
Итак, выявив идееобразующую роль сущностного свойства (то есть сущности) одного из объектов идеи, мы уже можем сказать, в чем заключается так называемое «бытие» сущего. А именно: «бытие» сущего (а вернее, бытие созидателя нового объекта, а иначе, создателя самой идеи) – это создание нового сущего и наделение его тем или иным, но непременно новым сущностным свойством. (Далее, в п. 6 мы дополним данное определение некоторыми соображениями относительно возникновения самого подручного средства из тех исходных материалов, которые пошли на его «изготовление»). И этот процесс создания нового сущего и обретения им нового сущностного свойства реализуется только благодаря возникновению интеллектуальной новизны в форме объективной идеи в бессознательной части нашего интеллекта.
Причем нам следует обратить внимание на то обстоятельство, что технология создания самого сущего – обладателя сущностного свойства – выявляется нами в процессе развертывания идеи в мысль: мы обнаруживаем искомое сущее (подручное средство) пока что еще неопределенного вида, но с определенной функцией, которую оно должно выполнять. Можно сказать что новое сущностное свойство подгоняет «под себя» то потенциально возможное сущее, которое могло бы исполнить эту функцию. (В дальнейшем мы приведем пример аналога кусочка мела, который смог бы исполнять его функцию оставлять след на доске).
Маловероятно, чтобы на роль подручного средства подходил какой-либо уже существующий в действительности объект. Но маловероятно и то, чтобы образ мела как уже готового подручного средства сразу же возник в голове его изобретателя вместе с внове выявленным сущностным свойством. Скорее всего, этому предшествует этап поиска того исходного материала, который был бы способен преобразоваться в мел как подручное средство, то есть: тот известняк, из которого изготовлен кусочек мела должен был пройти определенную стадию технологической доработки – измельчение, очистка, внесение клеящих добавок, сушка, прессовка и т. д. – прежде чем стать кусочком мела.
И здесь, конечно, вспоминается Аристотель с его гениальной догадкой о том, что в основе создания любой вещи лежит комплекс из четырех причин: материальной (то, из чего изготавливается вещь: материя); формальной (тот образ, в соответствии с которым материя принимает свою форму в виде вещи); движущей (создатель, изготавливающий эту вещь); и целевой (для чего именно необходимо изготовление данной вещи). Применительно к нами рассматриваемому случаю подручного средства-мела такими причинами будут: материя – это известняк вместе с той технологией, посредством которой он преобразуется в мел; форма – это идеальный (умственный) образ развернутого из идеи искомого сущего вместе с его сущностным свойством; создатель – это автор изобретения и изготовитель данного подручного средства; цель – осуществление коммуникации между преподавателем и аудиторией его учеников.
Таким образом, на приведенном нами примере мы видим, что так называемое «бытие» сущего выражается в первую очередь в возникновении нового подручного средства способного выполнять ранее неизвестную в человеческом обиходе функцию. В данном случае это функция мобильной передачи знания. Далее, «бытие» сущего проявляется (на феноменальном уровне нашего сознания и психики) в виде:
– понимания творцом идеи как смысла последней, так и той роли, которую призвано выполнять внове обнаруженное (созданное) подручное средство;
– чувства удовольствия от понимания смысла нами раскрываемой идеи;
– удивления от новизны и внезапности проникновения идеи из бессознательного в наше сознание.
Что же касается того последствия, которое производит «бытие» сущего, то оно будет заключаться в повседневном выполнении подручным средством своей сущностной функции. То есть в нашем случае это будет функция передачи знания посредством того, что мел обладает сущностным свойством оставлять видимый глазом след-текст на доске. Иначе говоря, посредством осуществленной идеи мела производится более мобильное, более эффективное распространение знания. Оно-то и является конечной целью бытия, названной нами Продукцией.
Это мы привели пример с идеей изобретения мела. Приведем пример идеи создания (изобретения) языка как средства осуществления, положим, речевой коммуникации. Что за объекты являются сущими этой идеи, какое из них – носитель сущностного свойства и что собой представляет то сущностное свойство, посредством которого осуществляется эта коммуникация? Ясно, что на первый взгляд сущими являются и человек говорящий, и человек, воспринимающий речь, и само говорение, то есть сама речь. Но какое сущее на самом деле является носителем сущностного свойства и какого именно?
Для нас, по крайней мере, ясно следующее. Если язык – это обобщенное понятие того, посредством чего нами выражаются наши чувства и мысли: мимика, жест, речь, письмо и т. д., то тогда то, что выражается – это есть движения нашей души и наши мысли. Таким образом, носителем сущностного свойства (то есть подручным средством) является наша психика и наше мышление, в то время как самим сущностным свойством является язык, а в частности, речь. Речь – это тот же «след» – как и след от кусочка мела, – производимый говорящим и воспринимаемый слушающим. Так что сущими в идее языка являются не только названные нами выше объекты, но и мышление как принадлежность мозга, и психика как принадлежность души, и слух как орган восприятия звука и передачи его в мозг.
Вот и получается, что на заре становления человека разумного вдруг кому-то спонтанно пришедшая в голову идея осуществления коммуникации в виде речи, привела к ее созданию и развитию (говорению). Причем, мышление и речь формировались совместно друг с другом, развивая себя, а не так, чтобы сначала возникло мышление, а лишь потом – речь. Речь лишь «вторила» мышлению, развивая себя и формируя тем самым саму себя в виде последовательности звуков, и в то же время воздействуя на само мышление и открывая ему все новые и новые возможности постижения интеллектуальной новизны. Без мышления язык – это просто «детский лепет» и бред.
Таким образом, речь – это мышление, которое «говорит», то есть «овеществляет» свою функцию мышления. Она – один из способов передачи того, о чем думает наше мышление и что чувствует наша психика. И таких способов может быть множество: мимика, жест, возглас, письменность, телепатия и т. д. (см. P. S. 2).
Итак, продолжим далее выяснять, так что же все-таки «делает» сущее объектом причастным к бытию, а иначе, к возникновению его самого и его сущностного свойства, то есть того свойства, которое способно объединить вокруг себя определенное число объектов, взаимосвязать их в идею и тем самым создать совершенно незнакомое ранее ценностно-смысловое содержание, способное в свою очередь выполнять ранее неизвестную, то есть новую функцию. Приведем, помимо примера с мелом и речью, еще две идеи: идею изобретения оконного стекла и линзы. Конечно же, прозрачность объекта была «подсмотрена» и позаимствована человеком у природы (положим, прозрачность минерала). А вот создание стекла и использование его сущностного свойства прозрачности – это уже изобретение, возникшее из потребности взаимосочетания таких сущих как человек, дом, проем в стене, «создание» света в помещении, а заодно и сохранение тепла в нем. Как видим, сущностное свойство прозрачности такого подручного средства как оконное стекло, благодаря данной идее, выполнило затребованную самой жизнью функцию освещения пространства внутри замкнутого помещения.
Точно так же «подсмотренное» в природе свойство прозрачного выпуклого объекта увеличивать предметы привело к созданию (изобретению) линзы как объекта, обладающего сущностным свойством выпуклости, обеспечивающим фокусировку потока света. И это сущностное свойство линзы оказалось необходимым элементом в идеях микроскопа, телескопа, очков и т. д. То есть, опять же только во взаимосвязи человека и тех объектов микро и-макромира, которые необходимо было рассматривать, к жизни было вызвано (изобретено) такое сущностное свойство прозрачного стекла как выпуклость, обеспечивающую функцию фокусировки потока света.
Запомним: сущностное свойство какого-либо внове создаваемого сущего взывается к жизни (изобретается, обнаруживается, создается, «понимается») с той единственной целью, чтобы выполнить какую-либо важную сущностную функцию производства какой-либо необходимой Продукции, будь то Продукция расширения сферы познания, создания «света» в помещении, урегулирования взаимоотношений в обществе (идея нравственности, см. далее).
Вот здесь нам необходимо обратить внимание на следующий момент. Выше мы уже рассмотрели два сущностных свойства стекла: свойство прозрачности, используемое в идее окна и свойство выпуклости (изогнутости), используемое, положим, в идее микроскопа. Причем оба эти свойства выполняют совершенно разные сущностные функции: беспрепятственное пропускание света в первом случае и фокусировка потока света – во втором. В связи с этим можно сказать, что наиболее важным в структуре идеи, может быть не столько сам объект-сущее, обладающий тем или иным свойством, сколько само сущностное свойство объекта, то есть свойство, выполняющее вполне определенную функцию взаимосочетания и взаимосвязи всех объектов идеи.
Объект-сущее всего лишь носитель сущностного свойства, а таких носителей может быть множество. Так сущностное свойство выпуклости прозрачного объекта может выполнять свою сущностную функцию фокусировки потока света (частиц) не только в приборах, использующих стеклянные линзы в нашем обычном представлении (увеличительная или «зажигательная» лупа, очки, микроскоп, телескоп), но и в приборах, использующих совсем иной способ фокусировки: прожектор как линза «наоборот», которая не пропускает свет, а отражает его; электронные и ионные микроскопы, использующие магнитные линзы; ускорители заряженных частиц и т. д.
И если мы вернемся к идее мела, то можно предположить, что сущностное свойство мела оставлять след-текст на доске могла бы выполнить, положим, лазерная указка, обладающая тем же сущностным свойством оставлять след, запечатлеваемый на некоторое время на другом предмете (доске, экране).
Так что выявить сущностное свойство, а вместе с ним и подручное средство, которое бы выполняло необходимую функцию – вот основная задача творца внове создаваемой интеллектуальной новизны. Разрешение этой задачи, в процессе которого он понимает смысл идеи и испытывает удивление-удовольствие от понимания – это и есть бытие творца. И никакого другого бытия нет и быть не может. То есть не может быть никакого бытия у сущего (вещи, предмета, объекта и т. д.). Бытие есть только у одного сущего – продуктивно мыслящего человека. Все остальное сущее пребывает в существовании. (О бытии Природы и социума речь у нас пойдет в Части 111.
Как видим из этих примеров, сущностное свойство какого-либо из объектов идеи должно выполнять
– как внутреннюю идееобразующую интеллектуальную задачу создания взаимосвязи между всеми объектами «внутри» внове создаваемой идеи,
– так и внешнюю прагматическую функцию создания и претворения в жизнь того ценностно-смыслового содержания идеи, которое в нем (в содержании) заложено.
Так что какое-либо сущее само по себе (то есть вне идеи) ни смысла, ни ценности не представляет, как их не представляет кусочек известняка, силиконовый окисел (песок) или буквы письменности сами по себе. Но эта ценность и ее смысл возникают только во взаимосочетании определенного числа объектов и их взаимосвязи, обеспечиваемой каким-либо сущностным, идееобразующим свойством одного из объектов идеи, а именно, сущностью искомого сущего.
Это мы привели примеры идей из области научно-технической. Попытаемся привести хотя бы несколько примеров из духовной сферы. Хотя здесь может быть не всегда так просто будет выделить само сущностное свойство объекта-сущего и разобраться в той функции, которую оно призвано выполнять. Возьмем, положим, идею прекрасного (красоты), составляющими элементами которой будут такие сущие как человек-художник, создающий произведение искусства, человек-созерцатель, воспринимающий это произведение, и само произведение вместе с его смыслом (идеей). (См. Р. S. 3). Спрашивается, какое сущностное свойство произведения искусства, – а именно последнее оказывается его носителем – является определяющим как в создании идеи прекрасного, так и самого произведения искусства. Конечно же, таким отличительным свойством будет сама обладающая свойством новизны идея произведения искусства, которая вкладывается художником в произведение и воспринимается созерцателем произведения в форме чувства наслаждения. (Наслаждение от «понимания» смысла идеи – это и есть то, восприятие чего названо нами прекрасным). Здесь мы видим полную аналогию с идеей кусочка мела (произведение), который «создается» изобретателем (художник), и след-текст (идея) от которого воспринимается, положим, аудиторией студентов (созерцатель).