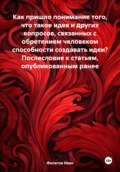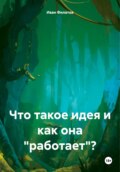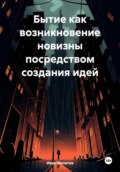Иван Андреянович Филатов
Метафизика возникновения новизны
Другой взгляд на интуицию
Я готов с уверенностью утверждать, что то, что мы называем инсайтом. является не чем иным как «схватыванием» (созданием, обнаружением) идеи, содержащей в себе весь необходимый комплекс объектов и взаимосвязей, обеспечивающих как ценностно-смысловое содержание самой идеи, так и ее новизну. Именно отсюда и наше удивление, и эйфорическое состояние нашей психики, и наша уверенность в истинности идеи в процессе развертывания и оформления ее в мысль.
Но я не вполне уверен в том, что то же самое можно сказать и об интуиции. Представляется, что, если инсайт – это обнаружение или создание всего комплекса взаимосвязей некоторого числа объектов, то интуиция – это «схватывание» взаимосвязей между всего лишь двумя-тремя объектами из числа всех тех объектов, посредством которых наш интеллект способен образовать полноценную идею. И об этом свидетельствует и первоначальная смутность наших интуиций по сравнению с той четкостью, которая свойственна нашим инсайтам (озарениям), и меньшая «сила» удивления, и большая незаметность как самой интуиции, так и того интеллектуального чувства удовольствия, которое сопровождает ее явление в наше сознание.
Так что вполне возможно, что остается в силе наша модель иррационального мышления, – изложенная нами ранее в Разделе 1.4. «Инсайт, интуиция, логика» – согласно которой, если в акте инсайта мы попадаем в самый «центр» мысли, то при интуиции мы оказываемся всего лишь на подступах к этому «центру», то есть оказываемся в одной из мозаичных областей этой мысли, изнутри которой «схватываем» какую-либо взаимосвязь с соседней областью этой же мысли. Поэтому можно сказать, что в актах интуиции мы создаем (обнаруживаем) сначала отдельные блоки-связи целостной идеи-мысли, и только потом, в акте инсайта, соединяем их в единый ансамбль-идею. Другими словами, можно сказать, что, если в акте инсайта идея нам видится сразу и в целостном виде, то в актах интуиции мы сначала производим (обнаруживаем) отдельные «сборки» этой идеи и только потом, после того как мы усмотрим, из каких «сборок» состоит вся идея-мысль, мы уже можем собрать ее в целостном виде.
Вопрос только в том, посредством ли логики или посредством все той же интуиции (инсайта) мы собираем нашу идею из прежде полученных блоков-интуиций.
Глава 6. Бытие как возникновение интеллектуальной новизны и нового сущего
В этой достаточно объемной главе речь, в первую очередь, пойдет о бытии и его связи с интеллектуальным чувством удовольствия-удивления. Кроме того мы рассмотрим в деталях методологию возникновения новизны посредством генерирования все новых и новых идей.
6. 1. «Где … прячется бытие?» (Хайдеггер)
В данном разделе мы сначала (см. далее п. 1) займемся обоснованием необходимости постановки самого вопроса в форме: где прячется бытие? Далее (п. 2), изложим те факторы, которые способствуют тому, чтобы у нас сложилось впечатление не столько запрятанности бытия, сколько завуалированности самих форм его выражения и проявления. При этом, для того чтобы в более наглядном виде понять, что такое бытие, нам надо будет привести несколько примеров, характеризующих процесс бытия, хотя и в несколько утрированном образном виде. Затем (п. З), учитывая тесную взаимосвязь бытия и с сущим, и с Истиной, и с мышлением, и с идеей, мы постараемся отграничить это понятие от остальных метафизических понятий. (Заметим кстати: часть этой работы в более подробном виде мы проделаем в Разделе 7.1. «Размежевание бытия и Истины»). В этом же пункте нам придется снова обратить внимание на тот принципиально важный момент, что бытие необходимым образом должно быть соотнесено не с явлением (или существованием) отдельного, единичного сущего, а с возникновением комплекса между собою взаимосвязанных сущих, комплекса, именуемого иррациональной (объективной) идеей. И это уже, можно сказать, проходит «красной нитью» через все разделы данной части книги.
Далее (п. 4), мы займемся выяснением того, что же все-таки скрывается за достаточно употребительным в философской литературе словосочетанием «бытие сущего», – «бытие» сущего: в таком написании оно будет фигурировать в дальнейшем – то есть нам надо будет определиться с тем, в какой форме выражается «бытие» сущего, в чем оно проявляется и что является его следствием. Для этого, исходя из анализа одного из текстов Хайдеггера, мы сначала постараемся обосновать введение нового понятия – оно у нас уже фигурировало ранее, – а именно, понятие сущностного (метафизического) свойства сущего, а проще говоря, сущности сущего. Затем, позаимствовав у Хайдеггера термин «подручное средство», поделимся «секретом» той универсальной методологии, посредством которой образуется само подручное средство. И в заключение данного пункта на вполне конкретных примерах идей из самых разных сфер знания – технической, научной, эстетической, философской и т. д. – продемонстрируем функционально-определяющую роль сущностного свойства не только в формировании объективной идеи, но и в реализации той жизненно важной функции, которую оно призвано выполнять в соответствии с тем смыслом, что заложен в самой идее-Истине.
Затем (п. 5), самой логикой наших рассуждений нам бы следовало сразу же перейти к выяснению того, что собой представляет бытие само по себе. Ведь мы уже (п. 4) определили, что означает «бытие» сущего. Но не будем спешить. А потому, продолжим наш разговор о том, что означает выражение «бытие» сущего, к чему оно относится, и в чем оно заключается. Но при этом особое внимание обратим, во-первых, на то, каким образом обновляются те сущие, которые (напрямую) не являются носителями сущностного свойства – речь идет об исходных сущих, – а во-вторых, на то, какую роль выполняют обычные свойства сущих в формировании идеи и в чем именно выражается обновление этих сущих. И только после этого мы займемся определением бытия самого по себе. Хотя надо сказать, что в Разделе «Двойная рефлексия …» мы уже провели ту основную работу, которая бы позволила нам лучше понять, что такое бытие само по себе.
После того как нами на многочисленных примерах будет продемонстрирована общая схема возникновения сущего как подручного средства (п. п. 4, 5), попытаемся разобраться в том, есть ли соответствие между тем, что нами предложено, и тем, что вытекает из метафизики Аристотеля. Это, во-первых. А во-вторых, постараемся все же понять, в чем различие в процессах получения вещи (Аристотель) и подручного средства как объекта-сущего (п. 6).
И наконец, вслед за сопоставлением с Аристотелем, нам необходимо будет дать различие в понимании Истины как внове сотворенной мысленной конструкции – как мы уже условились ранее, это слово у нас будет с большой буквы – и истины как соответствия (или достоверности) нашего представления тому, что имеется в действительности, а точнее, той сущности, которая свойственна какому-либо объекту-сущему. А заодно нелишним будет дать различие между объективной идеей и сложившемся в философии пониманием идеи как представления о каком-либо объекте материальной или духовной действительности (п. 7).
п.1. Постановка вопроса
Начнем с того, что вопрос, поставленный в заглавии в данной форме, предполагает, что мы знаем, что такое бытие, то есть знаем то, что прячется, но не знаем только того, где оно находится. Но на самом деле мы не знаем самого главного: мало того что мы плохо себе представляем, что такое бытие, мы к тому же совсем не знаем, что именно подвергается воздействию бытия, то есть, что является тем объектом, на который бытие воздействует и что получается в результате подобного воздействия. Но мы не знаем также и того, что является тем «объектом», который вызывает бытие. Вот только так, «приперев» бытие и «спереди» и «сзади», мы могли бы уже более пристальным взлядом всмотреться в него и узнать о нем нечто для нас новое, исходя хотя бы из причинно-следственных его отношений, если последние все же соотносимы с ним. Ведь не может же быть того, чтобы само бытие было неким изолированным объектом, существующим само по себе; объектом, возникшим неизвестно откуда и не оказывающим какого-либо воздействия на то, что с ним или непосредственно взаимосвязано, или находится под его «юрисдикцией».
Да, действительно, со времен Гераклита мы знаем, что бытие – это возникновение чего-то совершенно нового и неизменного, но мы не знаем достаточно определенно ни того, в какой форме выражена эта новизна, ни того, каким трансформациям она подвергается, чтобы быть «узнанной» нашим сознанием. Может быть, если бы мы знали не только то, что такое бытие само по себе, но и то, что именно является «объектом» бытия, а также знали, где оно (бытие) осуществляется и что именно его вызывает, то у нас не было бы необходимости задаваться хайдеггеровским вопросом: «Где … прячется бытие?». (См. далее п. 4). Естественно ведь, не зная даже только того, что именно прячется, мы не можем и догадываться, где оно может быть запрятано и где бы его следовало искать. Оброненную нами иголку мы ищем на полу, спрятавшегося от нас ребенка – за деревом или за углом соседнего дома, а неизвестно где оставленные очки ищем либо на столе, либо на кончике собственного носа. Так что знание объекта поиска сильно сужает область, где следует искать этот запрятанный объект.
Вот почему правильнее было бы сначала ставить вопрос не в виде, где прячется бытие, а в форме:
– во-первых, что такое бытие само по себе, а что такое «бытие» сущего и в чем их различие;
– во-вторых, что является предметом бытия, то есть, какой объект возникает в процессе (акте) бытия;
– и, в-третьих, под воздействием чего проявляется то, что мы называем бытием, то есть, в чем истоки самого бытия?
Далее перед нами встает вопрос, в какой форме, откуда и как возникает этот самый предмет бытия, и какие трансформации в дальнейшем этот «объект» претерпевает. И только после разрешения вышеозначенных вопросов мы могли бы уже задаться вопросом – и с большей эффективностью его разрешить, – какие факторы способствуют тому, что бытие как реальное духовно-душевно-телесное событие нашего организма (и не только нашего, но и «организма» социума, Природы и т. д.), вполне ощутимое как на интеллектуальном уровне, так и на уровне психосоматическом, как правило, ускользает от того, чтобы сознание заметило его, определило его структуру и проследило динамику его возникновения и последующего трансформирования.
Вышеозначенное в совокупности есть главный вопрос (предмет) всей метафизики. Ответ на него позволяет нам:
– определить в первую очередь, какие объекты «взращиваются» в процессе бытия и в какой последовательности;
– разобраться в том, что такое Истина и что такое сущее, а главное, отграничить последнее (указать его «место») как от самого бытия, так и от Истины;
– понять, какой объект осуществляет, а заодно и претерпевает бытие, то есть определить – и это уже вопрос, наводящий на ответ, – какая функция нашего организма создает интеллектуальную новизну и реагирует (отвечает) на нее, а какая ее воспринимает и проявляет;
– проследить динамику возникновения Истины и ту роль, которую при этом играет заложенное в нас природой чувство красоты, то есть, интеллектуальное чувство наслаждения;
– составить себе хотя бы общее представление о том, откуда возникает сама основа духовно-материальной жизни в форме много и-разнообразия нашего, человеческого существования.
п. 2. Примеры аналогий процесса бытия
Как мы уже теперь понимаем, бытие – это не пребывание известного нам объекта-сущего в пространстве-времени или в умственном представлении нашего сознания. Бытие – это возникновение в нашем сознательно-бессознательном творческом воображении-представлении того, чего ранее еще не было в чьем-либо умственном кругозоре. Все неурядицы метафизики именно в том и заключены, что сущее, будь оно материальным или идеальным, «зримо» умом, в то время как самого возникновения интеллектуальной новизны (то есть идеи, заключающей в себе в скрытом виде сущее), мы не «видим».
При явлении идеи мы «видим» не то, что было в ней, а то, что уже стало результатом ее возникновения, то есть, «видим» мысль и «видим» сущее (искомое сущее), из мысли проявленное. Но самого явления, вследствие его не только мгновенности, но и допонятийности характера содержимого идеи, мы не «видим», то есть не осознаем не только самого акта явления, но и того, что же все-таки является в этом акте в самый начальный момент возникновения.
Сознание как бы всегда запаздывает к самому главному моменту, моменту возникновения интеллектуальной новизны. Оно всегда «перешагивает» через него, поскольку никогда не бывает к нему готово. И это принципиальная черта бытия. Будь оно (сознание) к нему готово и ожидай оно его явления, акт осознания бытия был бы первичным актом, чего не может быть в принципе, поскольку первично бытие. Сознание никогда не знает, «где» и когда нам явится интеллектуальная новизна. Точно так же мы видим внезапно явившийся из кромешной тьмы объект, но мы не видим самого процесса явления и именно потому не видим, что, если уже явившийся объект мы можем созерцать нашим сознанием в течение достаточно длительного времени, то сам акт (или процесс) явления интеллектуальной новизны настолько краток, – а потому и не заметен, – что у сознания нет времени на нем остановиться и его зафиксировать в каких-либо образах или знаках. Сознание в первую очередь вынуждено бывает сосредоточиться на том, чтобы раскрыть и как можно быстрее зафиксировать (чтобы не забыть) только что раскрытое нами, и у него нет времени на то, чтобы разбираться в том, что именно предшествовало процессу раскрытия идеи. Потому что, пытаясь понять самый изначальный момент явления идеи, то есть нового для нас смысла, мы забываем сам смысл, иначе говоря, упускаем саму суть того, что нам явилось. (Другими словами: пытаясь понять, как нечто новое нам явилось, мы забываем, что именно явилось).
Все дело здесь в том, что в отличие от зрения сознание «видит» только тогда, когда оно поименовывает объекты и когда взаимосвязывает их в какие-либо структурные единицы (мысль, суждение, сравнение и т. д.), в том числе и структурные единицы с недостающим звеном (объектом), о присутствии которого оно догадывается. (Так в современной физике элементарных частиц сознание теоретиков «догадывается» о наличии бозона Хиггса как недостающего элемента Стандартной теории поля). Но сознание не приспособлено к тому, чтобы сразу же назвать нечто для него новое. Ему на это нужно время для того чтобы адаптировать эту новизну к тому, что ему уже известно и выразить через это известное. Для него должна быть подготовлена «ниша», куда бы оно могло вместиться.
И такой «нишей» может быть только адекватность внове возникшего тому, что уже существует, то есть оно должно быть естественным образом «вписано» в это существующее и взаимосвязано с ним. Но мало того что сознанию не дано времени остановиться на акте бытия, оно к тому же, скорее всего, не обладает теми средствами, которые могли бы разглядеть, что именно является содержимым интеллектуальной новизны в это самое первое – допонятийное – мгновение ее возникновения. Таким образом, сознание не способно в мгновение ока зафиксировать и расшифровать новый объект (идею), внезапно явившийся и сразу же исчезнувший. Так зрение не успевает разглядеть и каким-либо образом охарактеризовать внезапно мелькнувший объект. Новизна в своем чистом виде – существо искрометное. И недаром Ален в своих «Суждениях» дал ей такое определение:
«Новизна – это то, что в этом мире устаревает быстрее всего»23.
В связи с этим следовало бы припомнить слова Ницше о способности видеть то, что еще никем не поименовано. Так в «Веселой науке» (§261) он пишет:
«Что такое оригинальность? Видеть нечто такое, что не носит еще никакого имени, и не может быть названо, хотя и лежит на виду у всех. Как это водится у людей, только название вещи делает ее вообще зримою. – Оригиналы, большей частью, были и нарекателями»24.
Вот это видение того, «что не носит еще никакого имени и не может быть названо» как раз и есть видение возникновения интеллектуальной новизны (идеи). Это и есть, если можно так сказать, узрение бытия в своем «чистом» виде, то есть от момента явления идеи до того момента, когда наша рефлексия начинает разворачивать ее в мысль. (Или пытается это сделать в случае созерцания произведения искусства). И только с подключением рефлексии-II (см. Рис. I Раздела 5.4 ««Двойная рефлексия» …») начинается процесс наименования тех объектов-сущих, которые являются составными частями самой мысли, теми частями, которыми оперирует мышление в рамках данной конкретной мысли. В идее эти объекты были в свернутом виде, – в виде «сгустка» смысла – в мысли они нами уже развернуты, а потому и стали «зримы» сознанием, поскольку поименованы знакомыми ему (сознанию) словами, знаками, символами, позаимствованными из него же самого.
Учитывая изложенное выше, нам нужно понять самое главное: прячется и в буквальном смысле запутывает и заметает следы сама наглядность процесса производства чего-то весьма ново-ценного и прямо-таки таинственного. А как известно, наглядность формируется осознаванием всего хода процесса. Но мы, как оказалось, не в состоянии одномоментно охватить умственным взором всю картину процесса возникновения и трансформирования интеллектуальной новизны, поскольку она сама (картина) и основные ее фрагменты подобны протею: мало того что они ускользают от нашего сознания, но и постоянно меняют свои формы: идея как нечто неопределенное, но вполне ощутимое, – явившееся к тому же из мрака небытия, – сначала попадает в «руки» рефлексии-II; рефлексия-II, разворачивая ее (идею), препровождает в Истину, а Истина может быть разложена нами на объекты-сущие, которые, в свою очередь, со временем теряют свою новизну и исчезают во тьме небытия, то есть, выпадают из поля зрения нашего сознания. Это во-первых. А во-вторых, прячется и утаивается именно то,
– что производится,
– как производится,
– в каких формах,
– и для каких целей.
Так на предприятии по изготовлению совершенно нового вида вооружения засекречено не только само производство в целом, но и то, что производится, по какой технологии, в каких формах оно выпускается и для каких конкретных целей предназначено. По сути дела точно так же от нас самих «засекречено» наше собственное «производство» бытия, Истины и внове образуемого сущего.
А теперь попытаемся на более доступном уровне пояснить, что такое бытие и как оно осуществляется. Как нам уже известно, бытие – это процесс. А у каждого процесса есть как минимум четыре стороны:
– движущая сила, которая его осуществляет;
– агрегат или аппарат, в пределах которого этот процесс происходит;
– исходные продукты, закладываемые в него;
– и тот продукт на выходе, ради которого этот процесс задуман.
Для наглядности привлечем, что называется «ломовой» образ бетономешалки:
– движущей силой является, положим, электроэнергия электродвигателя, вращающего аппарат;
– устройство, в котором происходит процесс перемешивания, это сам барабан для размещения и смешивания компонентов;
– исходные продукты для смеси: цемент, песок, вода и т. д.;
– продукт на выходе – готовый для укладки бетон.
Представив все это, переходим к процессу бытия, то есть к процессу генерирования нового интеллектуального смысла:
– движущей силой бытия является творческий процесс воображения-представления, в ходе которого, в конечном счете, осуществляется манипулирование тем знанием, которым мы обладаем как на сознательном, так и на бессознательном уровне, в том числе и на том уровне, который мы называем душевным;
– «аппарат», в котором все это осуществляется, это наш мозг и наша душа, то есть тот комплекс спонтанных чувств (заинтересованность, увлеченность, удовольствие, удивление и т. д.), без которого возникновение нового смысла невозможно;
– исходным продуктом являются те познания, которые некогда нами были приобретены, а также те навыки, которыми мы овладели и те способности, что достались нам в наследство в качестве природного дарования;
– и тем объектом, ради которого осуществляется процесс бытия, является новый, никому ранее неизвестный интеллектуальный смысл, обладающий ценностным содержанием в качестве не только объекта внедрения в жизнь все новых и новых духовно-материальных практик, но и объекта приумножения сущностного много и-разнообразия мира, на основе которого возможно создание все новых и новых интеллектуальных смыслов.
Что же касается «исходных продуктов», то нам неизвестно, что именно будет выбрано и пойдет в «дело» из того, что когда-то было воспринято нашим интеллектом и нашими чувствами. А главное, мы не знаем, как это знание комплектуется и между собой связывается в совершенно ранее незнакомую нам оригинальную идею, идею, обладающую притом и смыслом и ценностью для нашего дальнейшего общежития. Откуда наш интеллект, интеллект данного индивида знает, что ему и сообществу, в котором он живет, необходимы какие-то идеи, обладающие всегда то ли материальной, то ли духовной, но всегда практической ценностью. Откуда – прежде чем эта идея у него возникнет и прежде чем ее выдать – он «знает», что ему будет полезна, положим, идея электромагнетизма или идея справедливости. Ведь он еще не имеет никакого представления ни об этих идеях, ни об их ценностном содержании. Создается порою такое впечатление, что человека что-то ведет, не спрашивая его согласия и не объясняя, куда ведет. (Об этом подробнее в Разделе 6.15. «События-1, 11, 111 как, соответственно…» и в Главах 11 и 12 Части 111).
В связи с чем нам необходимо несколько остановиться на вопросе нашего существования и нашего же бытия. Получается что последнее идет своим ходом и если опосредовано временем нашего существования, то весьма отдаленным образом. Почему, спрашивается? Чтобы увидеть эту «отдаленность», необходимо совершить небольшой экскурс в нашу географию и понять одну простую вещь: как Волга не была бы Волгой без того великого множества притоков, которые ее питают все новыми и новыми водами, так и наше существование не было бы таким насыщенным и емким, не будь постоянного притока интеллектуально-бытийственной новизны, питающей наше существование. Но дело-то в том, что исчезни с лица Земли сама Волга, не исчезнут ни болота Валдайской возвышенности, в которых она берет свое начало, ни все те притоки (и притоки этих притоков), которыми она питается. Точно так же, исчезни наше существование, не исчезнет само бытие, потому что помимо нашего интеллектуального бытия в нас говорит бытие самой Природы, и говорит оно самым, казалось бы, незаметным образом (см. Раздел 6.16. «Сказывается ли бытие природы на бытии человека»). Оно (бытие) найдет формы своего осуществления, как найдут «свою» Волгу все те источники, которые ранее ее питали, но вдруг перестали бы это делать, если бы ее русло, положим, вдруг поднялось уровнем выше уровня притоков и истоков, некогда ее питавших. Жизнь не остановится, не изменит себе, она просто найдет другие формы своего осуществления: с человеком или без – ей безразлично. Если без него, то тем хуже для человека, а не для жизни: существование человека, не сопровождаемое нашим же интеллектуальным бытием, просто-напросто поглотится бытием и существованием Природы, как города и поселения Южной Америки были поглощены тропическими джунглями.
Наше бытие – это постоянная борьба за наше существование, как и бытие природы – это нескончаемая борьба за собственное существование, проявляемое возникновением бесчисленных вариаций живой материи, одним из видов которой стало существо, обладающее разумом и способное осмыслить как собственное бытие, так и бытие создавшей его Природы. Так что время нашего бытия совсем не то же самое что время нашего существования: оно состоит из мгновений возникновения интеллектуальной новизны, озаряющих как наше сознание, так и тот путь, в русле которого протекает наше существование.
Но если наше существование вдруг окажется погибельным для нас самих, то оно будет погибельным в первую очередь для нашего бытия. В том и состоит обратное воздействие нашего существования на наше бытие. Существование, не востребованное бытием, уничтожает и само себя и само бытие. Именно поэтому мы можем с полным основанием сказать: наше бытие нашло свой смысл в нашем существовании, как притоки Волги нашли «свой смысл» в полноводном течении этой реки. Бытие подпитывает наше существование, наполняя его теми животворными смыслами, без притока которых оно бы застопорилось и заглохло. Существование без них – это уже животное существование. И если смысл нашего бытия состоит в том, что оно питает наше существование, то мы бы могли сказать, что наше бытие – это оплачивание – нами же самими – счетов нашего будущего разумного существования.
Правда, не совсем понятно, кто же все-таки кредитует столь щедрой рукой такой оригинальный, но не такой уж, как оказалось в последнее время, благодарный – со стороны человека – проект под названием «жизнь человека разумного»? Иссякнет наше бытие – и мы окажемся банкротами, результатом чего станет исчезновение нашего разумного существования. (Ну а что бывает, когда нас покидает мудрость, нам известно не понаслышке). Этим и опасно забвение бытия. Но опасно не то забвение, которое забыло, что такое бытие, а то, которое «забыло» бы его продуцировать, а хуже – утратило бы саму способность воспроизводить новые смыслы. Хотя надо сказать, что последнее «забвение», скорее всего, имеет свое начало в первом забвении и вполне может оказаться трагедийным его результатом для человечества. Об этом, кстати сказать, и печется мысль Хайдеггера.
Итак, мы привели достаточно простые для понимания образы процесса бытия, образы к тому же облегчающие нам понимание других метафизических понятий. И пусть не покажется странным то обстоятельство, что, когда мы, хотя и с большим трудом, но все же несколько продвинулись в понимании вопроса, что такое бытие, мы уже с уверенностью говорим о возможности достаточно легкого усвоения других метафизических вопросов. Но на самом деле ничего странного в этом нет, потому что постижение чего-то для нас совершенно нового непременным образом бросает яркий отблеск не только на то, что мы только что узнали, но и на то, что было у нас позади, но чего мы, как оказалось, ранее не совсем понимали, хотя и были уверены в том, что понимаем достаточно хорошо. Так молния не только высвечивает ярким блеском неизвестный нам ранее и удаленный от нас ландшафт, но и освещает новым светом то, что находится в непосредственной от нас близости. Поэтому мы вправе сказать, что нечто нами внове усвоенное не только увеличивает количество нами познанного, но и повышает качество познания того, что было нам ранее известно; иначе говоря, делает его не только более доступным нашему пониманию, но и высвечивает в нем нечто ранее нам неизвестное. Вот почему новый взгляд на что-либо всегда является фактором, облегчающим и расширяющим наше познание. Если этого не происходит, то, скорее всего, пытаясь создать нечто новое, мы двигались в не совсем верном направлении.
п. 3. Отграничение понятия бытия от понятий сущего, истины, мышления, идеи
А теперь мы подходим к изложению, во-первых, вопроса понимания бытия через сущее, через мышление и через идею, во-вторых, вопроса разделения бытия и сущего. Но сначала несколько слов о корректности постановки самого вопроса разделения. Сразу же заметим: сама постановка вопроса разделения бытия и сущего, скорее всего, свидетельствует о том, насколько же смутно наше представление как о том, так и о другом, что даже у Хайдеггера возникла необходимость разделения столь различных понятий. Это, во-первых. А во-вторых, возникает некоторое сомнение в корректности постановки самого вопроса разделения. Поясним, почему. Разделение предполагает сходственность разделяемых объектов по каким-либо параметрам. И только на основе этой сходственности можно разделять или сравнивать объекты.
Но бытие и сущее невозможно сравнивать, поскольку они принадлежат к совершенно разным категориям. Нельзя сравнивать какой-либо процесс с теми объектами, которые в нем участвуют или являются его продуктами. Как нельзя сравнивать процесс строительства дома с тем бульдозером, который роет яму для его фундамента или с той квартирой, в которой поселится житель. Поэтому более обоснованным было бы сначала ставить вопрос не разделения бытия и сущего, а фундаментального определения как того, так и другого. Только определившись, что они, каждый в отдельности, собой представляют, можно понять, что их разделяет, а что соединяет.
Итак, откуда в европейской метафизике могло появиться понимание бытия через такие разнородные понятия как сущее, мышление и идею?
Во-первых, рассматривая процесс становления сущего (а в нашем случае процесс наделения сущего новыми свойствами-взаимосвязями наряду с другими сущими, находящимися в непосредственном контакте в контуре данной идеи), мы обосновываем бытие из сущего. Да к тому же, поскольку бытие само по себе неуловимо в своей сути, но отблеск его все же падает зримым образом на объекты-сущие причастные к данному акту бытия, то внимание нашего сознания в первую очередь «соскальзывает» на видимое нашим умственным взором сущее, «забывая» акт возникновения самой новизны (идеи) и упуская из виду процесс развертывания ее в мысль. Отсюда и возникает ложное понятие «бытия» сущего. В то время как сущее (вещь) вне комплекса взаимосвязанных с ним других сущих, то есть вне комплекса какой-либо идеи, не может обладать бытием – это объект существующий.
Так что понятие «бытия» сущего мы – условно – можем допустить, но относиться оно будет только к тому внове возникающему сущему, которое является одним из фигурантов проникшей в наше сознание идеи. Почему «условно»? Да потому что бытие как возникновение новизны осуществляется в интеллекте человека. Значит «обладателем» бытия является единственное сущее – человек. Остальные же сущие (объекты, предметы, вещи и т. д.) всего лишь причастны к бытию. Они в нем, в процессе бытия, всего лишь пассивные участники, привлеченные продуктивно мыслящим человеком. Не они сами по себе создают новизну, новизну создает человек в процессе интеллектуального манипулирования этими сущими. Так что никакого бытия у существующего или даже возникающего сущего: предмета, вещи, объекта – нет и быть не может. Это величайшее заблуждение, проникшее в метафизику со времен Аристотеля и просуществовавшее в ней вплоть до времен Хайдеггера.