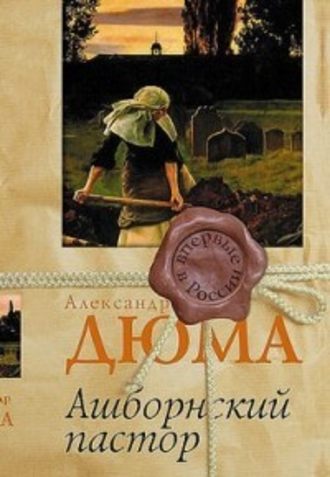
Александр Дюма
Ашборнский пастор
– Согласен! Согласен! Вижу, вы знаете свое дело и если бы вы, по примеру вашего предшественника, пожелали написать мне полсотни писем, это стало бы для меня вторым «Ашборнским пастором».
– Да, для того чтобы вы отложили их, как это сделал доктор Петрус: «Прочесть, когда у меня будет время!»
– О, будьте спокойны, я не сыграю с вами такой шутки – прожить сто лет без одной недели!
– Гм! Так вы настроились умереть от скоротечной чахотки!
– Итак, поскольку мы обо всем договорились, дайте мне ваш перевод Грея.
– Дам, но лишь при одном условии: вы прочтете его только на кладбище и только когда стемнеет.
– Согласен.
Я взял перевод, положил его в карман, встал, поцеловал руку г-же Ренье, обнял детей и вышел.
V. Сельское кладбище
Как только я оказался за деревней Ашборн, мне вспомнились эти строки из рукописи:
«Нужно ли напоминать Вам, дорогой мой Петрус, что мне тогда едва исполнилось двадцать пять, а Дженни – девятнадцать?
Мы прошли по жизни еще меньше, чем природа продвинулась по временам года: природа пребывала в июне, в то время как Дженни была еще в апреле, а я – в мае!»
Ныне же ни природа, ни я отнюдь не находились в том же положении, что и достойный пастор Бемрод; в природе стоял сентябрь, а мне было сорок шесть; и она и я находились уже на том западном склоне бытия, который ведет природу к зиме, а человека – к могиле.
Ну что же, благодаря счастливой дарованной мне Небом натуре, никогда не позволяющей даже несчастью сделать меня несчастным, я, несмотря на свои годы, неся в сердце юность, шагал по той дороге, по которой сто лет тому назад следовал славный г-н Бемрод.
У меня не было никакой Дженни, которая ждала бы меня в белом домике у окна, тогда полуоткрытого, а теперь затворенного, но со мной была поэзия, эта вечная любовница, сладострастно проводившая своей рукой и по сединам Гомера, и по черным кудрям Байрона.
О чем же размышлял я дорогой?
О том, что в моих странствиях часто занимало мой ум: думают ли они обо мне мои друзья, те, с кем я расстался неделю тому назад, и если думают, то могут ли они вообразить себе, что я делаю в эту самую минуту?
Им и в голову не могло бы прийти то, что я сейчас делаю, на большой дороге я гнался за двойным призраком, исчезнувшим около пятидесяти лет тому назад – за ускользающей тенью Уильяма Бемрода и Дженни.
Ей-Богу, не пристало торопиться тому, кто хочет следовать за тенью Молодости и Любви!
По мере того как я продвигался все дальше, старый домик доктора Смита представал передо мной помолодевшим и изменившим свой облик благодаря серой побелке и зеленой окраске ставен.
Старый плющ еще больше разросся, но, похоже, он обладал исключительным правом расти не старея.
Там обосновалась стая беспечных воробьев, и они чирикали наперебой, вероятно пересказывая друг другу на своем языке события дня.
Когда я приближался к дому, то самое окно, некогда так привлекавшее взоры пастора Бемрода, открылось, и я увидел у подоконника молодую мать лет двадцати шести – двадцати восьми, которая в это мгновение подбрасывала на руках своего годовалого ребенка.
Я остановился, пытаясь проникнуть взглядом в глубь комнаты.
Вместо набивного кретона, облюбованного Дженни, стены покрывали полосатые бумажные обои; кровать девственницы с белыми занавесями уступила место широкому ложу с балдахином, с высоты которого ниспадали занавеси из хлопчатобумажной ткани.
Можно сказать, что комната сделала решительный шаг в своей жизни, и от девственности перешла к материнству.
Молодая мать, увидев незнакомца, приподнимающегося на цыпочках, чтобы заглянуть в то святилище английского дома, которое зовется спальней, живо захлопнула створки окна, тем самым запретив мне разглядывать ее святая святых.
Она была бы весьма удивлена, если бы я сказал ей, что ищу я вовсе не ее, а воспоминание о прекрасной девушке, жившей в этой комнате примерно за сто лет до нее.
Я обошел дом.
Решетчатая ограда, о которой говорил пастор Бемрод, исчезла.
Какой-то из владельцев дома сделал то же, что сейчас сделала молодая мать: устав видеть взгляды прохожих, проникавшие в его жилье, он, наверное, продал решетчатую ограду и на вырученные за нее деньги построил стену.
Справа от дома я обнаружил проулочек; если я ориентировался правильно, он должен был привести меня к калитке сада.
И я не ошибся: пройдя шагов сто, я обнаружил ту калитку, через которую выходили на прогулку в луга двое красивых и радостных молодых людей.
Калитка не была закрыта: ее подпирал только камень.
Я приотворил калитку и просунул голову в проем.
Двое или трое детей играли в саду; внешне здесь ничто не изменилось; правда, вместо весенних цветов, сирени, роз и бальзаминов, с которыми беседовала Дженни, теперь покачивались на высоких гибких стеблях королевские ромашки, хризантемы и далии, эти изысканные привозные цветы из Америки, которых не знали во времена Дженни.
Заметив меня, дети с криком разбежались.
Мне захотелось побежать за ними и остановить; но что бы подумали в старом доме доктора Смита о человеке, который приподнимается на цыпочках, чтобы заглядывать в спальни, и заходит в сады, чтобы гоняться за детьми?
Напрасно бы я говорил: «Сто лет тому назад на этом месте, где играли эти дети, юная девушка, с которой я был дружен, разговаривала с бабочками, пела вместе с птицами, смешивала свое дыхание с ароматами цветов; я пришел сюда, чтобы на песке найти следы ее ножек, а в воздухе уловить движение ее тела!» Мои извинения показались бы маловразумительными, даже если бы я униженно добавил, что я один из тех мечтателей, кого называют поэтами.
А потому я потянул на себя дверь и, пройдя десяток шагов, оказался на лугу; на лугу свежем, тенистом, густом, с деревьями, конечно, уже не того поколения, которое видело идущих рука об руку Бемрода и Дженни, но это по-прежнему были осины и ольхи.
Я узнал ивовую аллею.
О, вот ивы должны были бы остаться теми же самыми, несмотря на то что они стали еще более горбатыми, еще более скрученными, еще более дуплистыми, чем в середине XVIII века; сто протекших лет не умертвили их, но несколько состарили: их листва немного поредела, а морщины на коре углубились по сравнению с тем временем, когда Дженни и Бемрод отдыхали в их тени.
Я искал и, полагаю, нашел место, где двое молодых людей, сидели, должно быть, бок о бок, и я сам сел здесь в свою очередь, вытянув ноги вдоль склона и чуть ли не касаясь ручья, столь же полноводного и прозрачного, как в тот день, когда его вода отражала влюбленную пару.
Передо мною простирался душистый луг; копны сена уже убрали, но еще можно было разглядеть место, где они стояли.
Ничто не мешало мне вообразить, что эти копны сена, недавно перекочевавшие в ригу, были теми же самыми, на которых останавливались взгляды двух юных существ, и что терпкие запахи этого самого села еще хранились в рукописи моего хозяина.
Разве не могли Дженни и Уильям в этом июне сидеть там, где сидел теперь я; Дженни плела букет из цветов своего сада, смешанных с полевыми цветами, а Уильям, опустив глаза, нерешительно признавался ей в любви!
Эта мысль с такой силой завладела моим умом, что я оглянулся вокруг, надеясь увидеть там, вдали, под ивами или в тени осин, молоденькую девушку в соломенной шляпке и с голубым поясом, а также молодого человека, облаченного в черное, важно ступающего рядом с ней.
Я вздохнул при мысли, что оба они сейчас существуют только в моем воображении.
Затем, поскольку солнце, уже опускаясь к горизонту, золотило дрожащие верхушки тополей, я встал, пересек луг и направился в Ашборн.
Нужно было вырасти среди лесов и полей, затем двадцать пять лет прожить в шуме городов, в суматохе революций, в бурях литературной жизни, чтобы понять, сколько же всплывает в памяти нежных воспоминаний, юношеских порывов, запахов детства, когда шагаешь по таинственным лугам графства Дерби[892] прекрасным вечером одного из первых сентябрьских дней, когда солнце скользит по обратной серебристой стороне осиновых листьев, когда дрозд вприпрыжку выходит из кустарника, чего-то пугается и со свистом улетает; когда слышишь под боярышником последнюю песню славки и крик сверчка, спрятавшегося в густой траве!
В таких раздумьях я и не заметил, как подошел к окраине Ашборна.
Однако по воле случая я оказался там как раз в той стороне, где находилось кладбище.
Вместо того чтобы, как это бывает всегда, примыкать к церкви, здесь оно располагалось на краю деревни.
Его старые стены обвалились, и, наверное, у бедной общины не хватало средств, чтобы восстановить их, а потому их заменила живая изгородь высотой в половину человеческого роста; входные ворота представляли собой деревянную решетку, закрывавшуюся при помощи ивового прута.
Мертвых не крадут, и осквернители могил в деревне – редкость.
О, маленькое ашборнское кладбище было настоящим сельским погостом!
Ни одного надгробного памятника; несколько камней с именами и датами, несколько крестов с траурными надписями; повсюду высокие травы, растущие на могилах, и посреди этих трав – дорожка, проложенная от ворот к последним захоронениям.
Я направился прямо к группе кипарисов, возвышавшихся на пригорке; опершись на один из них спиной к деревне, я обвел взглядом равнину, которая начиналась за кладбищенской изгородью и представала передо мной.
Нет ничего более мягкого, более спокойного, более чарующего, чем такой пейзаж!
Он простирался во всю длину неглубокой долины, где текла маленькая речка, истоки которой находились в одном из последних отрогов Чевиотских гор,[893] бегущих в сторону Шотландии, словно стадо встревоженных буйволов.
Под лучами заходящего солнца речка, казалось, несла на себе золотые блестки; ее берега видели, как разворачиваются вокруг обширные изумрудно-зеленые луга, посреди которых возвышаются густые купы тополей, укрывающих в своей тени кучки домов с красными крышами и синими дымками; со всех сторон подымались прозрачные голубые испарения, за которыми начинали исчезать в глубине долины ивы, похожие на растрепанных призраков.
Поодаль от меня пастух играл на волынке.
Шесть раз прозвонил колокол, прозвонил с неравномерными и, если можно так выразиться, нескладными переливами.
Это означало, что было уже без четверти восемь.
Вокруг постепенно темнело: наступала пора читать перевод, сделанный моим хозяином; если бы я еще промедлил, мне могло не хватить света.
Я извлек из кармана бумагу, развернул ее, в последний раз оглядел окрестность и приступил к чтению.[894]
Когда я завершал его, свет начал быстро исчезать, и можно было подумать, что солнце задержалось в своем пути, чтобы дать мне возможность произнести последний стих, и затем погасить свой последний луч.
Не приходилось сомневаться, элегия почтенного пастора ничего не утратила от того, что ее прочли в сумерках и на той природной сцене, где я находился.
В задумчивости я продолжил путь к пасторскому дому, где супруги ждали меня к чаю.
VI. Конец истории первой истории
Час спустя после моего возвращения в пасторский дом меня поселили в маленькой комнате, где бедный Бемрод в трудах и заботах создавал свои фрески.
Увы, тщетно я осматривал стены: его безжалостный преемник, вероятно племянник ректора, покрыл первоначальные изображения, которые я был бы счастлив обнаружить нетронутыми, первым слоем обоев, которые, согласно вкусам жильцов, с той поры и на протяжении четырех поколений пасторов, обитавших в этой комнате, поочередно уступали место, по крайней мере, четырем их видам.
Я не смог противиться желанию открыть окно и поискать среди всех освещенных окон окошко прежней комнаты Дженни; но тщетно я устремлял свой взгляд в темноту: ставни, скорее всего, были закрыты, так как окно оставалось темным.
Через четверть часа терпение мое иссякло.
Кстати, мне еще предстояло прочитать вторую часть рукописи.
Она лежала тут же, на столе, на том самом месте, где, по всей вероятности, были написаны первые письма славного пастора Бемрода.
Убедившись, что в истории дамы в сером все листы на месте, я лег и с наслаждением человека, оказавшегося после дневной усталости на хорошем матрасе между двумя белыми простынями, принялся читать.
Признаюсь, у меня есть предубеждение против историй, где действуют призраки: я способен волноваться, не испытывая при этом страха; тем не менее я верю в существование привидений, и те, кто прочел мои «Мемуары», знают почему.[895]
Так что мне было легче, чем кому-либо другому, поставить себя на место пастора Бемрода, столкнувшегося с роковым привидением.
Пробило полночь, когда я дошел до того места, когда почтенный пастор проникает в замурованную комнату.
Как видите, я выполнял пожелания моего хозяина.
Так читал я до двух часов ночи; в два часа мне пришлось волей-неволей расстаться с пастором, его супругой и двумя их близнецами.
Я жадно прочел все до последней строки.
Меня охватило страшное желание встать и пойти разбудить моего хозяина: мне до смерти захотелось узнать, как разворачивалась вторая история и исполнилось или не исполнилось предсказание.
Я подумал, что просьба будет невежливой и неуместной, и в результате размышлений взял себя в руки и решил дождаться завтрашнего дня, тем более что два часа ночи означают этот самый уже наступивший день.
Так или иначе, я уснул; однако во сне мне вспомнились все случаи братоубийства в античности – Этеокл и Полиник, Ромул и Рем, Тимолеонт[896] и Тимофан, и при помощи всех этих легенд я придумал собственную, которая во сне представилась мне великолепной и полной смысла, но по пробуждении исчезла подобно неуловимому дымку, оставив меня перед лицом небытия.
К счастью, уже давно рассвело.
Я встал, отнюдь не намереваясь открыть окно и воспользоваться подзорной трубой моего хозяина; нет, мое умонастроение полностью изменилось: что я хотел увидеть – так это мрачный пасторский дом в Уэстоне с позеленевшими стенами, с сырым двором и чудовищным эбеновым деревом с перекрученными корнями; что я хотел узнать – так это историю Уильяма Джона и Джона Уильяма.
Поэтому я в одно мгновение оделся и сошел вниз.
Господин и г-жа Ренье давно уже были на ногах.
Госпожа Ренье готовила завтрак; г-н Ренье отправился навестить одного из своих больных прихожан.
Я остановился на пороге дома и стал всматриваться в те три улицы, что вели к площади, где возвышался пасторский дом.
Вскоре в конце одной из этих улиц я заметил моего хозяина.
Я стал жестами подавать ему знаки; но, то ли не видя меня, то ли сочтя ниже своего достоинства ускорить шаг, он продолжал свой путь прежней поступью.
Тут я понял Магомета,[897] который, увидев, что гора не желает идти к нему, решил сам идти к горе.[898]
Молодой пастор останавливался то на правой, то на левой стороне улицы возле домов, расспрашивая хозяев, улыбаясь, и всячески делал вид, что не замечает меня, наслаждаясь втайне своим триумфом.
Наконец, я подошел к нему.
– Ах, это вы, дорогой мой гость! – воскликнул он. – Хорошо ли вы спали?
– Очень скверно.
– Ба! Кровать оказалась неудобной?
– Нет, нет.
– Вы имели неосторожность оставить окно открытым?
– Тоже нет.
– Кошки подняли шум, играя на чердаке?
– Нет; мне захотелось снова повидаться с вами.
– Это весьма мило с вашей стороны… Но ведь не только ради того, чтобы меня лицезреть, вам захотелось повидаться со мной?
– Нет… Я все прочел.
– Все, до самого конца?
– До последней фразы, до этих слов: «О, кто бы мог подумать, что однажды одного из этих ангелочков назовут Каином?»
– И что же?
– Как что? Я хочу знать, что стало с Уильямом Джоном и Джоном Уильямом.
– Но я-то ничего не знаю об этом!
– Как это вы ничего об этом не знаете?
– Ни единого слова!
– О! Вот это да!
– Разве я не рассказывал вам, каким образом письма доктора Бемрода оказались у меня?
– Рассказывали, конечно.
– Так вот, я знаю об истории пастора Бемрода все то, о чем он писал доктору Петрусу Барлоу, и ни слова больше… Последующие события произошли, как я думаю, в других местах: в Ливерпуле, в Милфорде, даже в Америке.
– В таком случае как мне быть с финалом романа?
– Поступить точно так же, как вы поступили, чтобы начать его; посетите места, где происходили события; опросите людей, которые по рассказам могли бы что-то знать о них.
– Но, черт побери, не могу же я добраться до самой Америки ради того, чтобы узнать продолжение вашей истории: я предпочел бы сочинить ее сам.
– Это крайнее средство, которое всегда будет в вашем распоряжении, и в любом случае вы успеете прибегнуть к нему.
– И у вас не найдется для меня никаких сведений, необходимых для дальнейших разысканий?
– Никаких… Я лично непричастен к этой истории – точно так же, как вы сами; по воле случая первая половина ее попала в мои руки, вот и все. Я даю ее вам и больше ничего не могу сделать. Берете ли вы ее?
– Конечно же, беру! Однако, простите меня, я спешу уехать.
Пастор извлек из кармана часы.
– Сейчас полвосьмого, – сказал он. – Поезд отправляется в Чидл ровно в девять; у вас есть еще время позавтракать и отправиться этим девятичасовым поездом.
– В таком случае возвращаемся… Впрочем, погодите.
– В чем дело?
– Я должен поставить свои условия.
– Какие условия?
– Вы не можете вот так просто-напросто отдать мне в качестве подарка шесть томов.
– А почему бы нет?
– Нет… я вам не предлагаю деньги, хотя это было бы куда проще; но ведь, в конце концов, вы хотите же чего-нибудь.
– Вы же видели мою жену и моих детей; как вы думаете, чего мне еще желать?
– Но, быть может, чего-нибудь желает ваша супруга?
– Да, тут вы правы: у нее есть одно желание.
– Черт возьми! Надо быть построже!.. Буду ли я достаточно богат и могуществен, чтобы найти то, что не смог ей дать муж?
– О, да успокойтесь: речь идет всего-навсего о… Не собираетесь ли вы вскоре поехать в Италию?
– Я постоянно езжу туда, в Италию; правда, я вас предупреждаю, если вас интересуют индульгенции,[899] то я в довольно плохих отношениях с новым папой.[900]
– Нет, нет, в качестве протестантского пастора я нисколько не верю в эту область римско-католической коммерции.
– Что же тогда?
– Речь идет о соломенной шляпке из Флоренции.[901]
– О, это я охотно беру на себя: у госпожи Ренье будет самая красивая шляпка из Тосканы.[902]
– Тсс! Говорите тише: жена рядом!
– Понимаю, вы хотите сделать ей сюрприз.
– Нет, не в этом дело.
– В таком случае я не понимаю.
– Вы все равно забудете обещание!
– Господа, прошу к столу! – рискнула произнести эти четыре слова по-французски наша хозяйка.
Я завтракал, не отрывая глаз от настенных часов. В четверть девятого я встал из-за стола.
– Дорогой мой хозяин, вы француз, – обратился я к пастору, – и, как француз, вы, наверное, знаете самую старую из наших пословиц, восходящую к королю Дагоберу:[903] «Нет такой приятной компании…»[904]
– О, от нашей вы еще не избавлены!
– Как это понять?
– Мы проводим вас до Чидла и распрощаемся с вами только у вагона.
И он показал мне небольшую крытую коляску, стоявшую у ворот.
– Браво! Вот это то, что называется гостеприимством!
– Нет, это то, что называется жизнью. Мы, протестантские пасторы, не похожи на ваших католических кюре, которые подвергают себя все новым и новым лишениям, неустанно умерщвляя плоть; мы рассматриваем жизнь не как уступку, а как дар Господа: согласно нашей вере, даруя жизнь, Господь говорит нам: «Я даю вам то, прекраснее чего в мире нет; сотворите из нее нечто самое сладостное». И поэтому мы принимаем всякое удовольствие, которое Господь посылает нам на нашем пути, словно своего ангела, и, вместо того чтобы отгонять его нашей скорбной и надменной миной, мы стараемся приучить его к нашей земной атмосфере всяческими ласками и предупредительностью. Так, к примеру, увидев сегодня утром, что стоит отличная погода, я подготовил эту поездку: это был способ видеть вас как можно дольше и подарить жене и детям полдня свежего воздуха, солнца и цветов.
– Господин Ренье, вы так хорошо понимаете жизнь, что должны глубоко понимать и смерть. Счастливы те, кому вы помогаете жить! Тем более счастливы те, кому вы помогаете встретить смерть!
Я бросил взгляд на настенные часы.
– В нашем распоряжении тридцать пять минут, – предупредил я хозяина.
– Это на пять минут больше, чем нам необходимо… Хорошо, идемте!
– А мой чемодан?
– Он в коляске.
– А рукопись?
– Она в вашем чемодане.
– Так идемте же! Как вы только что сами выразились, вы человек, которому свойственны предупредительность и ласковость, и меня уже не удивляет, что счастье не покидает вас.
Мы сели в коляску и поехали.
Через полчаса мы были на станции.
В тот самый миг, когда мы ступили на землю, локомотив своим долгим пронзительным свистом предупредил о своем прибытии ожидавших его пассажиров.
И правда, поезд появился на повороте, стремительно; приближаясь к станции и покачивая огромным султаном дыма.
– Ну же! – произнес мой хозяин. – Поцелуйте мою жену и моих детей, пожмите мне руку и скажите нам: «Прощайте!»
– Почему же «Прощайте»?
– Потому что я не осмеливаюсь обратиться к вам с просьбой сказать нам «До свидания!».
– Увы, вы правы: «До свидания» – это ложь, «Прощайте» – это правда. Поезд остановился, и станционные служащие пригласили пассажиров занять свои места.
Пастор подошел к одному из людей, открывавших двери вагонов, и что-то сказал ему вполголоса.
– Yes![905] – ответил тот, жестом пригласив священника следовать за собой.
– Что вы у него спросили? – поинтересовался я.
– Найдется ли вагон, где вы могли бы побыть в уединении… Не знаю, почему, но мне кажется, что сейчас вы расположены к одиночеству.
– Вы, дорогой мой хозяин, действительно знаете науку человеческого сердца. Ну а теперь скажем друг другу «До свидания!»: мне будет стоить слишком дорого сказать вам «Прощайте!»
Улыбнувшись, молодой человек жестом попросил жену и детей подойти к нам.
Словно сестра брату, супруга пастора подставила мне для поцелуя свой белый чистый лоб, обрамленный двумя золотистыми прядями; дети подставили мне, словно другу, свои круглые, розовые и свежие щеки.
А мы с г-ном Ренье порывисто и крепко обняли друг друга.
Наконец, начальник поезда дал сигнал отправления; я прыгнул в вагон, дверь его закрылась за мной, я опустил окно и высунулся чуть ли не до пояса в проем, чтобы еще раз увидеть моих новых друзей, расстаться с которыми мне было тяжелее, чем с многими моими старыми друзьями.
Пока они не скрылись из виду, я махал им рукой; супруги махали мне в ответ платками, а дети посылали воздушные поцелуи.
Но через пятьсот – шестьсот шагов дорога сделала поворот, и все исчезло.
Через три часа я был в Ливерпуле.
И теперь, поскольку то, что мне остается рассказать, является естественным предисловием к книге, которую публике остается прочитать, да будет мне позволено возобновить повествование лишь тогда, когда я смогу познакомить читателя с историей детей – точно так же, как я поведал ему историю их отца и матери.







