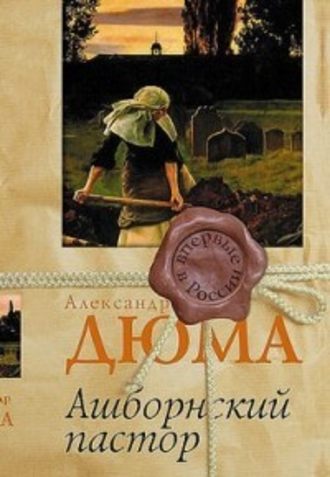
Александр Дюма
Ашборнский пастор
XXIII. Я начинаю по-настоящему знакомиться с Дженни
Первые дни нашего новоселья были днями счастья, не омрачаемого ни единым облачком.
Я начал с того, что показал Дженни то самое окно, у которого я провел столько часов, и печальных, и радостных; затем я вручил ей подзорную трубу моего деда-боцмана, с тем чтобы она сама удостоверилась в правдивости моего рассказа.
Она поднесла подзорную трубу к глазу, внимательно всмотрелась и, с заметным волнением передав ее мне, сказала:
– Посмотри!
И она замерла на месте, положив руку на мое плечо.
Я в свою очередь поднес к глазу подзорную трубу и в полутьме комнатки разглядел г-жу Смит, стоявшую на коленях перед кроватью дочери.
– Бедная матушка! – проговорила Дженни. – Мы забыли о ней, а она молится за нас!
И Дженни печально повторила тему моей проповеди:
«И Господь сказал Рахили: „Ты оставишь отца твоего и мать твою и последуешь за мужем твоим“».
Две крупные слезы блеснули на ресницах Дженни и скатились по щекам; но, поскольку то были слезы счастья, я промолчал.
И правда, точно так же как за облачком еще сияет солнце, за этими двумя слезинками продолжала сиять улыбка моей жены.
Я дал время мягкому лучу радости обрести всю его силу, привлек жену к себе и сказал:
– О, как бы я хотел, чтобы ты умела рисовать, милая Дженни! Тогда у нас сохранилась бы зарисовка, я даже сказал бы – картина этого домика, созданная тобой!.. Ведь я слышал от твоей матушки, что когда-то ты рисовала, не так ли?
Дженни улыбнулась:
– Да, когда-то… немножко… Но теперь я думаю лишь о том, чтобы быть хорошей хозяйкой, и обо всем другом забыла. Однако, мой любимый Уильям, я снова возьмусь за карандаш, чтобы доставить тебе удовольствие.
И пользуясь случаем, она поблагодарила меня за мои гирлянды роз, моих голубков и мой алтарь Гименея.
– Если хочешь, добрая моя Дженни, в минуты досуга, если счастье нам его предоставит, ты вновь займешься рисованием, и тут я дам тебе некоторые советы. Наша святая евангелическая религия не настолько сурова, чтобы приговаривать хорошую хозяйку только к приготовлению пищи и шитью.
– Я буду делать все, что ты пожелаешь, – сказала Дженни с улыбкой.
В ее улыбке, всегда очаровательной, я уловил поразивший меня легкий оттенок не то что бы веселости, не то что бы нежности: в ее улыбке сквозило что-то доброе, мягкое, душевное, что-то среднее между тем и другим.
Я взглянул на жену не без изумления, настолько трудно было определить, что выражает ее улыбка.
– Что такое? – спросила она.
– Ничего, – ответил я. – Пойдем, Дженни, я хочу тебе показать наши остальные владения.
Мы спустились по лестнице, прижавшись друг к другу в ее тесном пространстве, но когда два любящих существа вместе – им все в радость.
– Мы много раз будем вместе спускаться и подниматься по этой лестнице, дорогая Дженни, – сказал я, остановившись на последней ступеньке и улыбнувшись в ответ на ее улыбку.
Она промолчала, но оперлась на мое плечо, и так мы вышли во двор.
Фидель прыгал вокруг нас, но вдруг он заметил конуру.
Тут он тряхнул головой, чихнул и с жалким видом поплелся за нашими спинами, что свидетельствовало о том, как мало эта конура порадовала его.
Бедняга Фидель! Он надеялся на свободу без цепей и ошейника, и я ему вполголоса это пообещал.
– Посмотри, – обратился я к Дженни, – здесь хватит места для твоих голубей, кур и уток; я говорю для твоих, а не каких-нибудь других, ведь они знают свою ласковую хозяйку и вдали от нее должны чувствовать себя очень несчастными. Я же люблю то, что любишь ты, и хотел бы уже увидеть, как они здесь поселятся.
– Ты замечательный человек, дорогой мой Уильям, – откликнулась Дженни. – Через два-три дня мы заберем их.
– И тогда же ты скажешь своей матушке, не правда ли, что Господь, внявший ныне ее мольбе, будет, вероятно, столь же милостив к нам и в дальнейшем.
– Я скажу ей, что я очень счастлива!
Зайдя в сад, мы прошлись вокруг дома; я показал Дженни три плакучие ивы и пруд, в воде которого мокли их зеленые кроны.
Что касается соловья, то он молчал, но мы заметили его в сплетении веток боярышника, где его самка высиживала три маленьких сереньких яйца с красными крапинками.
Однако они не знали меня так, как славка знала Дженни, и потому, увидев нас, самец и самка встревоженно взлетели и уселись на миндальное дерево.
Мы поспешно удалились: яйца могли быстро остыть и супружеская пара осталась бы без потомства.
Тем не менее, удаляясь, мы не теряли соловьев из виду и вскоре заметили, что они вновь подлетели к своему боярышнику и скрылись в его листве.
Зрелище плакучих ив напомнило Дженни печальную историю, рассказанную мною, и она, еще нежнее опираясь на мою руку, произнесла:
– Друг мой, не могли бы мы вместе нанести визит?
– Кому, Дженни? – спросил я.
– Доброй женщине, которую ты полюбил, узнав ее поближе, и которую я тоже люблю, хотя с ней и не знакома.
– Ты говоришь о той, которую я называл матушкой, не так ли?
– Да.
– Идем, моя Дженни, ты никого не забываешь… Идем! И мы направились к кладбищу.
Нам предстояло пройти через всю деревню: здесь, против обыкновения, кладбище не примыкало к церкви.
Я гордо шел по деревенским улицам рука об руку с Дженни; все мужчины были заняты на полевых работах – дома остались только женщины и дети.
По мере того как мы шли все дальше, дети, игравшие на улицах, которые лежали на нашем пути, бежали к своим домам, выкрикивая:
– Это господин пастор Бемрод и его жена!
И матери бежали к открытым дверям, держа на руках младенцев и дружески здороваясь со мной и Дженни.
В ответ я приветственно махал им рукой, а Дженни улыбалась.
Мы подошли к воротам кладбища; как пастор, я обладал печальной привилегией распоряжаться ключом от этого сада мертвых, однако, озабоченный другими делами, забыл взять его с собой.
Пришлось послать за ним в пасторский дом одного мальчишку.
В ожидании ключа мы с Дженни стояли, опершись на ограду.
Через минуту на нежное лицо моей жены набежала тень грусти, а глаза ее увлажнились.
– У моей Дженни действительно ангельское сердце, – заметил я. – Как только она встречает какое-нибудь человеческое страдание, доброта ее облачается в траур.
– О, твоя любовь, мой Уильям, делает меня лучше, чем я есть, – откликнулась жена.
– И однако картина этого кладбища тебя печалит.
– И да и нет… Кладбище – это земная скорбь, но вместе с тем и божественное упование. К тому же, в сельском кладбище есть что-то особое. Во время своей последней поездки в Честерфилд я видела городское кладбище, и оно не произвело на меня такого впечатления, как это… Можно подумать, именно о нем сочинил Томас Грей[254] свою чудную элегию… Ты ее знаешь, не так ли, мой Уильям?
Не без стыда я признался, что не только не знаю элегию, но не слышал даже имени ее автора.
– О, тут нет ничего удивительного, – сказала Дженни. – Томас Грей – друг моего отца: они вместе учились в Итоне.[255] И лишь в прошлом году он издал маленький томик стихов[256] и прислал его отцу; в этой-то книжечке и напечатано стихотворение, которое я упомянула.
– И как это стихотворение называется?
– «Элегия, написанная на сельском кладбище».
– И Дженни, наверное, знает ее наизусть?
– Да, – подтвердила жена, покраснев.
– Я слушаю, – сказал я ей. – Самые прекрасные стихи могут только выиграть в твоем исполнении.
– Льстец! – откликнулась Дженни.
И голосом мелодичным, как пение, она начала читать эти стихи, которые приобрели в ее устах чарующий оттенок бесхитростной грусти и сельской печали:
Уже бледнеет день, скрываясь за горою;
Шумящие стада толпятся над рекой;
Усталый селянин медлительной стопою
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.
В туманном сумраке окрестность исчезает…
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.
Лишь дикая сова, таясь под древним сводом
Той башни, сетует, внимаема луной,
На возмутившего полуночным приходом
Ее безмолвного владычества покой.
Под кровом черных сосен и вязов наклоненных,
Которые окрест, развесившись, стоят,
Здесь праотцы села, в фобах уединенных
Навеки затворясь, сном непробудным спят.
Денницы тихий глас, дня юного дыханье,
Ни крики петуха, ни звучный гул рогов,
Ни ранней ласточки на кровле щебетанье —
Ничто не вызовет почивших из гробов.
На дымном очаге трескучий огнь, сверкая,
Их в зимни вечера не будет веселить,
И дети резвые, встречать их выбегая,
Не будут с жадностью лобзаний их ловить.
Как часто их серпы златую ниву жали
И плуг их побеждал упорные поля!
Как часто их секир дубравы трепетали
И потом их лица кропилася земля!
Пускай рабы сует их жребий унижают,
Смеяся в слепоте полезным их трудам,
Пускай с холодностью презрения внимают
Таящимся во тьме убогого делам;
На всех ярится смерть – царя, любимца славы,
Всех ищет грозная… и некогда найдет;
Всемощныя судьбы незыблемы уставы:
И путь величия ко фобу нас ведет!
А вы, наперсники фортуны ослепленны,
Напрасно спящих здесь спешите презирать
За то, что фобы их непышны и забвенны,
Что лесть им алтарей не мыслит воздвигать.
Вотще над мертвыми, истлевшими костями
Трофеи зиждутся, надгробия блестят,
Вотще глас почестей фемит перед фобами —
Угасший пепел наш они не воспалят.
Ужель смягчится смерть сплетаемой хвалою
И невозвратную добычу возвратит?
Не слаще мертвых сон под мраморной доскою;
Надменный мавзолей лишь персть их бременит.
Ах! может быть, под сей могилою таится
Прах сердца нежного, умевшего любить,
И фобожитель-червь в сухой главе гнездится,
Рожденной быть в венце иль мыслями парить!
Но просвещенья храм, воздвигнутый веками,
Угрюмою судьбой для них был затворен,
Их рок обременил убожества цепями,
Их гений строгою нуждою умерщвлен.
Как часто редкий перл, волнами сокровенный,
В бездонной пропасти сияет красотой;
Как часто лилия цветет уединенно,
В пустынном воздухе теряя запах свой.
Быть может, пылью сей покрыт Гампден[257] надменный,
Защитник сограждан, тиранства смелый враг;
Иль кровию фаждан Кромвель[258] необафенный,
Или Мильтон[259] немой, без славы скрытый в прах.
Отечество хранить державною рукою,
Сражаться с бурей бед, фортуну презирать,
Дары обилия на смертных лить рекою,
В слезах признательных дела свои читать —
Того им не дал рок; но вместе преступленьям
Он с доблестями их круг тесный положил;
Бежать стезей убийств ко славе, наслажденьям
И быть жестокими к страдальцам запретил;
Таить в душе своей глас совести и чести,
Румянец робкия стыдливости терять
И, раболепствуя, на жертвенниках лести
Дары небесных муз гордыне посвящать.
Скрываясь от мирских погибельных смятений,
Без страха и надежд, в долине жизни сей,
Не зная горести, не зная наслаждений,
Они беспечно шли тропинкою своей.
И здесь спокойно спят под сенью гробовою —
И скромный памятник, в приюте сосн густых,
С непышной надписью и резьбою простою,
Прохожего зовет вздохнуть над прахом их.
Любовь на камне сем их память сохранила,
Их лёта, имена потщившись начертать;
Окрест библейскую мораль изобразила,
По коей мы должны учиться умирать.
И кто с сей жизнию без горя расставался?
Кто прах свой по себе забвенью предавал?
Кто в час последний свой сим миром не пленялся
И взора томного назад не обращал?
Ах! нежная душа, природу покидая,
Надеется друзьям оставить пламень свой;
И взоры тусклые, навеки угасая,
Еще стремятся к ним с последнею слезой;
Их сердце милый глас в могиле нашей слышит;
Наш камень гробовой для них одушевлен;
Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит,
Еще огнем любви для них воспламенен.
А ты, почивших друг, певец уединенный,
И твой ударит час, последний, роковой;
И к фобу твоему, мечтой сопровожденный,
Чувствительный придет услышать жребий твой.
Быть может, селянин с почтенной сединою
Так будет о тебе пришельцу говорить:
«Он часто по утрам встречался здесь со мною,
Когда спешил на холм зарю предупредить.
Там в полдень он сидел под дремлющею ивой,
Поднявшей из земли косматый корень свой;
Там часто, в горести беспечной, молчаливой,
Лежал, задумавшись, над светлою рекой;
Нередко ввечеру, скитаясь меж кустами, —
Когда мы с поля шли и в роще соловей
Свистал вечерню песнь, – он томными очами
Уныло следовал за тихою зарей.
Прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной,
Он часто уходил в дубраву слезы лить,
Как странник, родины, друзей, всего лишенный,
Которому ничем души не усладить.
Взошла заря – но он с зарею не являлся,
Ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил;
Опять заря взошла – нигде он не встречался;
Мой взор его искал – искал – не находил.
Наутро пение мы слышим гробовое…
Несчастного несут в могилу положить.
Приблизься, прочитай надгробие простое,
Чтоб память доброго слезой благословить».
Эпитафия
Здесь пепел юноши безвременно сокрыли,
Что слава, счастие, не знал он в мире сем.
Но музы от него лица не отвратили,
И меланхолии печать была на нем.
Он кроток сердцем был, чувствителен душою —
Чувствительным Творец награду положил.
Дарил несчастных он – чем только мог – слезою;
В награду от Творца он друга получил.
Прохожий, помолись над этою могилой;
Он в ней нашел приют от всех земных тревог;
Здесь все оставил он, что в нем греховно было,
С надеждою, что жив его Спаситель Бог.[260]
Я не знал этих стихов; более того, я не знал ничего подобного в поэзии. И я впервые слышал, как читает стихи Дженни.
Порою, вспоминая первое слово строфы, слово, вдруг ускользнувшее из ее памяти, она поднимала глаза к небу, словно у неба, родины поэзии, она просила вернуть ей забытое слово, и тогда, дорогой мой Петрус, Дженни была не просто женщиной, произносившей строки Грея, – то была сама Муза,[261] ожидающая небесного вдохновения и получающая в дар от вечных лучей тот луч, что озаряет ее глаза и чело.
Когда мальчишка принес ключи, стихи были прочитаны, а лицо мое – я прекрасно понимаю, что это проявление слабости, – лицо мое было залито слезами.
Я открыл кладбищенские ворота, и мы вошли внутрь ограды.
Правда, теперь мы шли не рука об руку, а просто бок о бок, благоговейно и почтительно.
Можно сказать, простого присутствия смерти оказалось достаточно, чтобы разделить сердца, до этого слитые воедино. Правда, разделяя сердца, смерть соединяет души.
Дженни по моему описанию с первого же взгляда узнала могилу старого пастора, его вдовы и трех их дочерей.
Она приблизилась к этому уголку земли, который заключал в себе целую семью, оставившую по себе память только в сердце постороннего человека, и положила на четыре могилы цветы из букета, собранного в саду, и ветки трех ив.
Затем жена моя опустилась на колени и стала молиться.
А я остался стоять, прислонившись к стволу дерева, и молился за тех же, за кого молилась Дженни.
XXIV. Я все лучше и лучше узнаю Дженни
Через неделю после обустройства моего дома я должен был взяться за исполнение своих пасторских обязанностей, которыми из-за важного события в моей жизни я несколько пренебрегал; правда, добрые мои прихожане, видя меня таким счастливым, легко простили мне это.
Дженни совершила несколько поездок в Уэрксуэрт, чтобы перевезти, как мы условились, тех своих питомцев, которым предстояло последовать за ней из родительского дома в дом новобрачных.
Во время одной из таких поездок она встретила на дороге г-на Стиффа, дававшего распоряжения работникам; управляющий милостиво ее узнал и, более того, оказал ей милость, предложив сопровождать ее часть пути.
Он настойчиво приглашал нас, как рассказывала мне Дженни, нанести повторный визит в замок, на этот раз с расчетом провести там весь день.
По его словам, г-жа Стифф частенько говорила о своей доброй подруге мисс Смит, которую она нашла донельзя хорошенькой и грациозной в ее платьице.
Господин управляющий выразил также большое желание поближе познакомиться с таким образованным и воспитанным человеком, как ее муж.
Из этого следовал вывод: если мы не навестим его в замке, то он попросит разрешения вместе с супругой навестить нас в пасторском доме.
Дженни, которой г-н Стифф и его супруга были симпатичны не более, чем мне самому, вежливо ответила согласием, понимая, насколько важно для нас не ссориться со столь могущественными соседями.
Она объяснила управляющему, что обязанности моей службы, уже месяц находившиеся в небрежении, требуют теперь от меня много времени, и это ей помешает пообещать от моего имени, что мы нанесем повторный визит в замок, но пожелание г-на Стиффа нанести вместе с его супругой ответный визит в наш дом будет встречено с благодарностью, какой заслуживает столь большая милость.
Затем они поговорили о дожде и ясной погоде, об урожае, как ожидается, отличном в нынешнем году, об огромном богатстве графа, о большом влиянии, какое г-н Стифф имеет на этого знатного вельможу.
Беседуя таким образом, они подъехали к нашему дому, где управляющий и распрощался с Дженни.
Девятый день после нашего обоснования в ашборнском пасторском доме пришелся на день моего рождения.
С этого дня, 19 июля, мне пошел двадцать шестой год.
Увы, после смерти моих бедных родителей никто уже не вспоминал о дне моего рождения!
Я и сам почти забыл о нем.
Что касается Дженни, она и не могла о нем знать: я единственный раз в разговоре с ней упомянул мой возраст – это было в день, когда я стал ее мужем, и то, что она вспомнила о дне моего рождения, было воспринято мною как чудо.
Тем не менее накануне она время от времени улыбалась мне как-то по-особому, когда я спрашивал, зачем это она запасается провизией; на следующий день утром она поцеловала меня нежнее обычного, и мне показалось, что она следила за мной, когда я спустился в бывшую спальню г-жи Снарт, ставшую моим рабочим кабинетом и местом, где я мог предаваться размышлениям.
Войдя в кабинет, я сначала не заметил ничего необычного; но, когда я сел за мой письменный стол и случайно поднял голову, у меня вырвался крик изумления.
Напротив себя я увидел очаровательную гуашь, где был изображен красно-бело-зеленый домик; окно его было открыто, и за ним стояла Дженни со своим щеглом на плече.
Я встал, подошел поближе, нагнулся и стал рассматривать гуашь – сначала в целом, прислушиваясь к отклику моего сердца, а затем – в подробностях, полагаясь на мой рассудок, и рассудок после этого осмотра оказался столь же удовлетворен, как и сердце.
Гуашь..[262] была задумана и даже выполнена, я бы сказал, в стиле Мириса[263]
Личико, вполне похожее на изображение Дженни, наполовину скрытое в тени от большой соломенной шляпки, а наполовину освещенное ярким солнцем, выглядело чарующе утонченным.
Стена домика в ее близком соседстве с плющом, сиренью и тополями была написана в сочных тонах, что свидетельствовало об опытной кисти.
Удивление мое было настолько велико, что я не удержался и громко выразил его вслух.
– О Боже мой! – воскликнул я. – Кто же написал эту очаровательную картинку?
И тут я услышал ласковый голос Дженни, прошептавший мне на ухо:
– Не ты ли, любимый мой Уильям, высказал мне желание иметь вид бедного маленького домика, в окне которого ты впервые увидел меня?
– Да, конечно, – подтвердил я.
– Так вот, разве не вы мой хозяин? Разве я не дала клятву повиноваться вам?.. Ваши распоряжения исполнены вашей смиренной служанкой, мой повелитель!
И Дженни сделала прелестный реверанс, исполненный одновременно кокетства и грации.
– Да, – сказал я, – но кто же художник? Кто художник?..
– О, художника найти совсем нетрудно, – улыбнулась мне жена, – ведь именно ему вам было угодно высказать ваше желание.
– Как! – вскричал я. – Художник… автор этой прелестной гуаши… это ты?
Дженни, не переставая улыбаться, сделала мне еще один точно такой же реверанс.
– Так у тебя просто восхитительный талант, а ты мне никогда о нем не упоминала ни словом…
– Забывчивый! Я же говорила тебе об этом как раз в день нашего вселения в этот дом…
– Да, говорила, но так, словно речь идет о воспитаннице пансиона, рисующей модель из гипса, а не о художнике, который задумывает композицию и мастерски исполняет ее.
Тут я вспомнил о собственном предложении руководить ее занятиями живописью.
– Эх, а я!.. – вырвалось у меня. – О моя Дженни, теперь я понимаю улыбку, с какой ты встретила мое предложение.
– Уильям!..
– А эти фрески, которые я расписывал с такой гордостью в комнате моей супруги… Сейчас я возьму кисть и Щетку и все это сотру!
Я бросился к двери, но Дженни остановила меня:
– Нет, друг мой, нет, ничего ты не сотрешь… Эти фрески – памятник твоей привязанности ко мне, и, выходя отсюда, я стала на колени перед распятием, благодаря Господа за то, что меня так любят, и поцеловала пару белых голубков – символ нашей любви.
У меня вырвался вздох – одновременно и грустный, и радостный.
Грусть его была обращена к моей гордыне, дорогой мой Петрус; я начинаю верить, что гордыня – это демон, которому его повелитель Сатана велел меня погубить.
Я воображал, что знаю все, и вот оказалось, что не я, а Дженни знает о существовании поэта по имени Томас Грей, написавшего чудную элегию.
Я воображал, что владею кистью, и вот молоденькая сельская жительница, скромная и сдержанная, очень просто, очень естественно дает мне урок живописи и смирения.
О гордыня, гордыня! Когда же я от тебя избавлюсь?..
К счастью, у меня не было времени погружаться слишком глубоко в эти размышления, которые могли бы только нарушить мое душевное спокойствие.
В дверь постучали.
Дженни бросилась открывать ее, и не успел я сделать и трех шагов, как вошли ее отец и мать.
Добрый пастор Смит и его супруга пришли поздравить меня с днем рождения.
То был визит, который Дженни ожидала; провизия, запасенная накануне, предназначалась для этого дня, который нам предстояло провести в семейном кругу.
О дорогой мой Петрус! В этот день были минуты, когда мне вспомнилась красноречивая история, рассказанная Геродотом,[264] о тиране Поликрате[265] который, испугавшись собственного счастья, бросил свой перстень в море.
А что я мог бросить в море, чтобы заклясть грозящее мне несчастье и умолить судьбу простить мне мое сегодняшнее счастье?..
Рыба доставила Поликрату его же брошенный в море перстень, и несколько месяцев спустя, для того чтобы его несчастье стало равно его счастью, Поликрата путем предательства схватил Оройт,[266] сатрап Камбиса,[267] и велел распять пленника на кресте.
Боже мой, у всякого человека есть свой Оройт и свой крест!
Есть и у меня. А кто же станет моим Оройтом и на каком мучительном кресте задумано меня распять, чтобы искупить мое счастье?
Через три месяца после моего дня рождения наступал день рождения моей Дженни: ей предстояло войти в ее двадцатый год, и все эти три месяца я искал ей подарок к этой годовщине; мое воображение, обычно плодотворное, на этот раз сплоховало.
К тому же бедная моя Дженни считала себя такой счастливой, что не выражала никаких пожеланий относительно подарка.
И я, таким образом, терялся в догадках, что могло бы быть ей приятно. После длительных раздумий я пришел к выводу, что самое большое удовольствие доставила бы Дженни красивая эпиталама,[268] в которой я восславил бы наше общее счастье.
Сначала мне пришла в голову мысль сочинить ее на латыни, заслуживающей того, чтобы преодолеть связанные с этим трудности, но мне пришлось бы переводить ее на английский, а в переводе эпиталама, конечно, много бы потеряла.
Так что я решил писать просто на обычном английском – на языке Шекспира, Мильтона и Попа.
Для такого человека, как я, пять лет замышлявшего эпическую поэму и три года – трагедию, задача в данном случае казалась такой легкой, что у меня, как я полагал, всегда хватит времени приняться за работу.
В результате только за три дня до знаменательной даты я всерьез занялся сочинением эпиталамы.
Сначала я хотел дать обозрение всех знаменитых бракосочетаний античности начиная с женитьбы Фетиды и Пелея;[269] но, честно говоря, невозможно было сравнивать наши скромные свадьбы с божественными бракосочетаниями, из-за которых началась Троянская война и все вытекающие из нее события – такие, как гибель Агамемнона,[270] странствия Улисса,[271] основание Рима и т. д.[272]
Так что я отставил бракосочетание Фетиды и Пелея и обратился к бракосочетанию Пирифоя и Гипподамии,[273] но оно послужило причиной бедствия столь ужасного, что я, опасаясь дурных предзнаменований, решил поискать какой-нибудь другой текст. И правда, уж меня-то никакой кентавр не мог подтолкнуть к похищению моей Гипподамии: блюда были убраны со стола неповрежденными и возвращены на их привычное место в сундуке г-жи Смит, и не только никакая горящая головешка не погасла в горле какого-нибудь похитителя, но вследствие жаркой погоды огонь вообще вряд ли был разожжен.
Пришлось мне оставить в стороне бракосочетание Пирифоя и Гипподамии так же, как бракосочетание Фетиды и Пелея.
В запасе имелась еще свадьба Перикла и Аспасии,[274] три дня, по словам Плутарха,[275] будоражившая все Афины, поскольку афинянам, этому умному и непостоянному в своих пристрастиях народу, любопытно было видеть, как победитель Кимона;[276] стал супругом куртизанки из Милета; но, хотя в отношении познаний, вкуса, изысканной речи я мог бы, во всяком случае, сравнить себя с дядей Алкивиада[277] хотя если бы представился случай, то при соответствующих обстоятельствах я мог бы так же, как Перикл, воздвигнуть Парфенон[278] и прославить в веках свое имя, я ни в каком отношении, если только не говорить о красоте, не мог бы сравнить мою жену с Аспасией.
Существовало слишком большое различие – различие целиком в пользу Дженни, слава Богу! – в их воспитании и образе жизни.
Так что пришлось мне отказаться от бракосочетания Перикла и Аспасии, как я уже отказался от бракосочетаний Пирифоя и Гипподамии, Фетиды и Пелея.
Но, чтобы сделать обозрение всех этих знаменитых бракосочетаний, мой ум, моя память и моя эрудиция были вовлечены в работу, отнявшую у меня целых два дня, и лишь в начале третьих суток, когда в моем распоряжении оставалось не больше двадцати четырех часов, я решил сочинить что-нибудь не столь сложное – простую песню сердца, бесхитростную благодарность за ту неизменную нежность, доказательства которой моя дорогая Дженни давала мне все эти три месяца.
К несчастью, в ту минуту, когда, продумав план этого небольшого стихотворения, которое уже вследствие его малого объема я рассчитывал сделать шедевром; когда, вдохновленный сначала сюжетом, а затем двумя часами раздумий, я взял наконец перо и написал вверху отличного листа чистой бумаги: «К Дженни!», – пришел школьный учитель и напомнил, что мне надо совершить обряд венчания.
Я по собственному опыту слишком хорошо знал, в каком нетерпении пребывает жених, чтобы заставлять его ждать.
Живо встав из-за стола, я поспешил к церкви, дав себе слово заняться эпиталамой тотчас же по возвращении.
Обряд я совершил как можно быстрее, наверное к великой радости жениха и невесты, и, пока, в соответствии с протестантским обычаем, деревенские парни и девушки ожидали молодых у дверей, с тем чтобы усеять цветами их путь, готовился вернуться домой, терзаемый демоном поэзии, уже нашептывавшем мне на ухо первые строки.
Но тут, у самого выхода, меня остановил школьный учитель:
– Господин Бемрод, мне кажется, вы кое о чем забыли…
– О чем, друг мой?
– О том, что умер старик Блам и его похороны назначены на полдень.
– А ведь так оно и есть! – воскликнул я. – Вчера меня предупредили и я сам назначил время похорон.
– Поскольку уже половина двенадцатого, – продолжал учитель, – не думаю, что вам имеет смысл возвращаться домой… Через полчаса гроб будет в церкви.
– Вы правы, друг мой, – согласился я. – Сходите предупредить госпожу Бемрод, что я буду на похоронах и пообедаю после возвращения с кладбища.
– По правде говоря, – сказал учитель, похоже следовавший какому-то своему расчету, – похороны наверняка закончатся в час, и у вас между часом и двумя будет время пообедать… Я пойду предупрежу госпожу Бемрод.
И добряк вышел из церкви.
«Конечно, у меня будет время пообедать между часом и двумя, – подумал я, глядя ему вслед, – а в два часа я возьмусь за эпиталаму; это дело легкое, тем более для меня, так что вечером я ее закончу… Впрочем, что мне мешает поработать до похорон? В моем распоряжении полчаса, и – слава Богу! – я чувствую вдохновение».
И правда, сосредоточив ум на одном предмете, я впал в то лихорадочное состояние, которое мы, поэты, торжественно называем вдохновением, но тут, весь запыхавшись, вернулся учитель.
– О господин пастор, – сказал он, – госпожа Бемрод просит вас прийти как можно скорее… у двери вашего дома стоит красивая карета с двумя ливрейными лакеями на козлах.
– Ну, а что за люди приехали в этой карете?
– Не могу вам сказать, господин Бемрод; но вы это узнаете, когда вернетесь домой; ведь господа из кареты находятся уже там и, по-видимому, ждут вас.
Я не мешкая ушел из церкви и у своего дома в самом деле увидел карету.
Я сразу же узнал и карету и ливрею.
На ливрее были эмблемы графа Олтона, а карета оказалась той самой, в которой мы встретили г-на и г-жу Стифф.
Признаюсь, крайне слабая моя симпатия к господину управляющему и его жене сначала внушила мне мысль повернуть обратно к церкви и там дождаться конца похорон, что могло бы послужить оправданием моего отсутствия, но настойчивость, с какой высказала свою просьбу Дженни, тревожила меня и, поразмыслив минуту об опасности оскорбить моих знатных посетителей, я пошел дальше к своему дому.







