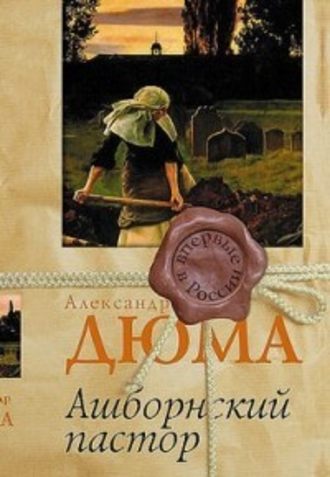
Александр Дюма
Ашборнский пастор
XXVII. Как господин Смит, а не я, сочинил эпиталаму
Вы понимаете, дорогой мой Петрус: если я, невзирая на запирательство Дженни, упорно считал, что с ней произошло какое-то грустное событие, о котором ей не хотелось мне рассказывать, то она, со своей стороны, невзирая на мое запирательство, упорно считала, что какая-то забота не давала покоя моей душе.
Для нее это было тем более естественно, что с моей точки зрения ее грусть рассеивалась, тогда как, напротив, с ее точки зрения моя обеспокоенность нарастала.
«Как! – говорил я себе, слушая ее и не сводя с нее глаз. – Как это может быть, несчастный Уильям?!.. Эти глаза, эти губы, эта улыбка, этот голос, эта мягкая интонация, эти ласковые слова не вдохновляют тебя на любовную песнь, нежную и изящную, как это обожаемое создание, избранное Всевышним, чтобы доставлять тебе радость! Ты видишь прямо перед собой это соединение совершенств, и ты, поэт целомудренной любви, остаешься безгласным и бессильным!.. Несчастный Уильям! Надо же было, чтобы сокрытая в твоей душе муза оказалась не только гением, но и демоном сатиры! Ах, если бы ты мог предаться этому демону, как далеко позади оставил бы ты Архилоха,[294] с его ямбами[295] Аристофана с его комедиями и Ювенала с его сатирами! Какое счастье для всех этих людей, что ты не независимый, свободный человек, а всего лишь пастор деревни Ашборн, и сколь же в особенности посчастливилось г-ну и г-же Стифф, которых ты несомненно заставил бы повеситься, как повесились, чтобы укрыться хотя бы в аду от стихов поэта с Пароса,[296] несчастный Ликамб и злополучная Необула».
Несложно понять, что подобные мысли, шедшие от моего ума к моему сердцу, словно волны бурного моря, не придавали моему лицу выражения безмятежности, а моим жестам – определенности.
Наоборот, время от времени на моей физиономии отражалось волнение и, пока левая рука сжималась в кулак, правая размахивала вилкой или ложкой будто пером или кинжалом.
Под конец ужина это, должно быть, по-настоящему встревожило Дженни.
За столом я не проронил ни единого слова, но порой то глухо ворчал, то разражался невнятными выкриками.
Выйдя из-за стола, моя жена хотела, как обычно, взять меня под руку, чтобы совершить со мной нашу привычную прогулку по деревенским улицам и вокруг ограды деревни; но я ощущал, как утекает время: в моем распоряжении оставалось всего лишь несколько часов, и каждая минута из них становилась драгоценной.
Так что я, пытаясь выдавить из себя улыбку, сказал Дженни, что ей не стоит забивать голову моими заботами и что мне нужно поработать, и вернулся в свой кабинет.
Но я говорил Вам, дорогой мой Петрус, о том, что мне трудно работается после еды; поскольку же я по рассеянности съел весьма немало, это затруднение проявилось сильнее, чем всегда.
У меня хватило сил только на то, чтобы написать в верхней части третьего листка: «К Дженни! Эпиталама по случаю дня ее рождения», после чего в согласии с нередким физиологическим явлением, моя крайняя возбужденность сменилась полнейшей расслабленностью, впрочем вполне понятной ввиду моей усталости и моих дневных треволнений; в итоге я уронил голову на письменный стол и забылся сном.
Вначале сон мой был тяжелым, словно у пьяного, ведь, как я уже сказал, этот отдых, столь необходимый для моего уставшего тела, был, по сути, не сном, а расслабленностью.
Сколько времени длились эти потемки моих чувств, сколько тянулась ночь моей души, я не смог бы сказать; но, наконец, какой-то свет пробился в эту тьму: я почувствовал себя заново родившимся в фантастической жизни сновидения; идея, весь день занимавшая мой ум, привязанная к моему сновидению загадочными нитями мозга, похоже, нашла меня снова после того, как покинула меня, ведь человек больше принадлежит идее, чем идея принадлежит ему.
Она возникла на горизонте в виде светящейся точки, которая быстро увеличивалась; идея держала в руке факел, освещавший огромный круг, в центре которого она находилась.
Она явилась в одеянии музы, которую я весь день призывал и которая весь день убегала от меня подобно капризной женщине, способной бросить любовника и возвратиться к нему всего через час, когда он меньше всего ее ждет; и по мере того как муза приближалась ко мне, по мере того как черты ее освещенного факелом лица приобретали все большую четкость, я с удивлением замечал, что эта муза похожа на Дженни, будто ее родная сестра.
Муза, улыбаясь, шла ко мне, и я встретил ее с улыбкой; она положила мне на плечо правую руку и, осветив факелом чистый лист бумаги, сказала:
– Поэт, я муза, которую ты тщетно призывал весь день; я сжалилась над твоими муками и пришла к тебе. Пиши, я буду тебе диктовать.
И ее голос оказался похожим на голос Дженни так же, как и ее лицо.
И вот этим голосом, мягким и проникновенным, звучавшим для моего слуха настоящей музыкой каждый раз, когда Дженни говорила, муза стала диктовать мне строфы, которые я записывал, восхищаясь возвышенностью замысла и чистотой формы.
При последнем слове последней строфы восторг мой достиг такой степени, что руки мои сами потянулись к музе, а она, вместо того чтобы отшатнуться от подобного порыва, приблизила свое лицо ко мне и запечатлела на моем лбу поцелуй.
Этот поцелуй я ощутил настолько явственно, что проснулся и открыл глаза.
Музой оказалась сама Дженни: не слыша ни моего голоса, ни моих шагов, она обеспокоилась, жив ли я, открыла дверь, увидела, что я сплю, и с лампой в руке подошла ко мне.
Теперь, дорогой мой Петрус, Вы, такой великий знаток философии, скажите мне, какое таинственное сочетание явлений совершенно противоположных – бодрствования и сна, иллюзии и действительности – привело к тому глубинному союзу, только что превратившему мое сновидение в живую поэму, в финале которой в одном лице слились муза и Дженни, богиня и земная женщина.
– О, это ты, это ты, моя Дженни! – воскликнул я. – Будь благословенна как в снах, так и наяву, как в грезах, так и в действительности!
Неожиданно я вспомнил о листе бумаги, на котором я успел написать: «Моей Дженни! Эпиталама по случаю дня ее рождения», а затем стихи, продиктованные мне музой.
Лист бумаги исчез.
Мое волнение и замешательство были таковы, что, не видя листа на том месте, где он должен был быть, я стал сомневаться, существовал ли он на самом деле.
Я напряг мой ум, силясь разгадать эту загадку, и сначала мне пришлось признать, что эти стихи, вроде бы записанные мною, являлись частью моего сновидения, поскольку реальностью была Дженни, а не муза.
Итак, невозможно было допустить хоть какую-то вероятность того, что Дженни сама продиктовала мне стихи, предназначенные стать для нее сюрпризом.
Как только я утвердился в мысли, что стихи просто не существовали, весьма ослабела и моя уверенность в существовании бумаги, на которой я, как мне казалось, их записал; бумага с заголовком могла мне присниться точно так же, как все остальное.
Первые два листа бумаги, один за другим предназначенные для записи задуманных стихов, существовали: один находился в моем правом кармане, другой – в левом, и, если третьего я не нашел, значит, его никогда и не было.
И я счел удачей, что его никогда и не было, поскольку иначе Дженни, войдя в кабинет во время моего сна, увидела бы этот листок, прочла бы посвящение и о сюрпризе нечего было бы и думать, а мне ведь так хотелось приятно удивить ее на следующий день.
Стихи, продиктованные мне во сне, еще звучали в моей голове, и мне казалось, что понадобится не более получаса, чтобы перенести их на бумагу.
Я бы поднялся как можно раньше, и Дженни, проснувшись, получила бы свою эпиталаму.
А пока я последовал за женой, уверенный в том, что злополучный листок существовал только в моем воображении.
Дорогая Дженни! Она ни о чем не подозревала, по крайней мере так могло показаться, поскольку она и словом не коснулась ни моей озабоченности днем, ни ее собственного минутного опасения, не сошел ли я с ума.
На следующий день я встал на рассвете, но, как ни старался не шуметь, все же разбудил Дженни.
Я поцеловал мою дорогую возлюбленную, умолчав о том, что это не только повседневный, но и поздравительный поцелуй и, облачившись в халат, вышел из спальни.
В это мгновение мне показалось, что я слышу какой-то шум в столовой. Кто бы это мог быть? Ключ от пасторского дома был только у дочери учителя; но сейчас едва светало, и она никогда не приходила в столь ранний час. Так что когда я на цыпочках стал спускаться вниз, я все еще терялся в догадках, с кем это мне придется иметь дело, но, чем ниже я спускался, тем увереннее приходил к выводу, что в доме находятся посторонние люди.
Оказавшись на последней ступеньке, я уже ничуть не сомневался в этом: шум слышался совершенно четко; я проскользнул через застекленную дверь, отделявшую лестничную площадку от столовой и увидел, как учитель и его дочь устанавливают в простенке между двумя окнами клавесин.
Это явно был сюрприз для Дженни.
Но кто же его задумал и осуществил?
Странная мысль пришла мне в голову: а не управляющий ли делает такой подарок?
Движимый этой нелепой догадкой, я без всяких предосторожностей вошел в столовую. Застигнутые врасплох, учитель и его дочь живо обернулись.
– Что вы здесь делаете? – спросил я довольно сурово.
– Тише, господин Бемрод, тише! – прошептал школьный учитель, поднеся указательный палец к губам.
– Это что такое? – спросил я, указывая на музыкальный инструмент, который они старались установить.
– Вы сами видите – это фортепьяно.
– Разумеется, я прекрасно вижу, что фортепьяно, но что это означает?
– Сюрприз… тише, пожалуйста! – и учитель вновь с таинственными видом прижал к губам указательный палец; его дочь в это время молча улыбалась.
– Да для кого же это сюрприз?
– Конечно же для госпожи Бемрод.
– Пусть так, но кто ей делает этот сюрприз?
– А вы не догадываетесь?
– Нет, и вы доставите мне удовольствие, если не заставите меня теряться в догадках, кто же предлагает этот подарок моей жене.
– Но как вы думаете, господин Бемрод, кто же это может быть, если не ее отец?
– Как! – вырвалось у меня. – Господин Смит!.. Так это господин Смит дарит клавесин своей дочери?
– Вчера вечером инструмент доставили из города. Господин Смит прислал его прямо ко мне домой с просьбой поставить его здесь, пока вы еще будете спать, с тем, чтобы госпожа Бемрод, проснувшись, увидела его на месте открытым, с этими нотами на пюпитре, принимая во внимание, что как раз сегодня день ее рождения!.. Тсс!..
– Я это прекрасно знаю, а что это за ноты?
– Это ноты романса, который господин Смит сочинил для своей дочери.
– Для своей дочери? – с некоторой досадой воскликнул я. – Значит, господин Смит – поэт?
– Поэт и композитор, если вам будет угодно, господин Бемрод… Им написаны и слова и музыка.
– О добрый мой отец! – послышался голос за моей спиной.
Я обернулся. То была Дженни, тоже спустившаяся сюда и услышавшая у двери последние произнесенные нами слова.
– Ах, это ты, Дженни… – отозвался я.
Затем, с жестом, в котором признаюсь, дорогой мой Петрус, несколько чувствовалось мое испорченное настроение, я договорил:
– Принимай то, что посылает тебе твой отец, – клавесин и ноты романса. Учитель утверждает, что и слова и музыка написаны господином Смитом.
– А по какому поводу отец посылает мне это? – с улыбкой спросила Дженни, подставив мне свой лоб для поцелуя.
– По случаю твоего дня рождения, дорогая моя Дженни, – ответил я, в свою очередь улыбнувшись и забыв всякую дурную мысль, – ведь именно сегодня твой день рождения; я это знал, хотя и не дарю тебе ни клавесина, ни музыки, ни стихов…
– Ты, дорогой мой Уильям, – откликнулась Дженни с чарующей нежностью в голосе, – ты даришь мне свою любовь, ты даришь мне счастье… Что еще, Господи, можешь ты мне дать?! И чего мне еще просить у Всевышнего, кроме того, чтобы он сохранил для меня эти блага, которых я недостойна?!
И Дженни возвела к Небу свои чудесные голубые глаза и воздела обе бело-розовые руки, которые я покрыл горячими поцелуями, в то время как она негромко молилась.
Затем подобно любопытному ребенку, спешащему насладиться новым подарком, она, прыгая от радости, воскликнула:
– Ах, до чего же милое фортепьяно!.. И как же щедр мой отец!.. Посмотрим теперь, столь же хорошо звучит инструмент, как он выглядит!
И в ту же секунду с уверенностью, легкостью и гибкостью, присущими настоящему музыканту, она пробежала пальцами по клавишам, извлекая блистательный и гармоничный аккорд.
Я замер в изумлении. Я слышал, как г-н и г-жа Смит говорили о музыкальном таланте их дочери, но не придавал значения их словам, и вот при первых же звуках инструмента я понял: передо мной законченная пианистка.
– Но, – сказал я, – удивительное это дело, дорогая Дженни!..
– Что именно? – спросила она, повернувшись ко мне.
– А вот что: читая стихи Грея, ты доказала мне, что ты не чужда поэзии; показав мне свой очаровательный рисунок домика, ты доказала мне, что ты художница, и вот сегодня одним-единственным аккордом ты доказываешь мне, что ты пианистка! Скажи мне, как ты всего этого достигла и почему я ничего об этом не знал?! Это тоже были сюрпризы, которыми ты хотела меня удивить?
– Послушай, – ответила мне жена, – помнишь ли ты ту, ту незабываемую поездку в Ноттингем, когда матушка превратила меня в городскую даму, вместо того чтобы позволить мне остаться самой собой, то есть простой деревенской девушкой?
– Да… то был счастливый для меня день, поскольку с него начинается мое счастье.
– Так вот! Поэзия, живопись и музыка представляли собой замаскированные батареи, которые должны были поочередно давать залп, чтобы принудить господина Уильяма Бемрода сложить оружие и безоговорочно сдаться на милость своего победителя, мисс Дженни Смит. Правда, в начале боя господин Уильям Бемрод благодаря неожиданной военной хитрости сорвал мой план сражения, и в конце дня, как я и опасалась, триумфатором стал он, а мисс Дженни Смит оказалась побежденной; счастливое поражение, которым я горжусь больше, чем победой, поскольку именно моей смиренности и моей слабости я обязана твоей любовью! Следовательно, дорогой Уильям, с того времени, как ты полюбил меня такой, какая я есть, зачем искать чего-то иного?! Я есть и буду такой, какой ты хочешь меня видеть. Кладбище, куда ты меня привел, напомнило мне стихи Грея, и я прочла эти стихи наизусть; высказанное тобою желание заставило меня взять в руку кисть, и я нарисовала пейзаж, как ты того захотел; неожиданный подарок моего отца подставил под мои пальцы клавиши фортепьяно, и пальцы сами собой коснулись клавиш и извлекли аккорд, который ты только что услышал… А теперь, дорогой Уильям, будешь ли ты рад, если я стану хорошей хозяйкой дома, совсем простой и невежественной? Я забуду стихи, снова спрячу в шкаф коробку с красками, закрою фортепьяно, и не будет даже речи о поэзии, живописи или музыке? Желаешь ли ты этого? Только скажи – и все будет тотчас исполнено.
– О нет, нет! – воскликнул я, прижав Дженни к груди. – Оставайся такой, какой тебя создали природа и воспитание, дорогая Дженни! Древо моей радости, я потерял бы слишком много, если бы ветер оборвал твою листву или солнце иссушило бы твои цветы!.. А теперь давай посмотрим стихи и музыку господина Смита.
Признаюсь, дорогой мой Петрус, эту последнюю фразу я произнес не без иронии.
Мне было любопытно послушать стихи и музыку деревенского пастора, будто сам я не был таким же простым и смиренным священником.
Но, как я Вам уже говорил, у каждого есть свой излюбленный грех, и я очень боюсь, как бы моим излюбленным грехом не оказалась гордыня.
XXVIII. День рождения
Мелодия предварялась ритурнелью.[297]
Дженни начала играть пьесу и завершила ее с безупречной точностью: поистине, жена моя была великолепной пианисткой.
Затем наступила очередь куплетов, и тут из ее уст полились звуки – нежные, гармоничные и прозрачные.
Благодаря Дженни поэт обрел те же самые достоинства, что и композитор, так как ни одна нота не оказалась пропущенной, ни одно слово – утраченным.
К великому моему изумлению, пьеса, хоть и простая, сочинена была искусно и немного напоминала мне старинную немецкую музыку.
Что касается слов, то должен признаться, дорогой мой Петрус, они меня очаровали.
Они представляли собой нечто вроде басни, озаглавленной «Дерево и цветок».
Старый дуб дает советы юной розе, которая родилась под его сенью, спасавшей ее от ветра и солнца; дуб, потеряв уже свою листву и предчувствуя, что вскоре он падет под ударами топора в руке страшного дровосека, который зовется смертью, объясняет бедной розе-сиротке, как ей выжить, когда его не будет на свете.
По мере того как первый куплет сменялся вторым, а второй – третьим, я все ниже склонял голову, понимая, что здесь пребывает сама естественность.
Эти три куплета, должно быть, потребовали у г-на Смита не больше часа работы, в то время как я, стремившийся творить искусство, смешивая современность с античностью, элегичность с лиризмом, трудился три дня, но так и не достиг цели.
Поэтому, когда Дженни закончила, когда угас последний слог песни, когда улетела последняя нота ритурнели, Дженни, несомненно не понимая причин моего молчания, повернулась в мою сторону, пытаясь понять, что со мной происходит.
Весьма озабоченный, я стоял, опустив голову и скрестив руки на груди.
– Друг мой, – обеспокоенно спросила Дженни, – что это с тобой?
Я покачал головой, как человек, которого вырывают из глубокого раздумья.
– Дело в том, дорогая моя Дженни, что я, как мне стало понятно, настоящий глупец.
Дженни улыбнулась.
– Ты глупец, мой Уильям, ты, кого мой отец считает таким ученым человеком?
– Пусть так, но я, Дженни, при всей моей учености, только то и делаю, что совершаю глупости… Твой отец подарил тебе клавесин, а я, Дженни, хотел дать тебе то, что оказалось мне не под силу…
– Дорогой мой возлюбленный, – воскликнула Дженни, – что такое ты говоришь?
– Позволь мне закончить… Ведь твой отец сочинил для тебя романс – и музыку и слова. Я не музыкант, и потому не мог сочинить музыку. Но, в конце концов, я поэт – к сожалению, поэт сатирический, по-видимому, – и мог сочинить для тебя стихи. Так вот, я призвал себе на помощь все свое мужество и попытался сочинить стихи.
– О, я это знаю! – вырвалось у Дженни.
– Как, ты это знаешь?
– Разумеется… Вчера вечером, а вернее сегодня ночью, когда я вошла в твою комнату, на твоем письменном столе прямо перед тобой лежал лист бумаги с написанными на нем словами: «К Дженни! Эпиталама по случаю дня ее рождения…»
Я не удержался от вздоха.
– Так что я не ошибался, – прошептал я, – и этот лист бумаги действительно существовал!..
– Да, к счастью, существовал, дорогой мой Уильям, так как этот листок показал мне, что виновницей твоей озабоченности явилась я.
– О да, да, дорогая Дженни, – подтвердил я, – ты и в какой-то мере этот жалкий господин Стифф… О, если бы природа сотворила меня поэтом элегическим, а не сатирическим, о Дженни, какую эпиталаму нашла бы ты, проснувшись!
– А разве я ее, по сути, не нашла, мой любимый Уильям?! – сказала Дженни. – Неужели ты думаешь, что на этом чистом листе я не прочла о той любви, какую хотело излить на него твое сердце, и не увидела все те цветы, какими хотела его усыпать твоя душа?!
И она извлекла из-за корсажа злополучный лист бумаги, занимавший накануне все мои мысли.
– Держи, видишь, это твой лист бумаги… Я, конечно же, увидел его и узнал.
– Для всего мира, – продолжала моя жена, – это всего лишь нетронутый лист бумаги, который ни о чем не говорит, но для меня он очень красноречив, полон обещаний, усыпан трогательными уверениями и нежными благодарностями… Видишь ли, этот листок есть не что иное, как договор о нашем счастье, подписанный на чистом листе; это больше, чем могло бы мне дать твое перо, если предположить, что твое перо написало бы все то, что продиктовало твое сердце твоему воображению.
– Ах, Дженни, Дженни! – воскликнул я, со стыдом чувствуя, как мало я стою в сравнении с нею. – Из нас с тобой настоящий поэт – это ты, и я уверен, что, если бы ты захотела, слова потекли бы из-под твоего пера, как они текут из твоих уст и твоего сердца.
И, крепко обняв ее, я поднял глаза к Небу, чтобы поблагодарить его за такой дар.
– О, браво, браво, Бемрод! – раздался голос у двери. – Мне очень нравится, когда так празднуют день рождения!
Я живо обернулся.
То был г-н Смит, собравшийся в путь еще на рассвете и в сопровождении супруги прибывший отпраздновать вместе с нами столь дорогой для нас день.
Дженни улыбнулась, не оборачиваясь: она узнала голос своего отца.
Но как только я разомкнул кольцо своих рук вокруг ее стана, Дженни бросилась к родителям.
Первой она поцеловала мать.
– Дорогая матушка, – сказала она, – поблагодари папу за его чудесный подарок, который я увидела, как только проснулась.
Оценив деликатность дочери, прибегнувшей к ее посредничеству, чтобы выразить благодарность отцу, добрая г-жа Смит со слезами на глазах пробормотала ему несколько слов.
– Дорогой отец, – в свою очередь произнесла Дженни, обвив шею старика обеими руками, словно ребенок, – какие чудесные стихи, какую очаровательную музыку вы мне прислали! И если бы вы знали, с каким удовольствием я спела ваше сочинение, аккомпанируя себе на этом великолепном клавесине! Подойдите сюда и посмотрите!
И она указала рукой на фортепьяно.
Затем она села за инструмент и с большей уверенностью, чем в первый раз, своим свежим и бархатистым, словно у певчей птицы, голоском принялась напевать слова романса.
Но закончить ей не удалось: на третьем куплете у нее на глазах навернулись слезы и перехватило горло; она доиграла мелодию по памяти, откинув голову назад, заливаясь самыми прекрасными, быть может, в своей жизни слезами и шепча:
– Отец мой! Добрый мой отец!
– Да, да, девочка, – отозвался г-н Смит, – ты думала перехитрить своего старого отца, притворившись, что уже не интересуешься музыкой, но он ведь знает свою дочь и догадался обо всем, а особенно о том, что у нее на сердце… Он знает, как страстно ты любишь музыку, а ведь ты не попросила у меня твой старый клавесин, потому что это и мой верный товарищ, и только мы с ним можем понять друг друга. Ты сказала себе: «Клавесин очень дорог; бедные мои родители, выдавая меня замуж, сделали для меня все, что могли; мой дорогой Бемрод, которому его талант в один прекрасный день принесет богатство, пока еще остается неизвестным миру гением; так вот, рядом с Бемродом я предпочитаю выглядеть невеждой в сфере музыки, а в присутствии моего старого доброго отца не выказывать беспокойства по этому поводу». И когда этот добрый отец говорил тебе: «Как ты можешь, Дженни, обходиться без музыки?», ты отвечала: «Дорогой папа, матушка права, когда говорит, что поэзия, живопись и музыка – это уже не то, чем должна заниматься замужняя женщина». Да, да, все это верно, все прекрасно, однако, я в конце концов стал скучать, не слыша больше свою ученицу… Так вот теперь я ее услышал и вижу, что она ничего не забыла… Обнимите меня, сударыня; отныне музыка будет звучать и в доме вашего отца и в доме вашего мужа.
Дженни соскользнула со своего стула, упала к ногам отца и обняла колени старика, который поспешно ее поднял и прижал к груди.
О дорогой мой Петрус! Земная и плотская любовь мужа к жене, конечно же, весьма сладостна, и чувство это существует в природе по воле Божьей; но любовь дочерняя, но любовь родительская – вот два вида любви поистине ангельской! И они оставляют супружескую любовь далеко позади – подобно тем прекрасным недвижным звездам, которые неизменно сияют в небе, поддерживаемые и питаемые собственным светом, и оставляют далеко позади нашу бедную малую планету, вращающуюся и дрожащую в своем уголке Вселенной, благоговейно принимая солнечный свет.
Однако, говоря Вам это, я забываю, что Вы не можете иметь представление ни о той, ни о другой любви, поскольку Вы холостяк и никогда не имели иной жены, кроме философии, иной дочери, кроме науки.
Госпожа Смит увела Дженни.
Наступают такие минуты, когда необходимо преградить путь самым нежным чувствам: если и дальше дать им волю, они могут причинить боль.
Дорогой мой Петрус, дело в том, что радость и счастье не более чем лак на поверхности нашего сердца.
Копните поглубже – и у любого человека вы обнаружите колодец печали, в глубине которого беспрестанно сочатся слезы!
Да к тому же у матери всегда найдется что сказать дочери, живущей в замужестве всего лишь три месяца!
К сожалению, дорогой мой Петрус, Дженни еще не могла сообщить ей ту важнейшую новость, какую молодые жены с такой радостью объявляют своим матерям; я и вправду начинаю бояться, как бы и с моим отпрыском не получилось точно так же, как со всеми этими великими творениями, заглавия которых я начертал в минуты вдохновения, но которые так и остались чистыми листами бумаги, если не считать самих заглавий, свидетельствующих о моих благих намерениях.
Пусть будет так, как угодно Господу; а пока это заглавие только начертано, как и предыдущие.
Если у нас родится девочка, мы назовем ее Дженни Вильгельмина, если мальчик – Джон Уильям. Таким образом, независимо от пола ребенка, ему будут покровительствовать оба наших имени, крестообразно прочерченные на его голове.
Может быть, я действовал ошибочно, заранее подбирая имена для наших бедных детей; быть может, именно такое и приносит несчастье…
Мы вполне спокойно беседовали с г-ном Смитом, когда неожиданно к нам вернулась Дженни, вся бледная, взволнованная, встревоженная.
– О мой добрый, мой замечательный отец! – воскликнула она.
И она обняла его, рыдая, не в состоянии промолвить больше ни слова.
Госпожа Смит вошла вслед за дочерью, смахивая с ресниц слезинки.
Мне прежде всего пришла в голову мысль о какой-то настоящей беде.
Я встал и спросил:
– Боже мой, что случилось?!
– Да ничего, мой дорогой Бемрод, ровным счетом ничего, – сказал пастор, слегка пожав плечами и с упреком взглянув на супругу, в то время как Дженни продолжала шептать: «Мой добрый отец! Дорогой мой отец!»
– Но все-таки… – настаивал я.
– Да успокойтесь же! Дело вот в чем: госпожа Смит не сумела придержать язычок, госпожа Смит проговорилась, и Дженни теперь плачет… Фи, болтунья, фи!
– Но, в конце концов, почему же плачет Дженни? – спросил я. – Я совсем ничего не понимаю…
Госпожа Смит подошла ко мне поближе и объяснила:
– Ну, что же! Дженни плачет потому, что я все ей сказала. Вот и все!
– Но что же вы ей сказали?
– Пустяки, о которых лучше было бы умолчать, – прошептал г-н Смит.
– Пустяки?.. О добрый мой отец! – воскликнула Дженни. – Скажи, матушка, скажи Уильяму о том, что папа сделал для меня.
– Ох, ей-Богу, сейчас я сам скажу вам об этом, дорогой зять, – продолжал г-н Смит. – Ведь в устах госпожи Смит этот рассказ был бы таким же длинным, как рассказ Франчески да Римини,[298] поведанный великому Данте, и, пока госпожа Смит говорила бы, мне бы пришлось плакать, чтобы не нарушить традицию. Заявляю вам, что сегодня я не испытываю и тени печали, ни по какому поводу. Итак, вот что, собственно говоря, произошло. Три месяца тому назад, чтобы не лишать меня моего старого клавесина, Дженни сказала мне, что музыка ее больше не интересует, а я тогда же сказал жене, что от вина мне плохо, так что вместо четырех стаканов вина в день я теперь пью не больше одного. Благодаря этой скромной экономии я сумел отложить сотню шиллингов и внес ее в качестве задатка за клавесин, взяв на себя обязательство выплатить остальную сумму из расчета тридцать шиллингов в месяц.
– И как ты думаешь, Уильям, – спросила Дженни, – разве тут не от чего пролить слезы благодарности?
– Разумеется, – отозвался ее отец. – Мать рассказала это тебе сегодня, и вот плачешь ты, плачет твоя мать и, если ты будешь продолжать в этом же духе, Уильям расплачется тоже… Расскажи об этом у двери в дом, и плакать будет весь приход, и чем дальше, тем больше – Англия будет плакать, Шотландия будет плакать, Ирландия будет плакать, три королевства будут рыдать, и Европа будет рыдать, и Земля и ангелы!.. Хорошенькая история, ей-Богу! Довольно! Хватит, дочь моя, музыки, поэзии и слез… и, поскольку ты хозяйка дома, приготовь-ка нам завтрак!
Дженни вытерла слезы и обняла отца.
Госпожа Смит осушила платочком глаза и обняла дочь.
Затем обе они пошли в кухню заняться приготовлением завтрака.
А мы, взяв наши трости, вышли из дома, чтобы перед лицом творения возблагодарить Творца, такого великого и доброго, за то, что он устраивает нам подобные семейные праздники.
Ах, дорогой мой Петрус, порой я думаю о том, что наши бедные собратья, католические священники, не имеют ни жены, ни детей; о том, что и в радости и в горе они обособлены и одиноки на земле, и я говорю себе, что они страдают не меньше нас, но никогда не смогут быть столь же счастливы, как мы!
И это еще не все. Как могут они утешить вдову в трауре и дочь в слезах?! Никогда не испытав таких же мук, как другие люди, как могут они найти слова, которые шли бы от сердца к сердцу?! Ведь только свои зажившие раны, дорогой мой Петрус, позволяют замечать открытые раны других людей!







