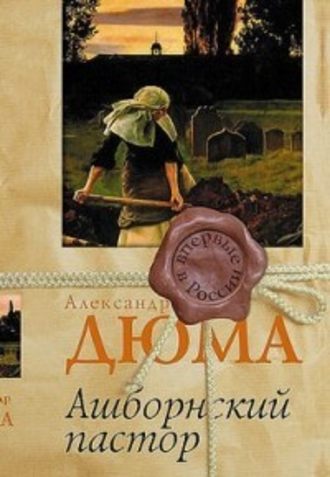
Александр Дюма
Ашборнский пастор
XII. Предосторожности
После возвращения Дженни жизнь в доме вошла в привычную колею.
Жена оставалась радостной и полной надежд.
А я был мрачным и озабоченным, поскольку думал только о даме в сером.
Я держал слово, данное самому себе, и, хотя испытывал острое желание рассказать Дженни о моем походе в замурованную комнату, ибо такой рассказ доставил бы моей гордыне немалое удовлетворение, я все же об этом не обмолвился ни словом.
Но жена видела мою озабоченность; она заметила, что кирпичи в кладке, которая замуровывала комнату дамы в сером, соединены свежим известковым раствором, и спросила об этом Мэри.
Мэри, которая, вероятно, умирала от желания обо всем рассказать хозяйке, так же как Дженни умирала от желания все узнать, описала происшедшее во всех подробностях.
Дженни тут же прибежала ко мне. С первых ее слов я понял, что она знает все.
Я заставил ее повторить рассказ Мэри от начала до конца и внес поправки в кое-какие слишком уж наивные его места, которые, быть может, не полностью представляли меня – я не скажу таким, как я сам себя видел, но таким, как я хотел бы выглядеть в глазах Дженни; ведь, по моему мнению, а Вы, дорогой мой Петрус, уверен, разделяете его, – так вот, по моему мнению, правильный расчет состоит в том, чтобы выглядеть в глазах женщины только во всех своих достоинствах и во всем том превосходстве, какое мужчина должен всегда сохранять по отношению к женщине.
К моему большому удивлению, вся эта фантастическая одиссея не очень-то заинтересовала Дженни; она видела в проклятой комнате только ее материальную сторону, то есть полураспавшиеся ставни, свисающие лохмотьями обои, продавленную кровать, открытые настежь пустые шкафы, несколько кусков веревок, валяющихся на полу, и одежды, подвешенные на гвозде.
Когда я упомянул о том, как они неожиданно упали, Дженни сочла это вполне естественным.
– А что тут удивительного? – сказала она мне, сопровождая слова своим простодушным взглядом и доверчивой улыбкой. – Что удивительного в том, что гвоздь, изъеденный ржавчиной, выдерживавший груз в течение трех веков, сломался при малейшем сотрясении этого груза?..
Сломанный гвоздь удивлял не более того, что в силу закона притяжения, согласно которому твердые тела, лишившись опоры, падают вниз, куча одежды упала на пол.
Что касается пыли, поднятой падением одежды, в ней не было ничего необычного, если принять во внимание помещение, наглухо закрытое на протяжении трех столетий, и чудом было бы отсутствие здесь пыли.
Само собой разумеется, обладая таким рассудительным умом, Дженни не допускала и мысли о шкафах, дверцы которых открываются сами по себе; о веревках, оживающих и свивающихся на полу; об одеждах, взбирающихся по стене и возвращающихся к своему прежнему месту на трехсотлетнем гвозде.
Такой эпилог этой удивительной истории она посчитала творением ума, плодом воображения, то есть она признала гений поэта, но оспорила правдивость его рассказа.
Однако, допуская, что у всех этих треволнений есть причина, и видя мое глубокое и серьезное беспокойство, Дженни решила помочь мне, тем более что она была в силах докопаться до его источника; в этом ее поддерживала уверенность, что по мере нашего приближения к реальности сама эта реальность вытесняет из предания все устрашающее в нем и предоставляет нашим философическим рассуждениям какой-нибудь почти ничтожный факт.
Я же продолжал копаться в церковных документах и в общинных архивах; но, тщетно листая страницу за страницей всякие акты и книги записей, я не нашел ничего иного, кроме уже упомянутой заметки доктора Альберта Матрониуса, магистра богословия, – заметки, как Вам известно, касающейся восстановления небольшого каменного креста в углу местного кладбища.
Что касается замурованной двери, то она мало-помалу высохла и никакая трещинка на ней не указывала на то, что дама в сером предпринимала попытки ее открыть.
Тем временем беременность Дженни становилась все более явной; в начале июня она была уже на шестом месяце. В результате собственных расчетов я с радостью увидел, что случай, а скорее Провидение, сочетало сроки таким образом, что Дженни должна была родить раньше злополучной ночи с 28 по 29 сентября, отделяющей день святой Гертруды от дня святого Михаила, ночи, когда дама в сером имела обыкновение появляться.
Однако, поскольку в конце концов нигде не было сказано, что дама в сером может явиться только в эту ночь, меня эта вычисленная дата окончательно не успокоила и, полагая необходимым, что ее появление будет действенным лишь тогда, когда она предстанет перед отцом или матерью детей, жизни которых она угрожала, я старался, чтобы ни Дженни, ни я не оказались на пути от замурованной комнаты к эбеновому дереву, а это, напомню, был ее обычный маршрут.
А потому я изменил часы своей работы. Дженни часто бранила меня за то, что я работал по ночам, а не днем, и в интересах моего здоровья высказывала беспокойство по поводу того, что я в столь позднее время ложусь в нашу постель.
Однажды вечером я заявил жене, что полностью разделяю ее упреки по моему адресу, к которым она больше не возвращалась, считая, вероятно, их бесполезными, и что отныне я желаю, чтобы в девять вечера в пасторском доме все, даже я сам, укладывались спать. Таким образом, я мог бы подыматься до рассвета и со свежими силами чередовать свои литературные и философские труды, которым предстояло приобрести большой размах с того времени, когда мой ум освободится и я смогу отдаться работе над моим великим произведением, исполняя при этом обязанности, налагаемые на меня моей должностью и моим званием.
Дженни не спросила меня о причине такой перемены; она приняла ее с радостью, ибо видела, что точно так же все происходило в Уэрксуэрте: то просто был привычный ей с детства жизненный уклад, к которому она охотно вернулась.
Благодаря моей новой уловке я уже не рисковал, как прежде, по пути из кабинета в комнату жены встретиться с дамой в сером – во всяком случае, мне хотелось в это верить, – ибо дама в сером появлялась только в полночь.
Дорогой мой Петрус, Вы, вероятно, можете сказать мне: дама в сером могла точно так же появиться в комнате Дженни, как и на лестнице, в коридоре или в саду; но я Вам отвечу: с тех пор как мне пришла в голову мысль сочинить большой труд о привидениях, я основательно изучил нравы призраков; в общем, у них тоже есть вполне определенные привычки, от которых они так легко, как я, не отказываются, а поскольку дама в сером привыкла выходить из своей комнаты, спускаться по лестнице, проходить через сад и усаживаться под эбеновым деревом, я надеялся, что она достаточно упряма для того, чтобы не изменять своим привычкам.
Впрочем, если бы она попыталась явиться мне, когда я спал, не знаю, как бы она ухитрилась это сделать: в число моих новых обыкновений входила манера спать, укрыв голову одеялами; сначала я терпел это с трудом и не раз был близок к тому, чтобы задохнуться; но в конце концов я преодолел эти неудобства и приучил себя вдыхать во время сна в три раза меньше воздуха, чем во время бодрствования, а это, дорогой мой Петрус, представляется мне немаловажным для науки фактом, и, если Вы упомянете его в каком-нибудь труде, я не вижу ничего плохого в том, что Вы присоедините к нему мое имя.
Итак, каждый день в девять вечера мы неизменно отправлялись на покой; следовательно, в полночь я всегда спал, а если не спал, то, по крайней мере, притворялся спящим, и глаза мои были закрыты не крепостью сна, а усилием моей воли.
Так что, отвечаю Вам, сила воли во мне настолько окрепла, что все в мире дамы в сером не смогли бы заставить меня откинуть одеяло или открыть глаза.
Дженни, не подозревавшая, с чем связана эта моя предосторожность и два-три раза видевшая, как я задыхаюсь из-за недостатка воздуха, попыталась с присущей ей мягкостью сделать мне несколько замечаний по этому поводу, но в ответ я ей привел примеры некоторых великих людей, поступавших таким же образом.
Эпаминонд,[478] имел привычку спать, с головой укутавшись в свой плащ, а чувствительный к холоду Август[479] не снимавший, как знает каждый, шерстяные чулки даже в кровати, всегда спал, натянув на голову одеяло.
Как Вы догадываетесь, скромная Дженни умолкла, услышав подобные имена, и позволила мне брать пример – по крайней мере, по этой части – с этих двух великих людей.
Впрочем, такие ухищрения вовсе не помешали тому, что по мере увеличения срока беременности жены тревоги мои усилились.
Наконец, наступили первые дни августа, не принеся с собой никаких перемен ни в состоянии Дженни, ни в наших домашних привычках.
В это время жена заявила мне, что, по всей видимости, ошиблась на неделю или две и что разрешение от бремени должно быть более близким, чем она предполагала ранее.
Учитывая это, я предупредил милфордского врача, уже приходившего в Уэстон во время моей горячки, чтобы он был готов принять роды в один из ближайших дней или в одну из ближайших ночей.
Врач, два визита которого я оплатил вполне щедро, ответил мне, что будет наготове и явится в пасторский дом по первому нашему зову.
Когда я ему сообщил, что его услуги потребуются в один из ближайших дней или в одну из ближайших ночей, Вы прекрасно понимаете, как охотно я отдал бы предпочтение дню перед ночью.
Ночью дама в сером могла бы появиться, воспользовавшись темнотой, в то время как днем, так мне хотелось верить, она, зная мой твердый характер, не осмелилась бы показаться.
Быть может, дорогой мой Петрус, Вы могли бы напомнить мне, что до Милфорда две добрых мили и, следовательно, две таких же мили обратного пути; что, таким образом, пока мой посланец сначала, а врач затем проделают каждый свой путь, Дженни, особенно если врач по воле случая вовсе не явится к ней, пришлось бы долго терпеть муки.
А я скажу Вам в ответ, что это не я определил географическое положение деревни Уэстон и это не я помешал ей иметь рождаемость достаточно большую для того, чтобы врач счел целесообразным поселиться здесь.
Кроме того, из-за отсутствия в деревне врача, здесь имеется повивальная бабка, помощи которой в обычных случаях крестьянам вполне хватало.
Так что сначала придется послать за этой повивальной бабкой и под ее присмотром бедная Дженни так или иначе приблизится к критическому моменту и дождется доктора.
Впрочем, превосходно сложенная, замечательно сильная духом, Дженни могла опасаться только обычных осложнений.
Я думаю, дорогой мой Петрус, женщина вышла из рук Господа исключительно с целью сохранить род людской, и какова бы ни была любовь мужа к своей жене, ему не следует предаваться преувеличенным страхам, когда его супруга под Божьим оком и по законам природы выполняет дело, для которого она и была создана.
Так что меня куда больше беспокоил вопрос о часе, когда наступит это событие, нежели каким образом оно завершится.
Но можно сказать, что Господь сам по милости своей пошел навстречу моим чаяниям.
Утром 15 августа, около семи часов, Дженни почувствовала приближение первых схваток.
Сначала я поспешил отыскать Мэри и велел ей сходить за повивальной бабкой.
Пять минут спустя обе женщины уже сидели у постели моей дорогой жены.
Я решил сам сходить в Милфорд, поскольку, вне всякого сомнения, никто другой не дойдет туда быстрее меня; тем не менее я хотел отправиться в путь только после того, как в доме появятся Мэри и повивальная бабка.
Вы холостяк, дорогой мой Петрус, и потому не ведаете, что в такие минуты надежду зовут, обращаясь во все стороны, и откуда бы надежда ни пришла, она благословенна.
Поэтому, увидев входящую в дом повивальную бабку, я бросился к ней и, указывая ей на Дженни, улыбавшуюся мне, чтобы скрыть боль первых схваток, сказал:
– Вот женщина, которую я вверяю вашим заботам на то время, пока я сам отправлюсь в Милфорд просить доктора о помощи. А вы, тетушка, действительно верите, что она в силах произвести на свет ребенка?
– В силах произвести на свет ребенка! – воскликнула повитуха. – Ах, вполне верю, господин Бемрод, и даже вероятнее двух, чем одного!
Признаюсь Вам, дорогой мой Петрус, удар поразил меня точно в сердце, я едва сумел удержаться от крика и почувствовал, как от ужаса пот каплями выступил на моем лбу, и, если бы была ночь, я ни за что не отважился бы выйти из дому.
Но за окнами сиял день, и я взял трость и шляпу. Я поцеловал Дженни, а она прижала меня к груди и прошептала:
– Возвращайся поскорее, друг мой!
И я бросился вон из комнаты, тоже шепча:
– Вероятнее двух, чем одного… Вероятнее двух, чем одного! Пусть черт тебе шею свернет, старая колдунья!
XIII. Вечный жид
Прекрасно знаю, дорогой мой Петрус, то было недоброе пожелание, особенно из уст служителя Церкви; но что Вы хотите, если ответ этой женщины вывел меня из себя.
Раздражение, в котором я пребывал, имело и свою хорошую сторону: оно возбудило мою нервную систему и, хотя я этого и не заметил, удвоило скорость моей ходьбы, не давая мне ощутить ни малейшей усталости; мои мышцы казались мне стальными, а ноги шагали с проворством и быстротой совершенно механическими.
Если бы у меня была длинная борода вместо бритого подбородка и я был бы облачен в тунику, а не в короткие штаны, прохожие приняли бы меня за Вечного Жида, героя старинной французской песни.[480]
Так размышлял я о самом себе, считая свои широкие шаги, которые измеряли расстояние, подобно огромному циркулю.
А что касается этого размышления, на которое натолкнул меня случай, оцените, дорогой мой Петрус, богатство человеческого воображения вообще и щедрость моего собственного – в частности.
Как только моя мысль остановилась на поэтическом образе Вечного Жида, как он тут же ожил и вырос перед моим внутренним взором, так же как в глазах Камоэнса.[481] – видение великана Адамастора[482]
Мне казалось, что писатель, который взялся бы за этот вымысел о Вечном Жиде;[483] с точки зрения легенды; который воплотил бы в бессмертном носителе проклятия прогресс человеческого разума; который провел бы Вечного Жида через столетия то ко двору Нерона, то ко двору Карла Великого, а затем Филиппа II[484] и Людовика XIV[485] который вообразил бы события будущего и развязку, подобную той, какую Священное писание предрекает человечеству во время всемирного потопа;[486] мне казалось, повторяю, что поэт, который заставил бы прикоснуться к этому человеку, воплощающему раскаяние, ангела, воплощающего безгрешность; который изобразил бы ангела, влюбленного в человека, но влюбленного по-ангельски, то есть питающего к нему жалость и сострадание, – мне казалось, что такой поэт сотворил бы прекрасную книгу, притом не «Илиаду», не «Энеиду», не «Божественную комедию», не «Потерянный рай», не «Дунсиаду», но книгу своеобразную, занимательную, преисполненную живописности и поэзии, книгу, где стиль менялся бы в соответствии с эпохами, а краски – в соответствии с веками.
И, шагая все увереннее, я говорил себе:
«А почему же я сам не сочиняю эту книгу? Кто мне в этом мешает? Кто этому противится? Разве Господь не даровал мне необходимые для творчества образованность, воображение и поэтическое чувство? Разве я не изучил человека во всех его обличьях и творчество во всех его тонкостях? Разве я не нахожусь на уровне прогресса человеческого разума? Пусть я еще не создал ни эпической поэмы, ни трагедии, ни драмы, ни философского трактата, ни исторического труда, но разве я не поэт, не трагик, не драматург, не философ, не историк? Да, я все это вместе! И более того: если книга еще не создана, так это потому, что не пришел тот, кто должен ее создать; и этим человеком, с Божьей помощью, будет не кто иной, как я! И первое, что я хочу сделать по возвращении домой, так это написать заглавие своего труда и оповестить о моем замысле как можно большее число людей, с тем чтобы никто не позаимствовал моего сюжета.
Таким образом, это заглавие станет моей собственностью, и никто в Англии, зная, что доктор Уильям Бемрод раньше или позже возьмется за разработку данного сюжета, никто не посмеет им воспользоваться».
Простое разделение сюжетной линии на отдельные эпохи поглощало меня настолько, что я дошел до Мил форда, даже не заметив пройденного пути.
У окраины города я остановился и поднес руку ко лбу, как это делает всякий приходящий в себя человек.
Изумительный сюжет, только что найденный мною случайно, как почти всегда находят бесценные сокровища, настолько завладел моим воображением, что вытеснил из сознания все другие мысли, и я совсем забыл, что мне предстояло делать в Милфорде.
На один миг я подумал было, что надо повернуть обратно в Уэстон, чтобы вновь связать разорванную нить моих мыслей; но в конце концов огромным усилием воли я опомнился и вернулся к реальной жизни.
Я пришел сюда, так как моя дорогая добрая Дженни мучится родами.
Я ускорил шаг, чтобы как можно скорее дойти к дому врача.
Оказалось, что он куда-то вышел, и мне пришлось с полчаса его ждать.
От нетерпения я уже было собрался обратиться к другому врачу, но тут появился тот, кого я ждал.
Я сообщил ему цель моего визита, и он тотчас велел седлать коня и, догадавшись по моей запыленной одежде, что я шел пешком, предложил мне сесть сзади него.
Но, знаете ли, дорогой мой Петрус, усиленно развивая свой собственный разум, я слишком мало занимался телесными упражнениями и признал себя наименее способным как раз к верховой езде. Так что я отказался от любезного предложения доктора, сославшись на то, что, перегрузив коня, задержу всадника, а ведь моя дорогая Дженни нуждается самым срочным образом в его врачебных услугах.
И к тому же, признаюсь, будучи стойким, как Зенон,[487] по отношению к собственной боли, я чувствую себя беспомощным младенцем при виде мук другого человека, особенно когда этот человек – частица моего сердца, живущая в другом теле. Так что в своем эгоизме я хотел добраться домой тогда, когда все уже будет закончено, впрочем, не волнуясь насчет возможных серьезных осложнений, поскольку эта несчастная повитуха была уверена, что телесное сложение Дженни позволяет ей родить не то что одного, а скорее даже двух младенцев.
Подталкиваемый моими доводами, а в особенности ссылкой на необходимость срочной поездки, и довольный, наверно, еще и тем обстоятельством, что ему не придется обременять коня дополнительным грузом, опасным для крупа бедного животного, доктор задержался на минуту только для того, чтобы выпить со мной по стаканчику портвейна за счастливое разрешение Дженни от бремени, и, пришпорив своего коня, понесся галопом по направлению к Уэстону.
Я отправился в путь вслед за ним.
Идея сравнить самого себя с Зеноном не выходила у меня из головы, и мое воображение перенеслось в прекрасные времена античности. Я спрашивал себя, почему эта античность, столь восхитительная, столь мудрая, столь полная утонченности и изысканности у Алкивиада и Перикла, столь полная твердости у Кратета,[488] и Диогена[489] вся насквозь материалистична, за исключением Сократа и Платона.
Таким образом, все вплоть до названия стоическая, данного философской школе, главой которой был Зенон, представляет в античности материалистическую идею; ведь нет нужды напоминать Вам, дорогой мой Петрус, что слово стоик происходит от атоа, что означает «портик», и это потому, что школа Зенона располагалась под знаменитым афинским портиком, называвшимся Пойкиле.[490]
Однако у этого Зенона – кое-какие лжеученые спутали его с Зеноном Элейским,[491] который был слушателем у Парменида,[492] и который, стремясь освободить свою родину, попал во власть некоего тирана (имя этого тирана мне неизвестно; если в результате Ваших ученых разысканий Вы его открыли, сообщите об этом мне), попал, повторяю, во власть тирана и отгрыз себе язык зубами, чтобы не предать своих сообщников, – однако, говорю снова, у этого Зенона, уроженца Китая на острове Кипре[493] ученика киника Кратета, Стильпона[494] из Мегары[495] и Ксенократа[496] и Полемона[497] из Академии, мы находим некоторые понятия о Боге и душе, хотя он и утверждает, что первоисточник всех наших представлений – наши чувства.
И правда, в естествознании он различает как в отношении человека, так и в отношении мира два принципа: один пассивный – материя, тело; другой активный, животворный – Бог и человеческая душа.
Согласно Зенону, душа представляет собой пылающий воздух, а Бог – огненное начало, распространенное повсюду, которое оживляет всякую вещь и которое по воле Провидения («npovoia») – а ведь он употребляет именно это слово, дорогой мой Петрус, – и которое по воле Провидения управляет всеми существами согласно незыблемым законам порядка и разума; и в этом Зенон отличается от киника Кратета, который, несмотря на свое уродство, женился, как Вам известно, на красивой и богатой Гиппархии,[498] после того как продал все свое имущество и вырученные за него деньги раздал своим землякам; отличается Зенон и от Стильпона, который отрицал реальность отвлеченных понятий и проповедовал, что мудрость состоит в бесстрастности и безучастности, – принцип ложный, но, тем не менее, ослепивший глаза Деметрия Полиоркета[499] до такой степени, что, приказав разрушить Мегару, он велел своим солдатам сохранить в целости дом Стильпона; тогда как, возвращаясь к Зенону, скажу, что он, напротив, близок в своих представлениях о мире к Сократу и Платону, своим старшим и истинным учителям.
Но почему же всегда говорят о боли физической и почти никогда – о боли нравственной?
Дело в том, что божественный утешитель, пришедший сказать человеку: «Царство мое (и, следовательно, твое) не от мира сего»,[500] еще не явился снова.
Воистину, он есть Бог скорбящих, дорогой мой Петрус, и та поддержка, какую он оказывает человеческой слабости, составляет его божественную силу.
Я возвращался, говоря все это самому себе, и память моя, словно друг, негромко беседующий с вами о прошлом, в почти зримом образе шла рядом со мной и говорила мне все то, что я повторяю Вам сейчас, и я уделял ей такое неподдельное внимание, что, ступив на уэстонскую площадь, я остановился, чтобы дать ответ собственной памяти, для которой у моего разума были некоторые возражения.
Итак, моя память и мой разум начали дискуссию, к которой я с интересом прислушивался, боясь пошевельнуться, готовый в качестве беспристрастного судьи отдать предпочтение тому, кто прав, и тут я словно сквозь туман заметил, что на пороге моего дома кто-то делает мне знаки.
Я всмотрелся: то была Мэри – Мэри, звавшая меня не только жестами, но и голосом.
– Ах, господин Бемрод, – кричала мне она, приписывая мою неподвижность нерешительности, а нерешительность – страху. – Ах, господин Бемрод, идите же… все кончено!
– Как это все кончено?! – воскликнул я.
– Да, кончено.
Я бросился к дому.
– Так Дженни родила?
– И благополучно, благодарение Господу, господин Бемрод.
– Ах, как милостив Господь! Как он велик! – произнес я, молитвенно соединяя руки.
И вошел в дом.
У лестницы я встретил врача. На руках он держал младенца.
– Держите, счастливый отец, – сказал он мне, – поцелуйте вашего сына.
– О доктор! – воскликнул я, вырывая из его рук ребенка и прижимая к груди своего первенца. – О доктор! Это сын!.. Доктор, вы сказали истинную правду: я счастливый отец!
И я покрыл новорожденного поцелуями. В эту минуту я услышал крики младенца, доносившиеся из комнаты Дженни.
– О Господи, кто это так пищит? – спросил я, побледнев.
– Ваш второй сын, черт побери! – ответил врач.
– Как это второй?
И я едва не выпустил младенца из рук.
– Конечно же, второй… второй, которого сейчас пеленает повитуха. Госпожа Бемрод родила двух близнецов… Э, да что же вы делаете?!
И он подхватил бедное дитя, держать которого у меня не было больше сил. С громким криком я устремился в комнату жены; Дженни встретила меня с распростертыми объятиями, и я, ни жив ни мертв, упал на колени перед ее кроватью.
– О, два близнеца! Два близнеца! – вырвалось у меня.
– Неужели ты думаешь, – ответила Дженни, – что Господь недостаточно всемогущ, чтобы простереть свою милосердную защиту на этих двух крошечных невинных существ?
– Разумеется, Бог может все, чего захочет, – отозвался я со вздохом. – Но чего захочет Бог?..
– Тсс! Для всех сомнение – это всего лишь сомнение, однако для тебя, друг мой, для тебя, служителя Господня, сомневаться значит богохульствовать! – произнесла Дженни.
Но я, качая головой, чуть слышно повторял:
– Два близнеца! Два близнеца!







