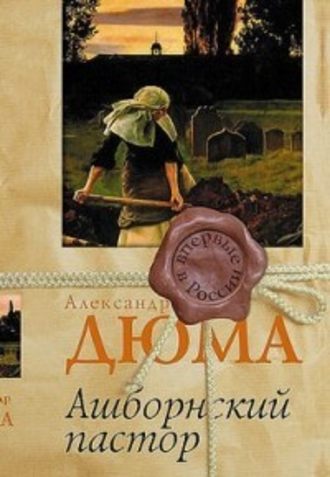
Александр Дюма
Ашборнский пастор
И конечно же подобная предупредительность бунтовщиков была связана вовсе не с доброй памятью, которую лично миссис Байрон оставила в краю, где ее ненавидели.
В апреле 1823 года Байрон вступил в переговоры с Греческим комитетом.[858]
К концу июля он покинул Италию.[859]
Накануне того дня, когда он высадился на греческий берег, он записал на полях взятой у кого-то книги:
«Если все то, что говорят обо мне, – правда, я недостоин снова увидеть Англию; если все, что говорят обо мне, – ложь, Англия недостойна снова увидеть меня».
Это вариант эпитафии, написанной за две тысячи лет до того:
«Неблагодарная отчизна, не тебе достанутся мои кости!»[860]
В конце декабря Байрон высадился в Морее.[861]
Девятнадцатого апреля 1824 года, в шесть вечера, он скончался в Миссолунгах.
Заболел он за четыре дня до этого.
Какой же болезнью?
На этот-то вопрос никогда не могли ответить греческие врачи, по-видимому весьма выродившиеся со времен Гиппократа.
По всей вероятности, поэт умер от той болезни, которую наши врачи называют болотной лихорадкой.[862]
Не желая повторяться, мы отошлем к нашим «Мемуарам» тех, кто захотел бы узнать подробности о последних минутах Байрона.[863]
Сегодня же, когда мы навещаем его последний приют, ограничимся тем, что проследим за возвращением его сюда мертвого, так же как проследили приезд его сюда живого.
Через день после прибытия тела поэта в Лондон гроб был вскрыт.
Врачи сошлись в одном и том же мнении: Байрон умер из-за того, что он отказался от кровопускания.
И это было полной противоположностью тому, что заявил доктор Томас![864] с Закинфа[865]
Гроб с телом был выставлен для прощания с поэтом; но за два дня до этого было объявлено: если толпа окажется слишком большой, вход в траурный зал будет позволен только по билетам.
В день прощания потребовалась помощь полиции. Более трех тысяч людей, знатных и незнатных, с семи до десяти утра ждали, когда откроются двери зала.
Винный спирт довольно хорошо сохранил мягкие ткани тела, за исключением того, что придал им бледность; особенно хорошо сохранились руки: эти руки, которыми так гордился поэт-аристократ, ничего не утратили в своих утонченных формах.
Только волосы тридцатисемилетнего Байрона стали почти седыми. Каждый из этих волос мог бы поведать о страдании!
Когда тело Байрона доставили в Лондон, из сотен глоток вырвался покаянный крик:
– Байрона – в Вестминстер!..
Но Байрон являл собою такую стойкую нравственную, социальную и литературную оппозицию всем английским привычкам, что существовала опасность услышать отказ правительства, и семья поэта заявила, что он будет захоронен в склепе своих предков в Хакналле,[866] около Ньюстеда.
Да и было бы странно видеть, как автор «Марино Фальеро»..[867] уснет вечным сном между Генрихом VIII и Гарриком[868][869]
В двенадцать часов дня похоронный кортеж, покинув Лондон, направился к Ноттингему; никогда еще даже королевский кортеж не собирал на своем пути такие толпы.
Полковник Ли, зять Байрона, возглавлял траурную процессию.
В шести каретах, следовавших на ними, находились самые знаменитые представители английской оппозиции: господа Хобхауз, Дуглас Киннэрд,[870] сэр Фрэнсис Бердетт и О'Мира,[871] врач, лечивший Наполеона на острове Святой Елены.
Затем в собственных экипажах ехали герцог Сассекский,[872] брат короля, маркиз Ленсдаун, граф Грей,[873] лорд Холланд.
Процессию замыкали два греческих посланника.
Греки отправили тело Байрона в Англию, но его сердце оставили в своей стране.[874]
К тому же они заявили, что дочь поэта Ада становится приемной дочерью Греции.
Похоронному кортежу потребовалось пять дней, чтобы из Лондона доехать до маленькой хакналльской церкви, где и были отданы последние почести останкам прославленного поэта.
Его тело опустили в склеп, где уже покоились его предки и его мать. Своего рода ризничий, сумевший понять мою речь лишь в результате моих неимоверных усилий, провел меня в святилище и показал мне беломраморную доску, на которой была выгравирована следующая надпись:
Ниже, в подземелье,
Где погребены несколько его предков и его мать,
Покоится прах
ДЖОРДЖА ГОРДОНА НОЭЛЯ БАЙРОНА,
ЛОРДА БАЙРОНА ИЗ РОЧДЕЙЛА[875]
В графстве Ланкашир,
Автора «Странствий Чайльд Гарольда».
Он родился в Лондоне 22 января 1785 года;
Он умер в Миссолунгах,
В Западной Греции,
19 апреля 1824 года,
Присоединившись к великому делу,
Чьей целью было возвратить Греции
Ее античную свободу и ее былую славу.
* * *
Его сестра,
Достойная Августа Мария Ли
Установила эту доску, посвященную его памяти.
Только у входа в парк я узнал, что Байрон был погребен в хакналльской церкви, а не в склепах старинного Ньюстедского монастыря.
Я поспешил в церковь.
Но, когда это паломничество было совершено, не было еще одиннадцати утра, и я возвратился в замок.
Замок, описанный поэтом, располагался посреди долины с ее тенистыми холмами, руинами аббатства и озером, на берегу которого, по словам Томаса Мура, можно было найти могилу бедного Ботсвена.
Было вполне естественно, чтобы я, списав эпитафию поэту, списал затем эпитафию тому, кого Байрон называл своим лучшим другом.
Я издали узнал надгробный памятник. Около него, опершись на камень, сидела молодая женщина; двое детей в десяти шагах от нее играли в высокой траве. Она трудилась над каким-то шитьем, время от времени поднимая глаза, чтобы следить за детьми и не дать им подойти слишком близко к озеру.
Ее муж неспешно прогуливался с книгой в руке.
Женщина выглядела года на двадцать четыре, ее муж – лет на тридцать, а дети – на пять-шесть; старшим из них был мальчик, младшей – девочка.
Молодая мать была одета во все белое; голову ее украшала широкополая соломенная шляпка, какие носят в кантоне Во;[876] две необычайно густые светлые пряди волос, завитых в букли, ниспадали по обеим сторонам ее головы.
Я назвал бы ее скорее изящной, нежели красивой, и в ее изяществе, как это свойственно англичанкам, было нечто от изящества растений и цветов.
Я подошел к ней и, поскольку она заслоняла собой надпись, как можно более любезно попросил ее позволить мне прочесть эпитафию Ботсвену.
Но тут я увидел, что она ни слова не понимает по-французски.
Я же, хотя и читаю довольно бегло по-английски, никогда не мог произнести ни одной фразы, понятной для британских ушей.
В этом отношении я сознавал всю свою беспомощность; поэтому я не решился произнести те три-четыре слова, которые, будь они написаны, несомненно смогли бы передать мою мысль, но, будучи произнесены, не имели бы никакого смысла для моей собеседницы.
Улыбаясь, она жестом попросила меня набраться терпения и окликнула мальчика, прибежавшего на дважды произнесенное имя Джордж.
Опиравшаяся на руки и ноги девочка смотрела, как удаляется от нее ее брат.
Молодая женщина сказала мальчику несколько слов, и он повернулся в мою сторону, устремил на меня свои огромные голубые глаза, приподнялся на цыпочках, чтобы разглядеть меня получше, и спросил на превосходном французском:
– Сударь, матушка желала бы знать, чего вы хотите?
– Чего я хочу? Сначала, чудное мое дитя, я хотел бы тебя поцеловать, если твоя матушка это позволит.
– О да! – откликнулся он. И он протянул мне обе руки.
Я поднял его и поцеловал в обе милые полные розовые щечки.
Мать улыбалась, глядя на нас.
Мать всегда улыбается, когда целуют ее дитя.
– А чего еще вы хотите? – спросил меня маленький Джордж, когда я опустил его на землю.
– Мне хотелось бы, чудное мое дитя, списать несколько строк, выгравированных на этом камне.
– А, эпитафию Ботсвену?
– Вы знаете о Ботсвене? – удивился я.
– Собака Байрона… да, я о ней знаю.
Затем, повернувшись к матери, он перевел ей мою просьбу на английский. Молодая женщина улыбнулась, встала, поцеловала мальчика и направилась напрямик через лужайку к мужу.
– Я вынудил уйти твою маму, мой дружок? – спросил я мальчика.
– О нет, – возразил ребенок, – она пошла за папой. Тем временем девочка встала на ноги и, семеня, подошла к нам.
– Джордж, – произнесла она по-французски ничуть не хуже брата, – почему это ты оставляешь меня одну? Разве ты меня больше не любишь?
– Что ты, Ада, я по-прежнему тебя люблю, но меня позвала мама.
– А чего хочет этот дядя?
– Ты же видишь, – объяснил мальчик, – он хочет списать эпитафию бедному Ботсвену.
– А-а!.. – протянула девочка. – Но зачем это ему?
– Ей-Богу, не знаю… Быть может, чтобы вставить в книгу.
Девочка взглянула на меня с любопытством. Списывая эпитафию славному ньюфаундленду, я следил за детьми, ничего не упуская из их разговора. Дописав последнее слово, я поднял голову и увидел рядом со мной женщину и ее мужа в окружении их детей.
– Сударь, – обратился ко мне муж, – поскольку я наполовину ваш соотечественник, не позволите ли вы мне предоставить нужные вам сведения?
– То совершенство, с каким вы и ваши дети владеете французским, позволяет мне присвоить вам титул не только соотечественника наполовину, но и соотечественника в полном смысле слова, и потому я охотно принимаю ваше предложение. Только позвольте сказать вам, кто я, с тем, чтобы иметь право узнать, кто вы.
Я назвал себя.
Он попросил дважды повторить мое имя и, повернувшись к жене, сказал ей несколько слов по-английски; женщина сразу посмотрела на меня с бесхитростным любопытством.
– Простите, сударь, – прервал я его с улыбкой, – хотя я и не говорю по-английски, но понимаю его достаточно для того, чтобы сказать вам: вы оказываете мне слишком много чести… Я сюда пришел не как соперник или состязатель; я здесь в качестве смиренного поклонника и благочестивого паломника. А теперь, сударь, ваша очередь сказать, кто вы, и объяснить мне, какому счастливому случаю я обязан радостью встречи с вами.
– Сударь, – ответил он, – имя мое совершенно безвестно: меня зовут Ренье. По происхождению я француз; но в тысяча шестьсот восьмидесятом году предок моего деда бежал от преследований, которым подверглись протестанты при Людовике Четырнадцатом, и обосновался в Англии. С тех времен мои предки, мой дед и мой отец рождались и умирали на этой свободной земле, настолько по отношению к нам гостеприимной, что она стала для нас второй родиной, или, вернее, это Франция теперь не более чем вторая моя родина, так как через три поколения мы стали английскими подданными, хотя и сохранили обыкновение заключать браки между людьми из нашей колонии, как ее тут называют. Я первым нарушил это правило, женившись на англичанке. Я живу в пяти льё отсюда, в деревне Ашборн, где служу пастором. Ньюстедское аббатство – одно из самых любимых мест для моих прогулок, и благодаря железной дороге, которая менее чем за час доставляет наше семейство в эти края, я могу раз в месяц доставить себе удовольствие погулять здесь с женой и детьми.
– Вы, сударь, большой поклонник автора «Чайльд Гарольда»?
– Да, это так… Это если не самая чистая, то, во всяком случае, самая яркая поэзия. Впрочем, мой отец, служивший в Ашборне пастором до меня, знавал Байрона во времена его так называемых безумств; он наблюдал за тем, как начиналась борьба Байрона с шотландскими журналами;[877] и у меня в доме до сих пор хранятся первые пятьдесят стихов его сатиры, которые поэт подарил отцу после того, как прочитал их ему.
– Да что вы?!
– Кроме того, – продолжил молодой пастор, – особое обстоятельство связывает мою жизнь со смертью лорда Байрона. Я родился семнадцатого июля тысяча восемьсот двадцать четвертого года, в то время, когда тело великого поэта опускали в склеп его предков. Мой отец, присутствовавший при погребальной церемонии, вернувшись вечером домой, обнаружил там нового гостя, и этим новым гостем был я.
– Мне бы очень хотелось, чтобы вам представился случай заняться этим фрагментом сатиры, этим первым взрывом гнева, нашедшего столь живой отклик в Европе и ставшего посвящением Байрона в поэты.
– Вы когда-нибудь видели его почерк?
– Да, конечно… Лорд Байрон бы связан с одним из моих друзей, чье имя, наверное, немного вам знакомо, поскольку в Англии оно еще популярнее, чем во Франции: с графом д'Орсе.
– Разумеется, я о нем знаю!
– Уж если у вас есть черновик Байрона, мне хотелось бы посмотреть, легко ли он работал и много ли делал правок.
– О, вам не следует полагаться на образчик, который у меня в руках: стихи слагаются легко, когда уязвленного поэта вдохновляет муза, именуемая Мщением. На пятьдесят первых стихов приходится не более десяти помарок… Однако, если вы желаете видеть эти стихи… подождите минуту…
И, обратившись к жене, он сказал ей несколько слов по-английски.
– В этом нет необходимости, – вмешался я, засмеявшись, – ведь я принимаю ваше предложение.
– И это было бы для нас большой радостью!
(Он предложил своей жене привезти меня в Ашборн и предоставить мне гостеприимство в пасторском доме.)
Затем, словно ему пришла в голову новая мысль, он сказал:
– Отлично! Да, приезжайте, у меня есть для вас подарок!
– Для меня?
– Да… О, только не подумайте, что это стихи Байрона: эти стихи – семейное наследство и, как вы понимаете… я ими дорожу.
– Будьте спокойны, я не допущу такой бестактности – просить их у вас!
– Прекрасно! Так мы договорились? – спросил он, и его взгляд и интонация указывали на радость, какую я ему доставлю, если приму его предложение с такой же искренностью, с какой оно было сделано.
Я протянул ему руку.
– Договорились, – подтвердил я, – я ваш гость до отбытия последнего поезда.
– Вы возвращаетесь в Лондон?
– Вероятно.
– И, проехав три четверти дороги до Ливерпуля, вы заедете туда?
– Да что мне делать в этом торговом городе?! Я с большим почтением отношусь к промышленности, но, как и все почтенное, промышленность внушает мне смертельную скуку.
– Вы не правы: Ливерпуль стоит посмотреть.
– То же самое говорил мне вчера лорд Холланд; он даже вручил мне кредитное письмо своему банкиру.
– А кому именно?
– Погодите-ка…
Я извлек письмо из кармана.
– Джеймсу Барлоу и компании.
– Улица Голубой Таверны?
– Именно так.
– Еще один довод для поездки в Ливерпуль!
– Вы полагаете, если я не совершу путешествие ради самого Ливерпуля, так сделаю это ради господ Джеймса Барлоу и компании?
– Для них вы не станете это делать: вы это сделаете ради самого себя.
– Я вас не понимаю.
– Так вот, предположите, например, что в Ашборне я дам вам сюжет для романа в шести, а то и восьми томах!
– Прежде всего вы доставили бы мне удовольствие, дорогой мой соотечественник, поскольку сюжет упомянутого вами романа наверняка представлял бы собой нечто выдающееся.
– И к тому же представьте себе, что эти шесть – восемь томов – не более чем первая часть.
– Так, понимаю… И что, вторая часть находится в Ливерпуле?
– Да.
– У господ Джеймса Барлоу и компании?
– Точно.
– В таком случае я отправлюсь в Ливерпуль.
– Тогда поехали! Я в этом и не сомневался.
Затем, повернувшись к жене, он добавил по-английски:
– Господин Дюма едет с нами в Ашборн.
Похоже, у нее возникло несколько возражений хозяйственного характера.
– Хорошо, хорошо, хорошо! – повторил пастор по-французски. – Моя жена содрогается при мысли, что ей придется угощать чем Бог послал столь известного человека, а я отвечаю ей, что мы вас накормим письмами пастора Бемрода.
– А кто это такой – пастор Бемрод?
– Вы не догадываетесь?
– Нет.
– Это герой вашего будущего романа, характер, замешанный на доброжелательности, гордыне и простодушии, нечто среднее между Стерном,.[878] и Голдсмитом[879] между «Векфильдским священником»[880] и «Сентиментальным путешествием»[881]
– Так это шедевр?
– Ей-Богу!..
– Вперед за шедевром! Я его беру.
– Правда, это шедевр в письмах.
– О, какой вопль вырвется у моего издателя!
– Почему?
– Почему? Он в этом ничего не смыслит, но тем не менее вопить будет.
– Но, в конце концов, есть же этому объяснение.
– Дело в том, что у нас существует предубеждение против романов в письмах… Говорят, они скучны.
– А, да, я понимаю: из-за «Клариссы Гарлоу» и «Новой Элоизы»…[882] Вы опрокинете эти предрассудки, опубликовав роман в занимательных письмах: вы ведь сочиняли вещи более трудные!
– Ну уж!..
– К тому же, когда вы прочтете письма, это ничуть не обяжет вас публиковать их.
– Таким образом, я сохраняю за собой мою свободную волю?
– Само собой разумеется… Мне ли судить, что скучно, а что занимательно, мне, сельскому пастору?
– О, в этом отношении я доверюсь скорее вам, нежели некоторым критикам из числа моих друзей или недругов!
– Тогда отправимся в путь, поскольку жена моя словно на горячих углях при мысли, что мы опоздаем на станцию, пропустим этот поезд и она лишится двух часов, нужных ей для того, чтобы приготовить гостю обед.
Я достал мои часы.
– Так когда же отправляется поезд?
– Без четверти час.
– А уже двадцать минут первого.
– И нам предстоит пройти две мили вмести с детьми.
– У меня есть карета и лошади, способные мчаться, как ветер… Собирайте вашу стаю (дети в это время рвали цветы); я велю запрягать, и мы отправляемся.
– Но вы почти не видели Ньюстедское аббатство.
– Что ж, вы расскажете мне о том, чего я не успел осмотреть.
– Согласитесь, пастор Бемрод не выходит у вас из головы.
– О, так оно и есть!
– Что же, велите запрягать… Джордж! Ада!
Дети, затерявшиеся на лужайке, встали, и их головы показались над высокими травами.
Я побежал к карете.
Кучер заканчивал запрягать, когда молодое и прекрасное семейство появилось у мрачных ворот Ньюстедского аббатства.
Мы сели в карету, через четверть часа уже были на станции, а еще через час вышли в Чидле.
Здесь мой соотечественник протянул руку и, указывая мне на колокольню, вокруг которой, примерно в двух милях от нас, сгрудилось множество домов, утопающих в зелени, произнес:
– А вот и Ашборн.
IV. Письма пастора Бемрода
Нет ни малейшей необходимости описывать читателям деревню Ашборн (они с ней знакомы) и пасторский дом (они его посещали).
Деревня, правда, увеличилась на два десятка домов, но пасторский дом сохранил свой былой облик; только фрески пастора Бемрода – эти изысканные алтари Гименею, эти нежные голубки, целующиеся на колчане и скрещенным с ним луком – исчезли под бумажными обоями жемчужно-серого цвета с темно-серыми разводами.
Обеденная зала осталась такой же, кабинет – таким же, и его окна по-прежнему выходят в тот же садик, где распевают конечно не те же самые соловьи, но потомки той птицы, которая во времена доброй г-жи Снарт пела там так мелодично, что г-н Бемрод принял ее за душу последней из умерших дочерей своей хозяйки.
Однако, что вполне понятно, когда я вошел в пасторский дом, о преданиях которого я совершенно ничего не знал, все это не могло меня взволновать.
Но что я отметил, так это атмосферу опрятности и довольства, которой веет уже на пороге дома, где живут молодые хозяева: это чувствовалось и в радости собаки, встретившей отца, мать и детей громким лаем и вилянием хвоста, и в доброжелательной улыбке, игравшей на губах молоденькой служанки – горничной и кухарки одновременно.
Сразу же по возвращении домой вся семья занялась домашним хозяйством: жена пошла на кухню, служанка побежала на птичий двор, дети завладели садом, а муж отправился за письмами, предварительно устроив меня в милой небольшой комнате на втором этаже, окно которой выходило на дорогу.
Минут через десять он вернулся с полусотней писем в одной руке и рукописью – в другой.
– Держите, – сказал он, протянув мне все эти бумаги, – вот ваш готовый роман.
– Благодарю вас, мой хозяин… Знаете, поговаривают, что так они и приходят ко мне. Но я опасаюсь…
– Чего?
– Что перевод потребует от меня больше усилий, нежели само сочинение романа, и что, дойдя до третьего письма, я покину пастора Бемрода и возвращусь к капитану Полю,.[883] к д'Арманталю[884] или какому-нибудь д'Артаньяну[885]
– Я предусмотрел это, – с улыбкой отозвался мой хозяин.
Я взглянул на него:
– Вы предусмотрительны?
– Да, я всегда думал о том, что вы или кто-нибудь из ваших собратьев по перу – Бальзак,[886] Сю[887] или Жорж Санд – приедет в Ньюстедское аббатство, я узнаю о его появлении и предложу ему подарок, который сейчас предлагаю вам.
– И, будьте откровенны, кому из четырех вы предпочли бы сделать этот подарок?
– Жорж Санд. Эта вещь в жанре ее восхитительных пасторалей.[888]
– Да, но что касается меня, то, не правда ли, легко будет догадаться, что это снова какой-то случай дал в мои руки эту рукопись?
– Это тем более вероятно, что роман в письмах вовсе не в вашей манере.
– Что ж делать? Я постараюсь опередить критику; я расскажу о нашей встрече во всех подробностях, точно так же как рассказал о найденной мною в Библиотеке знаменитой рукописи графа де Ла Фера, откуда были позаимствованы «Мушкетеры»;[889] я расскажу… я расскажу всю правду; и тем хуже для тех, кто мне не поверит!
– Однако в свое оправдание вы сможете сказать, что перевели письма с оригинала. За вами останется совсем небольшая заслуга – сделанный перевод.
– Перевод – это как раз то, что мне трудно дается.
– Перевод уже сделан.
– Неужели сделан? – Да.
– Кем же?
– Мною.
– Вами?!
– Взгляните на эту рукопись! Я взял у него рукопись.
– Так здесь перевод этой толстой пачки писем?
– В свободные минуты я развлекался, переводя их.
– Поистине вы необычайно полезный человек!
– Но вы же понимаете, что, возможно, перевод не очень-то литературный, но зато буквальный.
– Однако, поскольку труд полностью завершен, дорогой мой хозяин, следовало бы, как мне кажется, сделать одно совсем простое дело.
– И какое же?
– Опубликовать эти письма под вашим именем. Пастор усмехнулся:
– Я отнюдь не страдаю таким честолюбием, какое постоянно одолевало этого бедного господина Бемрода.
– В чем же состояло его честолюбие?
– В стремлении напечататься.
– У него было такого рода честолюбие?
– Вы убедитесь в этом, прочитав его письма.
– Возможно! Что касается меня, отвечу вам одной фразой: если во всей этой объемистой истории есть какой-то интерес, а подобный интерес должен существовать, раз такой человек, как вы, взял на себя труд ее перевести, то честолюбие славного пастора будет удовлетворено.
– Какая радость для него!
– Как это радость?! Разве он не умер?
– Да, конечно, сорок или пятьдесят лет тому назад.
– Черт возьми!
– Ну, а теперь я вас покидаю… Слева от вас – подлинники писем, справа перевод, а в том углу – подзорная труба.
– Подзорная труба! А зачем она?
– Кто знает, может быть, вам понадобится оглядеть окрестности.
– Дорогой мой хозяин, вы загадочны, как Удольфский замок![890]
– За дело! А через два часа я вернусь к вам сообщить, что обед подан.
– Что же, идите! Мой хозяин вышел.
Нужно быть справедливым даже по отношению к самому себе; так что воздам себе справедливость, сказав, что я начал с попытки читать оригиналы писем, однако должен добавить, что, дойдя до середины первого из них, я оставил этот труд и стал попросту читать перевод.
Через два часа, минута в минуту, хозяин вернулся.
Его шагов я не услышал, так как стоял у окна с подзорной трубой в руке.
Он дотронулся до моего плеча, и я обернулся.
– Что, – спросил он меня, – вы уже не читаете?
– Нет, я ищу дом господина Смита.
– И как, нашли?
– Думаю, да… Только я напрасно смотрю в это очаровательное окошко, которое освещает девичью комнату пасторской дочери: нет там ни щегла в клетке, ни прекрасной девушки в соломенной шляпе, наполовину скрывающей в тени ее чарующее личико и пряди золотистых волос. Просторные кровати, сохнущее белье, раскачивающаяся рубашка с натянутыми рукавами и раздутая ветром, – вот и все.
– Ах, дорогой мой гость, мне кажется, что вы слишком многого хотите! Прекрасная Дженни разделила общую участь: она присоединилась к добрым господину и госпоже Смит на сельском кладбище, которое она так трогательно живописала своему мужу.
– Черт возьми, я ведь как раз хотел спросить у вас вот что: почему, коль скоро вы расположены к переводу, вы не перевели поэзию Грея наряду с прозой господина Бемрода.
– Потому что поэзия это дело поэзии.
– Простите, дорогой мой хозяин, я понимаю вас то ли слишком хорошо, то ли не вполне.
– Я хочу сказать: чтобы переводить поэта, нужно самому быть поэтом.
– Спорю, что вы поэт!
– Другими словами, сочиняю стихи.
– Полноте!
– Да кто же не сочиняет стихов?!
– И спорю, что вы перевели «Сельское кладбище» Грея, как и все остальное?
– Гм!
– Итак, я жду «Сельское кладбище», мой дорогой хозяин.
– Вам известно лучше, чем кому бы то ни было, что некоторые произведения должно читать в определенном месте и в определенное время.
– Согласен с вами.
– Так вот, сегодня вечером, когда стемнеет, вы пойдете на прогулку по кладбищу и там, при умирающем свете дня, перед этими бедными могилами, поэтом которых стал Грей, вы прочтете мой перевод.
– О, да вы настоящий театральный постановщик!
– А теперь вдвиньте тубусы вашей подзорной трубы и пойдемте обедать!
– Охотно, поскольку я умираю от голода.
– Не говорите об этом так громко, вы можете напугать хозяйку дома… Кстати, на каком месте вы остановились?
– На моменте отъезда супругов.
– В тюрьму?
– Нет, в уэстонский приход в Уэльсе.
– Как вы находите прочитанное?
– Превосходно, черт побери: ведь был уговор, что я поставлю под этим свою подпись!
– Но предположим, что вы этого не сделаете.
– Прежде всего я сказал бы, что когда-то прочел роман Августа Лафонтена,[891] который начинается точно так же.
– Август Лафонтен приезжал в Англию в конце прошлого века; кто вам сказал, что он не был знаком с добрым господином Бемродом?.. Какие еще у вас критические замечания?
– Так вот! Мне кажется, это нескончаемое повествование о его жизни звучит в устах господина Бемрода несколько монотонно.
– Я же, наоборот, подумал бы о том, что есть кое-что новое в этом исследовании самого себя, предпринятое совестливым человеком, который уступает своим слабостям, но при этом сознает их, который последовательно анализирует все свои чувства, пока не докапывается до гранитного слоя; и это ново особенно для вас, писателя, пренебрегающего психологическим анализом…
– Согласен!
– … для вас, подменяющего подлинное течение жизни игрой случая и воображения…
– Браво!
– … для вас, обладающего в большей мере живостью, вдохновением и многословием, нежели философичностью.
– Благодарю вас, мой хозяин!
– Разве вы не согласны с тем, что мои слова – сущая правда?
– Истинная правда… Но вы ведь знаете пословицу: «Не всякую истину стоит говорить».
– Полноте!.. Начинающему писателю – да… но вам!..
– По отношению ко мне эта пословица верна ничуть не меньше… Возьмем к примеру…
– Что?
– Что, если бы доктор Петрус…
– Ну-ну, если бы доктор Петрус…
– … время от времени отвечал господину Бемроду…
– Боюсь, мы застряли бы в условном наклонении!
– Почему же так?
– В этом не было бы и тени правдоподобия.
– А что же такого неправдоподобного в том, чтобы отвечать на письма человека, который вам пишет?
– Дорогой мой господин Дюма, вы плохо изучили характер доктора Петруса.
– Вот как!
– Вы еще не писали об ученом, занятом решением таких важных проблем, над которыми работал он, ведь иначе…
– Что – иначе?
– Вы бы догадались, почему он не отвечал.
– Так почему же он не отвечал?
– Дорогой господин Дюма, сообщаю вам следующее: дело в том, что в тысяча восемьсот двадцать четвертом году, когда почтенный доктор Петрус Барлоу умер в Кембридже в возрасте ста лет без одной недели, на его письменном столе, где только он собственноручно наводил порядок в течение последних шестидесяти лет, нашли огромную пачку писем с такой надписью: «Прочесть, когда у меня будет время».
Пачку вскрыли: она содержала полсотни запечатанных писем.
– И что же?
– А то, что это оказались письма пастора Бемрода.
– Как, те письма, в которых достойный человек взял на себя столь нелегкий труд живописать себя самого в самых тонких уловках своей гордыни, в самых потаенных уголках своего сердца?!..
– Доктор Петрус Барлоу рассортировал их самым тщательным образом, на каждом письме проставил его дату с тем, чтобы прочесть их, когда появится время.
– И умер он в возрасте ста лет без одной недели?
– Так и не найдя времени их прочесть, дорогой господин Дюма… Такова истина. Вот вы в вашем романе могли бы заставить его прочесть письма друга; вы ни за что не захотели бы, чтобы труды человека, изучавшего себя, пропали бы для того, по просьбе которого эти труды и были предприняты, и вы оказались бы далеки от истины!
– Таким образом, радости, огорчения, триумфы, разочарования, мечтания этого бедного господина Бемрода?..
– Я единственный на свете, кому они стали известны! Из Кембриджа пачку писем отослали обратно в Ашборн; она попала в руки моему отцу, который занимался ими не больше, чем доктор Петрус; наконец, из рук моего отца письма перешли в мои руки… А я – это уже другое дело: я развязал пачку, прочел письма, перевел их и порадовался Господнему провидению, которое, не позволив доброму господину Бемроду сочинить ни одного из задуманных им трудов, вынудило его, хотя он об этом и не думал, написать то, что стоит куда большего, чем любое из сочинений, о которых он мечтал, и это потому, что, творя это произведение, он и не подозревал, будто создает его.
– Дорогой мой хозяин, – сказал я, – это-то и оказалось для меня решающим; я безусловно считаю историю достойного пастора весьма интересной; я принимаю на себя ответственность за нее, беру ее и ставлю под ней свое имя… Пойдемте обедать!
Мы спустились в столовую.
Дети уже сидели за маленьким столиком; три прибора ждали нас на большом столе.
Заняв свои места, мы воздали должное обеду, приготовленному г-жой Ренье.
Во время еды меня занимала лишь одна мысль: намерение, как только будет покончено с десертом, пойти в Уэрксуэрт, обойти дом г-на Смита, если не будет возможности осмотреть его изнутри, и через луга возвратиться в Ашборн.
Если не считать некоторой невежливости, мне легко было доставить себе такое удовольствие: спросить после обеда, могу ли я располагать собой и без промедления отправиться в Уэрксуэрт.
Но я пообещал себе, что пойду туда один.
Я ни за что не хотел бы проделать этот путь ни с кем на свете, даже с одним из преемников г-на Бемрода.
Он, конечно же, видел, что мысли мои чем-то заняты, и спросил о причине моей озабоченности.
– Ей-Богу! – воскликнул я. – Ваш чертов «Ашборнский пастор» не выходит у меня из головы, и я умираю от желания совершить путешествие в Уэрксуэрт!
Мой хозяин посмотрел на меня с улыбкой.
– Вы безусловно нуждаетесь в том, чтобы я вас туда сопровождал? – спросил он.
– Нет, напротив, и я даже признаюсь вам, что предпочитаю пойти туда один.
– Ну и чудесно!
– Вот как!
– Да, я по лености не закончил перевод рукописи дамы в сером и за время вашего отсутствия доведу его до конца.
– Кто это – дама в сером?
– А! Это главная интрига второй половины текста, которую вы прочтете сегодня вечером! Постарайтесь читать ее в полночь, и за этот ход вы назовете меня театральным постановщиком!







