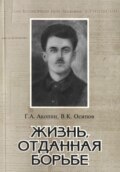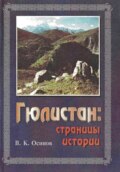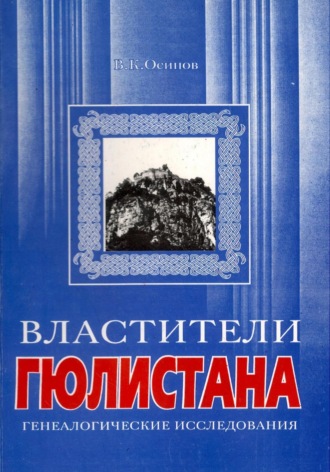
Владимир Карлович Осипов
Властители Гюлистана
Исахан.
Лалаян упоминает этого, по его мнению, третьего сына Беглара одной строкой, называя его Исай-хан-ага, в скобках сообщая дату смерти – 1752 год. При этом ученый не называет источник, которым он пользовался. Совершенно определенное упоминание даты смерти Исахана дает основание предположить, что источником Лалаяну служили не народные предания. (С трудом верится в то, что спустя более чем, век после смерти Исахана, предания называли бы дату его смерти с такой конкретностью.)
Первое известное нам историческое сведение об Исахане приводит М. Бархударян. Судя по тексту упоминаемой им купчей, найденной в селе Талиш, Исахан в 1701 году носил титул “мелик”. Мы уже говорили, что это скорее всего есть преувеличение его значимости и возможностей, ибо в 1701 году жил и здравствовал его отец – мелик Беглар. Собственно, эти два упоминания об Исахане являются недостаточными для утверждения о том, что Беглар являлся отцом Исахана: Лалаян не подкрепляет свое утверждение никакими фактами; документ, приводимый М. Бархударяном, также не вносит абсолютной ясности в этот вопрос – сообщаемые им сведения в лучшем случае можно рассматривать как косвенное подтверждение мнения Лалаяна. (Хотя в данном случае приводить сведение Бархударяна в качестве подтверждения мнения Лалаяна было бы не совсем корректно, ибо “Арцах” Бархударяна увидел свет несколько раньше, чем работа Лалаяна “Гандзакский уезд”. Таким образом, приводимый Бархударяном документ следует рассматривать первое доступное исследователям упоминание об Исахане. В примечании к этому документу Бархударян делает предположение о том, что “возможно, Мелик-Исахан из рода Мелик-Бегларянов”. Повторимся, что эта фраза, как и опубликованный Бархударяном документ, вышли в свет за несколько лет до работы Лалаяна. В этой связи логичнее было бы привести суждения Лалаяна в качестве подтверждения предположения Бархударяна, а не наоборот.) Так или иначе, ясно, что при отсутствии более веских аргументов, подтверждающих родство Беглара и Исахана, утверждение Лалаяна было бы необоснованным, а предположение Бархударяна так и оставалось бы предположением. Сведением, отметающим сомнения в правильности суждений Бархударяна и Лалаяна, безусловно служит найденная К. Каграманяном эпитафия с могильной плиты Исахана, процитировать которую еще раз кажется нам более чем целесообразным: “Это могила Исай-хан-ага, который был сыном мелика Пеклара, год 1200(1751).
Каграманян приводит также полустертую эпитафию с могильной плиты супруги Исахана: “Это могила //Мареаи, которая есть // супруга Иса // Хан … Мелик//…//…//"
Процитированные эпитафии, на наш взгляд, являются бесспорными доводами в пользу утверждения Лалаяна. У нас нет сомнений, что упомянутый им сын мелика Беглара Исай-хан-ага – одно и то же лицо с упомянутым Бархударяном меликом Исаханом и упомянутым Каграманяном Исахан-ага, сыном мелика Пеклара. Кстати, как было отмечено нами ранее, одного из сыновей Исахана также звали Беглар, что является дополнительным косвенным аргументом в пользу утверждения Лалаяна (ранее мы подчеркивали, что нарекать детей по именам родителей было давнейшей укоренившейся традицией в Карабахе. В какой- то степени эта традиция сохраняется и сейчас).
На этом, пожалуй, стоило бы завершить рассказ об Исахане, если бы не одно обстоятельство, заслуживающее внимания. Как видим из эпитафии, приводимой Каграманяном, Исай-хан-ага умер в 1751 году. Лалаян называет датой его смерти 1752 год. Мы уже говорили, что эта дата вряд ли взята Лалаяном из народных преданий. Процитированная эпитафия еще более убеждает нас в этом мнении и дает основание предполагать, что Лалаян также видел могилу Исахана. Разница дат, сообщенных им и Каграманяном, объяснима. Дело в том, что армяне традиционно числа обозначали буквами своего алфавита. Букв первоначально в алфавите было 36, первые девять из них обозначали единичные числа, вторые девять – десятичные и т.д. Получалось, что первая буква алфавита обозначала число 1, а последняя – 9000. Различными сочетаниями букв обозначались даты. На могиле Исахана начертан год 1200 по армянскому летоисчислению. По упомянутой системе отождествления букв алфавита с числами это год РМ (по техническим причинам у нас нет возможности отобразить армянские буквы). Представляется вероятным, что Лалаян, посетивший усыпальницу гюлистанских властителей более ста лет тому назад, мог прочесть на могиле Исахана дату РМА, т.е. 1201 (буква А в армянском алфавите, как и во всех других алфавитах, является первой). За прошедшие сто лет дата на могильной эпитафии могла подвергнуться разрушению, поэтому Каграманян сумел расшифровать только первые две буквы. Такое объяснение, на наш взгляд, весьма допустимо, если учесть, что разрушение надписей на древних могильных плитах далеко не редкость.
Тамраз.
О Тамразе предания сообщают несравненно большее количество сведений, нежели об Исахане. Помимо преданий, имя его упоминается в нескольких документах эпохи и в эпиграфических надписях исторических помимо этого, имя Тамраза нашло свое отражение в топонимике края.
Предания называют Тамраза жестоким и безжалостным, который после смерти своего брата Абова в 1728 году и вследствие несовершеннолетия сына последнего, Овсепа, пришел к власти в крае. Местом своего обитания Тамраз выбрал дворец близ монастыря Орек. Судя же преданиям, Тамраза не устраивала роль попечителя над своим племянником Овсепом, чтобы быть полноправным властителем края, он стал всячески притеснять Овсепа, который, повзрослев, восстал против дяди, и убив его, вернул себе власть отца. О том, насколько соответствуют действительности эти истории, отдельно, в части данной работы, посвященной Овсепу. Пока же попробуем разобраться в вопросе о том, насколько правдива информация о времени прихода Тамраза к власти. Есть основания предполагать, что Тамраз упоминается в свидетельствах с титулом “мелик” еще при жизни Беглара. Так, Раффи и Лалаян, побывавшие в том самом упомянутом дворце близ монастыря Орек, приводят весьма примечательную надпись, высеченную на одной из арок этого дворца, которая предположительно является строительной. В этой поразительно безграмотно составленной и неподдающейся осмыслению надписи упоминаются некто Оган и мелик Тамраз. Примечательным что Лалаян и Раффи приводят одну и ту же надпись с разным набором слов и даже разными датировками. Судя по тексту Лалаяна, надпись была высечена 1701 году. Раффи же называет дату 1727 год. Трудно сказать, кто из исследователей оставался наиболее верным оригиналу при копировании данной надписи. Правильность даты, приводимой Раффи, на первый взгляд, может показаться более возможной, однако и дата, называемая Лалаяном, также вполне может претендовать на точность. Вспомним, что в свидетельстве 1701 года сын Беглара – Исахан также упомянут с титулом “мелик”.
В другом историческом свидетельстве, приводимом М. Бархударяном, Тамраз упоминается с титулом “мелик” в 1716 году. Таким образом, очевидно, что Тамраз носил титул мелика еще при жизни Беглара, умершего, как известно, в 1720 году. В исторических документах 20-х годов Тамраз неоднократно упоминается с данным титулом. В корреспонденциях руководителей карабахских армян на имя Русского Двора нередко встречается имя мелика Тамраза. Сами даты этих корреспонденций (например, 5 марта 1724 года и 25 июля 1725 года) красноречиво свидетельствуют о том, что Тамраз носил титул мелика и пользовался фактической властью в крае задолго до 1728 года, т.е. до смерти своего предполагаемого старшего брата – мелика Абова. Дальнейшая жизнь и деятельность Тамраза будут рассмотрены, как было уже сказано, в части, посвященной Овсепу. Здесь же ограничимся пока упоминанием о том, что Тамраз чуть ли ни единственный представитель рода Мелик-Бегларянов, имя которого отражено в топонимике Гюлистанского гавара: на левом берегу реки Инджа до наших дней известна местность под названием “Тамрази[н] шинатех” (селище Тамраза).
Вы, наверное, заметили, что мы назвали Тамраза представителем рода Мелик-Бегларянов, не обосновывая это историческими фактами. Спешим вас заверить, что это отнюдь не голословное утверждение, базирующееся лишь на сообщениях Лалаяна и Раффи, а не вызывающая сомнений историческая данность, о которой мы поговорим чуть ниже, при рассмотрении сведении об Абове.
Абов.
В преданиях он называется также Хромым Абовом, ибо, судя по рассказам, он был ранен в ногу и хромал. Традиционно исследователи называют его преемником Беглара. В предании об Абове, как и в других историях подобного рода, наглядно просматривается приключенческая составляющая. Так, народные сказания живописно изображают историю похищения Абовом дочери Гандзакского хана – Хамар-Султан, ставшей впоследствии после крещения в Гюлистанском монастыре Всеспасителя его женой. Эта история изумительнейшим образом описана у Раффи, что не удивительно, учитывая его неординарный талант рассказчика. Никаких более конкретных сведений об Абове ни у Раффи, ни у Лалаяна мы не встречаем, кроме сообщения о том, что Абов умер в 1728 году. Лалаян упоминает также одно из писем, написанных карабахскими юзбаши и меликами, под которым среди других стоит и подпись Абова. Помимо этого, Лалаян делает следующее утверждение касательно деятельности Абова: “Мелик Абов с мечом в руках защищал свой народ от нашествий лезгин, и когда Петр Великий в 1721 году взял Дербенд, мелик Абов со своим войском выехал к разбившему лагерь близ Гандзака грузинскому царю Вахтангу и другим армянским меликам, чтобы, соединившись с русскими, свергнуть персидское иго”.
Взятие Дербенда Петром I, а также встреча армянских и грузинских войск близ Гандзака состоялись, как известно, годом позже упомянутой Лалаяном даты (к сожалению, у нас нет первого выпуска работы “Гандзакский уезд", мы пользуемся вторым томом “Собрания сочинений” Лалаяна, выпущенном в 1988 году, поэтому не можем однозначно ответить: упущение ли это Лалаяна или типографская опечатка). Что касается выезда Абова со своим войском на встречу с Вахтангом, то трудно найти какие-либо подтверждения этому факту. Известно, что предводителями армянского войска во время тех событий были гандзасарский католикос Есаи-hАсан-Джалалян и четыре молодых юзбаши: Аван, Ширван, Шахни и Сарухан. Как видим, утверждение Лалаяна представляется пока не слишком обоснованным и не имеющим подтверждения.
Единственными достоверными источниками об Абове как о деятеле 20-х годов XVIII века являются корреспонденции карабахских меликов и юзбаши, Русскому Двору или своим представителям при Дворе. В ряде этих корреспонденций упоминается и имя Абова. Это обстоятельство может вызвать сомнение относительно того, имел ли Абов право на власть в Гюлистане и принадлежал ли он вообще к Мелик-Бегларянам. Однако фактами подтверждается, что в это время в Гюлистане был другой, по крайней мере номинальный, правитель – мелик Тамраз (реальная власть, как было отмечено, была поделена между меликами и военачальниками). Неужели предания и здесь сообщают неправду? Неужели сказания об Абове так же недостоверны, как и многие другие истории о карабахских меликах? Дать однозначный ответ было бы крайне затруднительно, если бы ни один чудом сохранившийся источник – эпитафия, приводимая Е. Лалаяном: “Это могила Урумси, что была супругой мелика Абова. Год 1206 (1757). Может возникнуть вопрос: супругой какого именно Абова является упомянутая hУрумси(hРипсиме)? В XVIII веке в Гюлистане были два мелика Абова: упомянутый уже Абов II Хромой и его внук Абов III. На основе доступных нам исторических сведений можно с полной уверенностью заявить, что приведенная надпись Лалаяна переписана им с могильной плиты жены Абова II Хромого. Основанием такого заявления служит для нас следующее рассуждение: женой мелика Абова III была дочь мелика Арстама – владельца селения Барсум. На могиле этого Арстама начертана следующая надпись, приведенная Лалаяном: «В этой незабвенной могиле покоится мелик Арстам, из рода армянских Багратуни, владелец Барсума Гадзакского гавара. Родился 1722, умер 1794.
Оставим в стороне вопрос принадлежности Арстама к Багратидам. Для нас важнее в данном случае другое: тесть Абова III родился в 1722 году, в 1757 году ему было 35 лет, а это значит, что умершая в том же 1957 году hУрсуми – hРипсиме вряд ли могла быть его дочерью, а, следовательно, и женой Абова III. Таким образом, она была по крайней мере, женой его деда Абова II. Возможно, Рипсиме и есть та Хамар-Султан, которую Абов похитил у ее отца, гянджинского хана, при крещении названная в честь одной из самых почитаемых армянской церковью мучениц.
Итак, мы выяснили следующее: мелик Абов II в дошедших до нас исторических свидетельствах, относящихся к 20-м годам XVIII века, упоминается без титула “мелик”. Титул рядом с его именем появляется значительно позже на могиле его жены, пережившей, если верить преданиям, своего мужа почти на 30 лет (Абов, как сообщают предания, умер в 1721 году).
Возникает вопрос: почему же все-таки Абов, носивший, судя по всему, титул “мелик”, упомянут в указанных выше документах без него? На эту окутанную дымкой старины загадку, возможно, прольет свет следующий весьма любопытный документ. Это клятва карабахского мелика Абова на верность России, датированная 5 января 1800 года. Естественно, речь идет об Абове III. Оставим в стороне текст этой клятвы, о нем мы поговорим отдельно, рассказывая о жизни последнего из великой плеяды гюлистанских меликов – Абове Мелик-Бегларяне. Здесь же ограничимся лишь цитатой окончания этого документа, приведенного в 4 томе сборника “Армяно-русские отношения в XVIII веке” и стоявшего там под номером 367. После окончания собственно самого текста клятвы сделано примечание составителей сборника: “…далее другие чернила и другой почерк”. Другими чернилами и другим почерком, вероятно, почерком самого Абова III, записано следующее: “поклялся, согласно вышенаписанному, и остаюсь верным своей клятве до последнего издоха: Мелик Абов ди мелик Овсеп Абовян из гавара называемого Талиш, из села Гюлистан. [подпись] мелик Апов ди мелик Осеп Мелик-Тамразян”.
Примечателен латинский стиль, использованный Абовом III при написании своей фамилии. Обычно он подписывался Абов Мелик-О[в]сепян. Трудно объяснить, чем продиктовано появление этой чуждой армянскому языку формы. Однако это не столь уж важно. Главное в другом: мелик Овсеп был отцом Абова III. На этот счет остались многочисленные неоспоримые свидетельства того же Абова. Выражение “ди мелик Овсеп” в данном случае надо понимать именно как “сын мелика Овсепа”. Таким образом, Абов в одном и том же документе называет себя и сыном Овсепа Абовяна, и сыном Овсепа Мелик-Тамразяна. Выражение "Овсеп Абовян", равно как и "Овсеп Мелик-Тамразян", можно понимать в двух, значениях: 1) Овсеп, сын Абова (или мелика Тамраза) и 2) Овсеп из рода Абовян (или Мелик-Тамразян). Очевидно, что Овсеп не мог иметь две родовые фамилии, а также двух отцов, следовательно, одно из вышеприведенных выражений надо понимать в первом значении, другое – во втором. Иными словами, Овсеп был сыном Абова и из рода Мелик-Тамразян, или сыном мелика Тамраза и из рода Абовян.
Вышесказанное нас опять-таки приводит к двум выводам:
1. Абов был отцом Овсепа, а Тамраз – его пращуром (дедом, прадедом и т.д.).
2. Тамраз был отцом Овсепа, а Абов его пращуром (дедом, прадедом и т.д.).
Прежде чем рассуждать, какое из двух предположений верно, следует напомнить, что согласно преданиям Абов и Тамраз были братьями. Их родство никакими другими достоверными источниками, кроме вышеупомянутой клятвы Абова III, не подтверждается. Вместе с тем, на основе имеющихся источников можно с уверенностью сказать, что Абов и Тамраз были современниками. Абов и Тамраз, по всей вероятности, вопреки преданиям не были братьями, ибо в таком случае Овсеп не взял бы в качестве основы своей родовой фамилии имя дяди. Таким-образом получается следующее:
1. Абов и Тамраз были современниками.
2. Абов и Тамраз были родственниками.
3. Абов и Тамраз не были братьями.
4. Родство Абова и Тамраза велось по прямой мужской линии.
Из вышесказанного следует недвусмысленный вывод степени родства Абова и Тамраза: один из них был отцом другого.
Попытаемся теперь разобраться в вопросе: кто из них отец, а кто – сын. На первый взгляд, логичнее было бы решить, что Абов является для Тамраза отцом: как-никак предания отводят ему роль старшего сына мелика Беглара, да и умер Абов, судя по преданиям, значительно раньше Тамраза, что, со своей стороны, может показаться подтверждением старшинства Абова. Однако мы склонны утверждать, что на самом деле Тамраз был отцом Абова. Такая наша уверенность опирается на следующее соображение: как было уже сказано, мелик Тамраз носил свой титул еще в бытность Беглара меликом. Есть по крайней мере одно свидетельство этому. Известно, что Исахан носил титул мелика еще при жизни Беглара. Имя Абова (даже без титула и звания) не упоминается ни в одном из сохранившихся свидетельств первого двадцатилетия XVIII века. Это на первый взгляд весьма странное обстоятельство можно объяснить двумя причинами:
1. Вопреки выводам, к которым подталкивают предания, Абов в указанный период был несовершеннолетним и его влияние на жизнь края было минимальным.
2. Исчезновение (потеря, разрушение) свидетельств об Абове, относящихся к этому периоду.
Вторая причина представляется маловероятной, потому что даже учитывая те разорительные набеги опустошителей, которым в течение последующих десятилетий систематически подвергался край, трудно представить себе такое выборочное исчезновение свидетельств. Какие-то крупицы данных об Абове должны были сохраниться (если таковые вообще имелись).
Первое предположение кажется нам более вероятным. Именно малолетством Абова объясняется отсутствие упоминания его имени в исторических источниках начала XVIII века.
Итак, что же мы имеем?
1. Абова и Тамраза связывали отношения отца и сына, либо сына и отца.
2. Тамраз был старше Абова (напоминаем, что в 1716 году Тамраз был уже зрелой личностью, а Абов в этот период был, как мы выяснили, несовершеннолетним, или, по крайней мере, не достигшим зрелости молодым человеком).
Из вышесказанного следует однозначный вывод о том, что Абов, вопреки преданиям, был не старшим братом Тамраза, а его сыном. Вероятно, в преданиях закрепилась не столь уж редко встречающаяся в них ошибка, и старший внук Беглара стал в них его старшим сыном.
В свете сделанного уточнения представляется объяснимым и факт упоминания Абова в корреспонденциях карабахской знати с Русским Двором без титула “мелик”. Причиной такого умолчания служит то, что сын Тамраза – Абов по-настоящему никогда не был меликом края. А упоминание Абова меликом на могиле жены скорее всего было данью перед его памятью. Заметим, что Абов имел право на меликскую власть в Гюлистане, и это право по наследству передалось его сыну – Овсепу. Причиной некняжения Абова без сомнения служила ранняя его смерть.
Недостоверность сведении Раффи и Лалаяна кроется именно в упоминании Абова старшим сыном Беглара. Истинность утверждения Лалаяна относительно наличия у Беглара двух других сыновей – Тамраза и Исахана – не подвергается сомнению. Об Исахане мы говорили выше, показывая обоснованность причисления его к роду Мелик-Бегларянов и к сыновьям Беглара. О достоверности подобного же причисления Тамраза мы поговорим сейчас.
Так уж сложилось, что прояснение многих вопросов генеалогии Мелик-Бегларянов, становится возможным благодаря свидетельству более поздних представителей княжеской фамилии Гюлистана. Чуть выше мы показали, что родственная связь между меликом Тамразом и одним из выдающихся деятелей Карабаха второй половины XVIII века меликом Овсепом находит достоверное подтверждение благодаря тексту, подписанному Абовом III. Генеалогическая, потомственная связь между Тамразом и Бегларом также подтверждается свидетельством, оставленным этим прославленным меликом Гюлистана конца XVIII – начала XIX века. Так, под письмом, направленным карабахскими меликами в 1806 году известному московскому армянину Минасу Лазаряну, среди других стоит и подпись властителя Гюлистана Абова Мелик-Бегларяна.
В другом историческом документе, в приведенном Потто предписании Паскевича джрабердскому юзбаши Вани от 18 сентября 1826 года, один из сыновей Абова III – Манас или Минас назван Минасом Мелик-Бегларовым. Заметим, что Мелик-Бегларяном и Мелик-Бегларовым в упомянутых свидетельствах названы потомки мелика Тамраза. Более очевидного доказательства, родственной связи между потомком Сев Абова Бегларом и Тамразом с его преемниками трудно сыскать. Родственная связь Тамраза и его потомков с Бегларом, как показывает фамилия Мелик-Бегларян, также была по прямой мужской линии. Вместе с тем, Тамраз и Беглар были современниками. Сопоставляя эти два обстоятельства, нетрудно прийти к выводу, что Беглар был отцом мелика Тамраза. Таким образом, получается, что достоверными источниками подтверждается наличие у мелика Беглара двух сыновей – мелика Тамраза и мелика Исахана.
Говоря о происхождении Мелик-Бегларянов, мы упоминали высказывание К. Каграманяна о том, что на самом деле род Сев Абова и его потомка Беглара не имеет никакого отношения к Мелик-Бегларянам. Относительно возникновения родовой фамилии властителей Гюлистана Каграманян в другом месте своего труда рассматривает следующее предположение: часть последующих поколений по его имени (по имени сына мелика Овсепа – Беглара, прозванного исследователями Бегларом II в отличие от Беглара I, отца Тамраза. – авт.) прозвались Мелик-Бегларян. С этим прославленным родом Мелик-Бегларин не следует путать обосновавшегося близ Орека мелика Беглара, который имел очень скромное положение”.
Вышеприведенные свидетельства, на наш взгляд, не оставляют никаких сомнений относительно причастности умершего в 1720 году Беглара к роду Мелик-Бегларян. Безусловно, имя этого Беглара и стало основой родовой фамилии властителей Гюлистана. Повторяем, именно по имени Беглара I, а не Беглара II гюлистанские мелики стали называться Мелик-Бегларянами. Ибо помимо потомков Беглара II, как явствуют те же свидетельства, фамилией Мелик-Бегларян пользовались его брат и племянник. И, как пишут Г.А. Акопян и В.К. Осипов: “Вряд ли мелик Абов и его сын назвались бы Мелик-Бегларянами по имени своего брата (для первого) и дяди (для второго)”.
Подводя итоги, отметим основные моменты: сравнение исторических свидетельств с народными преданиями выявило нижеследующие несоответствия последних с историческими фактами:
1. Мелик Беглар не имел сына по имени Абов.
2. Названный в преданиях сыном мелика Беглара Абов II Хромой на самом деле был сыном мелика Тамраза.
3. Мелик Тамраз был старшим сыном Беглара.
4. Приход Тамраза к власти не являлся случайным стечением обстоятельств, а был подкреплен его наследственным правом.
5. Тамраз пришел к власти значительно раньше 1728 года.
6. В 1720-х годах вопреки народным преданиям Абов II не был ни полноправным, ни даже номинальным владельцем края, ибо в указанный период жил и здравствовал его отец – мелик Тамраз.
Сопоставление исторических фактов с преданиями о представителе следующего поколения гюлистанских властителей – мелике Овсепе, выявляет еще более любопытные несуразности, содержащиеся в народных сказаниях.
Как мы уже упоминали, предания рисуют весьма драматические отношения между меликом Тамразом и меликом Овсепом. В них Овсеп выступает в роли гонимого, олицетворяя собой добро. Тамразу же предписана роль гонителя Овсепа, вершителя зла. Эту часть преданий вообще можно рассматривать как отдельное произведение устного народного творчества, по своему сюжету и композиции весьма походящее на сказку с обязательным финалом, присущим данному жанру, – востожествованием добра над злом.
Согласно преданиям, забрав в свои руки после смерти своего брата Абова власть последнего, Тамраз изолировал законного наследника Овсепа с матерью в Гюлистанской крепости (“Юный Овсеп жил в Гюлистанской крепости со своей матерью в незавидном положении”.)
Внимательное прочтение данного эпизода выявляет его необоснованность. Представим себе ситуацию: конец 20-х годов XVIII столетия, Карабах со всех сторон окружен воинственно настроенными элементами. По трактату 1724 года между Россией и Турцией вся Восточная Армения объявлена наследством Турции. Народ и предводители Карабаха не признают такое положение вещей и героически защищают свое добытое в тяжелейшей борьбе самовластие. Маленький армянский Карабах – как кость в горле турецкой тирании, стремящейся ограничить влияние России на Прикаспии. (Поразительно сходство политических реалий того периода и наших времен.) В этой, далеко непростой, ситуации любой правитель должен позаботиться об укреплении вверенной ему территории и прежде всего своей ставки, или резиденции. Более неприступного места, чем Гюлистанская крепость в Северном Карабахе, трудно сыскать. И вот вместо того, чтобы поселиться в ней, Тамраз выбирает себе в качестве резиденции меликский дворец близ монастыря Орек, который по эстетическим характеристикам безусловно превосходит Гюлистанскую крепость, однако в оборонительном, тактическом значении не идет ни в какое сравнение с ней. Политические реалии тех лет выдвигали на первый план именно такую характеристику княжеской резиденции (читай – столицы княжества), как неприступность. Во время войны – не только замолкают музы, но и отходят на дальний план эстетические стремления людей. Первичным становится инстинкт самосохранения. Посему представляется маловероятным, что Тамраз предпочел Гюлистанской крепости дворец близ Орека. Разумеется, это относится к периоду освободительной борьбы. До ее начала и после ее окончания Тамраз жил в этом дворце. (Кстати, в этой связи возрастает вероятность того, что надпись на арке дворца, где упоминается мелик Тамраз, была сделана в 1701 году (по Лалаяну), а не в 1727, как утверждает Раффи.)
Описываемые в сказаниях гонения, которым подвергся Овсеп со стороны Тамраза, на наш взгляд, не могли иметь место, так как первопричина этих гонений по преданиям – стремление Тамраза упрочить свою власть путем если не ликвидации, то хотя бы изоляции законного наследника – Овсепа, является плодом народного воображения и не соответствует исторической реальности. Как мы уже говорили, Овсеп был внуком Тамраза и мог претендовать на власть лишь после смерти своего деда. Следовательно, Тамразу незачем было изолировать или подвергать изгнанию Овсепа, чтобы узаконить свою власть. Она и так была законной, получченной им по наследству от своего отца – мелика Беглара.
О несоответствии с исторической действительностью описываемых преданиями событий, связанных с взаимоотношениями Овсепа и Тамраза, помимо достоверных исторических фактов свидетельствуют, как это ни парадоксально, сами эти предания, вернее, то обильное количество несостыковок, противоречий, анахронизмов, которые в них содержатся. О нелогичности изоляции Овсепа в Гюлистанской крепости Тамразом мы уже говорили. Однако это противоречие с логикой и здравым смыслом ничто по сравнению с другими содержащимися в преданиях противоречиями. Чего, например, стоит анахронизм, “просочившийся” в записанный Раффи вариант народных преданий, который подметил еще Е. Лалаян.
Согласно Раффи, в первые годы после смерти Абова в Карабах приехал сборщик дани шаха Султана Хусейна Мирза Тахир. Мелик Тамраз не только не воспрепятствовал сбиранию дани со своего народа, но напротив, очень дружелюбно принял персидского представителя и, желая понравиться ему, приказал увеличить размер дани, выплачиваемой его подданными. Но этого еще недостаточно: вознамерившись преподнести персидскому сборщику достойный подарок, Тамраз рассказывает ему о знаменитом ружье своего брата Абова II, которое находится у его сына Овсепа. Заинтересовавшийся реликвией Мирза Тахир вызывает к себе Овсепа и отбирает у него ружье отца. Когда об этом инциденте Овсеп рассказывает своей матери, та ругает сына, назвав его недостойным сыном храброго отца. Услышав эти слова матери, Овсеп клянется возвратить потерянное ружье отца и, собрав своих сторонников, устраивает засаду в одном из ущелий Тартара, истребляет свиту Мирза Тахира и, убив его самого, не только возвращает оружие отца, но и становится обладателем несметных богатств, собранных во всех провинциях. По словам Раффи, события эти имели место незадолго до низложения с трона шаха Султана-Хусейна.
Лалаян, рассказывая эту историю, обращает внимание на то, что в ней есть хронологическая ошибка: “ибо отец мелика Овсепа – мелик Абов II умер в 1728 году, когда шах Султан Хусейн был уже мертв (1722)” Лалаян отмечает также еще одну неточность в предании: “Действительно, Мирза Тахир приезжал в Карабах и Гяндзак за собираиием дани, однако было это в 1720 году, как указывает католикос Есаи”. Из выявленных неточностей Лалаян заключает, что упомянутый в преданиях сборщик дани был не Мирза Тахир и направлен он был в Гюлистан не персами, а турками. На наш взгляд, это утверждение Лалаяна не совсем правомерно, ибо, как мы знаем, хотя с 1724 года Карабах де-юре принадлежал османцам, однако к ним “совершенного подданства не показывал”. В конце 1720-х годов ни одно государство не могло требовать дани от независимого армянского Карабаха. Для этого сначала необходимо было усмирить и подчинить себе его непокорный народ. Однако, ни Османская империя, ни разлагавшаяся Персия не в состоянии были добиться этого. Посему нам кажется, что описываемая в преданиях стычка между персидскими сборщиками дани и гюлистанцами если и имела место, то в начале XVIII века. Мелик Овсеп, разумеется, к этой стычке не мог иметь никакого отношения. Как видим, противостояние Овсепа и Тамраза, в данном эпизоде преданий, не имеет под собой никаких реальных оснований.
Неподкрепленностью фактами страдает и завершающая часть преданий об Овсепе и Тамразе. В развязке этой своеобразной сказки на историческую тему описан акт мести Овсепа и восстановление попранной справедливости. Овсеп, судя по преданиям, став владельцем огромных богатств (в результате нападения на сборщиков дани), постепенно усилил свое положение и вознамерился не только отнять власть у Тамраза, но и отомстить своему безжалостному попечителю за те лишения, которым он подвергся, будучи малолетним и неопытным. Объединившись с джрабердским Меликом Атамом, отношения которого с Тамразом были недружественными, молодой Овсеп напал на замок Тамраза. После нескольких дней тяжелейших боев замок был взят, а Тамраз попал в плен. По воле победителя Тамраз был повешен, после чего Овсеп стал полноправным, единоличным правителем Гюлистана. Последнее утверждение (приход Овсепа к власти после смерти Тамраза), пожалуй, единственно достоверное сведение, содержащееся в этой части предания. Чуть ниже мы увидим, что история казни Тамраза, подобно многим другим историям о гюлистанских меликах, является вымыслом, плодом народного воображения. Установить это мы сможем уже знакомым нам методом сличения преданий с историческими фактами. Но прежде, в качестве введения, поговорим об исторических реалиях 30-50-х годов XVIII века. Необходимость очередного нашего отступления продиктована невозможностью рассказывать о людях прошлого, будь то правитель или простолюдин, абстрагируясь от эпохи, в которой они жили. Как вы помните, предыдущее наше историческое обозрение было посвящено освободительной борьбе карабахского армянства 1720-х годов. Мы увидели, как их предводители, разочаровавшись в стремлениях наити покровителей, вынуждены были опираться на свои силы и средства для отстаивания героически завоеванной свободы. То, что свершило карабахское армянство в тот период, не могло не вызвать изумления, восхищения у одних и ненависти и ярости у других. Однако сколь бы значительны ни были достижения вожаков, стало очевидно, что одной лишь храбрости для противостояния турецкой тирании явно недостаточно. Помимо военной силы, которая, несмотря на все потери и отступления, была еще у карабахцев довольно ощутимой, для достижения окончательной победы, а следовательно, мира и спокойствия, нужен был еще один компонент, о существовании которого горские предводители несколько лет назад, возможно, и не подозревали. Имя этому компоненту – дипломатия. Пора было, наконец, осознать, что подоплекой ориентации на ту или иную державу может и должен служить только политический интерес. В начале 30-х годов этот самый интерес диктовал карабахцам призвать в союзники или в покровители вчерашнего врага – Персию. К счастью для Карабаха, данный интерес был обоюдным. Политические стремления правителей Персии отчасти совпадали со стремлениями армянских меликов. Иран к этому времени переживал один из бурных этапов своей истории. Появился человек, которому была уготована честь восстановителя могущества и величия Персии. Речь идет о Надир-Кули-Хане, ставшем впоследствии одним из величайших правителей Востока – Надир-шахом.