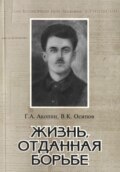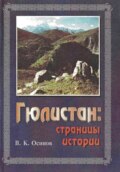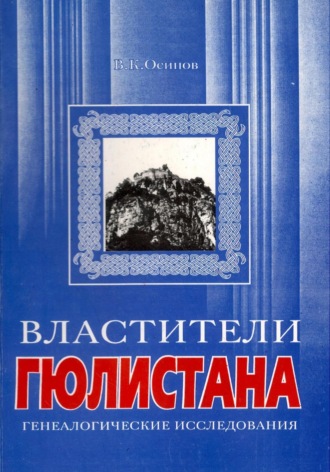
Владимир Карлович Осипов
Властители Гюлистана
Итак, Аргутян не решается, как раньше, назвать Ибрагима врагом русского престола априори, а предлагает сначала уличить его в неверности и коварности, а затем устранить, "лишив высокой степени и крепости". Нельзя не заметить, что Аргутян при этом наивно надеется, что Ибрагим будет настолько глуп, что с легкостью обнаружит свою неверность и коварство. Трудно сказать, что явилось причиной столь нерешительного, робкого предложения Аргутяна. Возможно, здесь сыграло роль то, что Аргутян к этому моменту догадывался об истинных целях кампании, которые четко были сформулированы за два месяца до начала похода: "Опьянить письмами царя Ираклия, меликов карабагских и Ибрагим-хана шушинского, так и владетелей дагистанских и ширванских о выступлении своем с войсками для освобождения их…", Иными словами, предполагалось поставить в результате похода вышеназванных правителей в зависимость только и только от России и расширить сферу русского влияния их территориями.
Аргутян зря недооценивал Ибрагима. Его дипломатическая изворотливость известна была, еще со времен намечавшегося Персидского похода 1784 года. Без каких-либо приглашений со стороны русских, он сам поспешил заявить о своем желании вступить под их покровительство. Правда, потом он нарушил свое слово, более того, попытался устроить западню Зубову, однако это не помешало ему при появлении слухов о новом походе Ага-Мамед-хана вторично заявить, что Шуши есть русский город и просить у Зубова 12 тысяч солдат для усмирения соседних ханств.
Надо сказать, что в корреспонденциях с армянскими меликами Аргутян сформулировал цели похода русских однозначно и безапелляционно. Без тени сомнений и робости, он уверял меликов, что освобождение их и из подданных всего лишь дело времени, надо только дождаться руских войск и всячески способствовать ускорению их прихода. Что это было? Непоколебимая вера в грядущее спасение своих соплеменников или нежелание признать, что обещанное ему спасение персидскоподданных христиан было всего лишь способом, рычагом для достижения более весомых, с точки зрения геополитических интересов России, результатов? Трудно сказать.
Зубов и его окружение со своей стороны всячески старались поддерживать и укреплять то благостное настроение, которое сохранилось у армянских меликов по отношению к русским. Ценные сведения об этом содержатся в свидетельствах двух армянских меликов: племянника Абова – Фридона Мелик-Бегларяна и мелика Варанды – Джумшуда Мелик-Шахназаряна. Об этом мы поговорим чуть позже, а пока вернемся к рассказу о мелике Абове. Как вы помните, последнее приведенное нами сведение о нем касалось проводимых им, совместно с Ибрагим ханом, военных действий против Гандзака. Следующий по хронологии известный исследователям факт из его жизни также имеет прямое отношение к Гандзаку. Дело в том, что завладев ранне упомянутыми ханствами, Зубов направил отдельный отряд под командованием генерала Римского-Корсакова на покорение Гандзака. С этим отрядом находился и Иосиф Аргутян. Согласно Лео, 13 декабря 1796 года благодаря посредничеству Аргутяна Джавад-хан без боя сдался русским. 16 числа того же месяца Валериан Зубов в письме к Аргутинскому пишет: "Письмо в. высокопревосходительства с приложением разных писем я имел честь получить и приношу как за оное, так и за успокоение Джават-хана, моию искренную благодарность…".
Согласно Раффи, бескровное завоевание Гандзака имело несколько иную предисторию, основную роль в котором сыграл Абов. "Мелик Абов, – пишет Раффи, – в это время находился в Гандзаке у местного Джавад-хана. До прихода русских войск Мелик-Абов по совету архиепископа Овсепа смог убедить Джавад-хана сдаться без боя русскими".
Приведя это сведение, Раффи, в привычной для себя манере, не называет, к сожалению, источника. Это, а также ошибочное представление Раффи о том, когда и под чьим руководством был осуществлен этот поход, не прибавляют аргументов в пользу достоверности данного сведения. В приведенном чуть выше письме Зубова также никак не упоминается роль Абова в "успокоении" Джавада. Учитывая все это, мы не беремся безоговорочно принять правдивость этого сообщения.
Таким образом, ранее упомянутое письмо Аргутинского от 20 марта 1776 года является последним из всех доступных нам на сегодняшний день сведений о жизни мелика Абова на родине. Ибо вскоре после взятия Гандзака русскими войсками обстоятельства вынудили его покинуть Карабах.
Чтобы у читателя не сложилось неправильное представление, отметим, что отъезд Абова с родины не имел к взятию Гандзака никакого отношения, а был следствием очередного изменения внешнеполитического курса России. Дело в том, что занятие Гандзака стало последним пунктом в кампании Зубова. 6 ноября 1796 года умерла Екатерина II. Сменивший ее на престоле Павел I, старавшийся всячески отмежеваться от начинаний своей великой матери, нарушил преемственность как внутренней, так и внешней политики Русского Двора. Сразу после восшествия на престол Павел распорядился послать гонцов в каждый отдельный полк армии Зубова с требованием немедленно отступить на Кавказскую линию. Ситуация была, парадоксальной: победоносно шествовавшая, не потерпевшая ни единого поражения армия, добровольно оставляя занятые рубежи, отступала назад, бросив местное армянское население, которое, внемля призывам: Аргутяна, так самоотверженно и ревностно поддерживало продвижение русских, на произвол судьбы.
Отступление русских войск было фактическим приглашением Ага-Мамед-хану вернуться в Закавказье и властвовать там по своему усмотрению. И кровожадный владыка Ирана не замедлил воспользоваться этим своеобразным приглашением. Весной 1797 года Ага-Мамед-хан вторгся в пределы Карабаха. Разоренная страна без сопротивления сдалась ему на милость. Ибрагим-хан, не оказав сопротивления, вместе с семьей бежал в Дагестан. Жестоким гонениям со стороны персидских захватчиков подверглись армянские мелики, в особенности мелик Варанды Джумшуд. Помимо преданий, о претерпленных стеснениях со стороны Ага-Мамад-хана говорит и сам Джумшуд в многочисленных своих обращениях к Павлу I и другим представителям военно-политической элиты России.
Мелик Абов, согласно Раффи, незадолго до занятия Ага-Мамед-ханом Шуши уехал в Грузию. Согласно Лалаяну, отъезд Абова в Грузию имел место уже после занятия Шуши и Карабаха персами. При этом и Лалаян, и Раффи точной даты не называют. Не называет точной даты и сам Абов. В своем, упомянутом нами, письме Минасу Лазаряну Абов о своем переселении в Грузию говорит буквально следующее: "По этой причине (по причине показанных им храбростей при разгроме отрядов Ага-Мамед- хана у стен Шуши. – авт.) царь Ираклии, желая иметь нас себе в помощники, клятвами и бумагами заверил нас, чтобы мы пришли к нему, обосновались в его владениях и признавались равными с его первейшими тавадами и князьями. Мы пришли. Согласно своему обещанию царь дал нам Болнис, а в своем дворце назначил нам место выше всех своих старшин". Как видим, свидетельство Абова также не дает четких представлений о времени его переселения в Грузию. Еще одно сведение, способное пролить свет на интересующий нас вопрос содержится в прошении Джумшуда и Фридона И.В. Гудовичу от 1 августа 1797 года. В нем мелики в частности пишут: "Однако за возвращением войск е.и.в. в Россию дело спасения нашего и в сие время не достигло благополучнаго конца, а упоминаемый Ибреим-хан, под видом якобы я с россиянами имел согласие, что и в самом деле было, взыскал с меня семьдесят тысяч рублей денег, разграбив при этом дом и все имение мое, и тем спас себя от томления мучителя (Остается непонятным, о ком именно говорится в этом абзаце. – авт.).
После того отправили мы мелика Абова в Тифлис к г. ген. Римскому-Корсакову и потом к г. полковнику Нелидову, чтобы было позволено находящемуся в Ганже войску российскому приближаться к владению сего мелика, в 30-и верстах от Ганжи отстоящему, для забрания имения нашего с семействы; но они не имев на то повеления, не могли подать нам пособия".
Отступление русских войск, как было уже сказано, началось в конце 1796 начале 1797 года. Исходя из этого можно сказать, что описанная в этом прошении поездка Абова в Тифлис, имела место не ранее начала 1797 года. Внимательное прочтение этого отрывка позволяет нам говорить, что ко времени поездки Абова в Тифлис его подданных в Карабахе уже не было. Прийти к такому заключению помогают следующие нехитрые логические рассуждения:
1. Джумшуд и Фридон пишут, что направили, а говоря более ясно, попросили поехать Абова в Тифлис, но не указывают, где в это время находился сам Абов. Он мог поехать в Тифлис из Карабаха, из Гандзака, из Болниса или откуда-то еще.
2. Поехавший в Тифлис Абов должен был попросить у русских генералов соизволения, чтобы находившееся в Гандзаке войско переселило из Карабаха подданных только Фридона и Джумшуда, а не своих подданных в том числе.
Последнее можно объяснить только тем, что таковых в Карабахе к тому времени уже не было. Часть этих самых подданных Абов, по всей вероятности, вывез с собой в Грузию, часть принадлежали Фридону, а основная часть рассеялась в сопредельных областях и странах, спасаясь от голода и разорения.
Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что отъезд (переселение) Абова в Грузию имело место не ранее декабря 1796 года (если принимать за правду сведение Раффи о роли Абова в занятии русскими войсками Гандзака) и не позднее весны 1797 года – начала второго нашествия Ага-Мамед-хана на Карабах, ибо, согласно тем же Джумшуду и Фридону, Абов был "направлен" ими в Тифлис до вышеупомянутого нашествия. Относительно переселения Абова в Болнис необходимо отметить также, что оно соответсвовало интересам не только гюлистанского властителя, но и грузинского царя Ираклия (см. вышеприведенный отрывок из письма Абова Минасу Лазаряну).
Завершая рассказ о времени и обстоятельствах переселения Абова в Грузию, следует отметить также, что Болнис был не единственным местом, где мог поселиться Абов. Этому пустынному, незаселенному краю Грузии имелась другая, более благополучная и благоустроенная альтернатива – исторический армянский гавар Лори.
В 1790 году этот гавар Ираклий подарил известному индийскому армянину, сподвижнику дела восстановления независимой Армении – Шаамиру Шаамиряну. В 1792 году, как пишет Лео, Шаамирян в письме католикосу Гукасу высказал намерение: "передать, город Лори вместе со всем гаваром мелику Абову, которого он называл любимцем" Однако Абов, неизвестно почему, отказался от этого щедрого подарка, о чем в своем письме от 10 мая 1796 года Шаамиряну сообщает грузинский царевич Георгий.
Этим пока ограничим наш рассказ о жизни Абова и попытаемся восстановить основные вехи в жизни другого представителя рода Мелик-Бегларян – Фридона, сына Беглара.
Фридон.
23 июня 1797 года грузинский царь Ираклий II отправляет российскому канцлеру князю А.А. Безбородко письмо следующего содержания: "Жительствующий в Карабаге князей меликовых армянский народ из давних времен имеет желание переселиться на жительство к христианам, дабы тем избавиться от рук неверных, и от претерпеваемого им там великаго угнетения. Почему карабагския князья мелик Джимшид, сын Мелик шахназаров и Мелик Придон, сын мелик Бегляров ныне, нашед удобной случай, купно и с семействами своими из Карабаге уехали и прибыв к нам, объявили свое желание о вышепоказанном армянскаго народа переселении и о желании их для сего отправиться к высочайшему е.и.в. двору; а как е. Пр-во архиепископ гаосиант князь Иосиф Долгоруков Аргутинский по высочайшему повелению с победоносным российским воинством сюда приехавший и здесь находившийся отправился в Россию, то мы при сем случае помянутых князей меликовых с ним и отправили, коих имею честь препоручить в высокое в.св. покровительство, прося удостоить их допущения к себе для подробнаго о своих обстоятельствах донесения и удостоить также представления е.и.в., дабы помянутые христиане колеблющиеся от беспокойствия чрез ходатайство ваше избавились от угнетения".
Какое же "великое угнетение" заставило Фридона и Джумшуда оставить родину? Что вообще предшествовало этому? Как проистекала жизнь наследника мелика Беглара после смерти последнего? Ведь после скупого упоминания Раффи о том, что после смерти Беглара Фридон из-за малолетства не смог унаследовать власть отца, выше приведенное письмо Ираклия – первое по хронологии сведение (доступное нам), где упоминается имя Фридона. Жизнь этого отпрыска Мелик-Бегларянов за более чем 15 лет, прошедших после смерти его отца (а как вы помните, Беглар умер в конце 1779 – начале 1780 года) так и осталась бы тайной, если бы ни его многочисленные прошения, обращения различным высокопоставленным русским деятелям, в том числе и императору Павлу I, сделанные после упомянутого в письме Ираклия переселения из Карабаха. Почти во всех этих прошениях Фридон, прежде чем собственно саму просьбу, дает нечто вроде автобиографической справки. Прочтение любого из этих обращений дает нам в той или иной степени целостное представление о его отрочестве и начале зрелой жизни. Проследить указанный период его жизни мы решили, не пересказывая содержание его прошений, обращений и писем, а цитируя одно из них, на наш взгляд, самое подробное с биографической точки зрения, в случае необходимости комментируя и сопоставляя с другими свидетельствами.
Итак, послушаем Фридона. 23 декабря 1798 года он пишет в прошении Павлу I, в частности, следующее: "За 20 лет перед сим ген. Гр. Суворов, что ныне фельдмаршал в.и.в, находясь в Астрахане, писал оттуда в Карабах к отцу моему мелику Бегляр Иосифову, и величайшим именем покойныя родительницы в.в. предлагал, что буде он мо православию имеет желание с подданными своими выйти в Россию, всемилостивейше будет принят в высокое всероссийсого двора подданство, на что родитель мой и отвечал, что когда пришлется туда победоносное войско российское, то он снабдевая оное на свое иждивение потребным на чужой стороне содержанием не оставит купно с ним и своими подданными всеохотно выйти в Россию".
Здесь Фридон несколько "корректирует" историю, рисуя события прошлого в выгодном для себя свете: прося у Павла соизволения и помощи для переселения своих подданных в Россию, Фридон стремится показать, что такого рода прошения делались армянскими меликами и в прошлом, и тогда это было благосклонно воспринято военно-политическим руководством России. В качестве подтверждения Фридон указывает на никогда не имевшее место обещание Суворова Беглару переселить его вместе с подданными в Россию. Между тем известно, что такая перспектива в ходе подготовки к Персидскому походу в начале 80-х не рассматривалась. Да и армянские мелики того времени с подобными просьбами к России не обращались. Они лишь просили "о спасении от врагов своих" и желали с помощью победоносных войск императрицы стать "победителями и гонителями врагов Христого креста”.
Далее Фридон пишет: "После чего по нещастному случаю в сражении против всегдашних нам врагов лезгинов убит. Я же тогда оставался малолетен. Спустя несколько лет после этого ген Потемкин, прибыв на Кавказскую линию и не зная ничего о памянутой кончине родителя моего, писал к нему ж, что по желанию его дано повеление победоносному российскому войску идти в Грузию под предводительством полк. Бурнашова, и чтоб он, родитель мой, готовился с своими подданными к выходу из Карабага, которое письмо, как уже родители моего в живых не было, принял я с пролитием многих слез радости. Но Ибрагим Халиль хан шушинский, не доверяющий никому из христиан, и имеющий над ними тысящи присмотрщиков, проведав об оном письме и что войско российское дошед до Генжи, не останавливаясь, по повелению возвратилось обратно в Грузию, оставя меня жертвою, напал на меня и на мое имение, и разграбил оное до основания".
Данный абзац также содержит в себе несколько неточностей. Так, приближение Бурнашева к Гандзаку имело место, как известно, в 1787 году. Потемкин, якобы сообщивший Беглару об этом, не мог не знать, что к этому времени Беглара не было в живых, ибо еще в начале 1780 года русским известна была информация, правда непроверенная, о гибели Беглара. Вышеупомянутое письмо Потемкина по всей вероятности имело совершенно иное содержание. А о приближении Бурнашева к Гандзаку Фридон узнал из другого источника. Наряду с этим, процитированный абзац свидетельствует, что в злосчастном 1787 году гонениям и притеснениям за пророссийскую ориентацию в числе других подвергся и Фридон. Данное обстоятельство можно рассматривать как косвенное свидетельство его совершеннолетия в этот момент, а это значит, что примерный год рождения Фридона следует искать во второй половине 60-х годов XVIII века.
Фридон, как видно из продолжения того же прошения, разделил судьбу Абова и Меджлума и вынужден был искать спасения бегством из Карабаха. "Я, – пишет он, – видя толикую себе гибель и разорение для спасения жизни своей, принужден был оставя всех подданных моих с одним семейством моим бежать в селед за войском в Грузию, где вступив в службу е. выс. покойного грузинского царя Ираклия Теймуразовича и претерпевая крайнюю во всем нужду за разграблением в Карабаге моего имущества, находился до самого начала прошедшей войны с Персией, и известись, что уже она открыта, и что предводительствуем российским победоносным войскам ген. гр. Зубов, отправился к нему в армию с тем, чтоб служа всероссийскому императорскому престолу под прикрытием войска его вывесть в Россию оставшихся в Персии моих подданных. Но как и сей армии предписано было не совершив освобождения нас от ига варваров возвратиться в Россию, то я едучи из оной паки в Грузию на пути не мог укрыться от поисков Ибрагим Халиль хана, кои его люди поймав меня предали всей его жестокости”.
Убежав, как и Абов с Меджлумом к Ираклию II, Фридов, в отличие от них, не смог победоносно вернуться на родину, что, вероятно, объясняется его молодостью, неопытностью и, как следствие, отсутствием воинского авторитета среди бежавших, как и он, в Грузию карабахцев. У Ираклия Фридон оставался целых 9 лет и, услышав про поход Зубова, отправился в его армию. Говоря о мотивах своей поездки в армию Зубова, Фридон, возможно, и здесь пытается "подкорректировать" прошлое, по крайней мере такое ощущение возникает при сопоставлении данного прошения Фридона с написанным им, совместно с Джумшудом прошением графу Гудовичу от 1 августа 1797 года. В этом прошении причиной поездки Фридона к Зубову названо не желание с помощью русских переселить своих подданных, а готовность "споспешествовать в истреблении сопротивных и свержении с нас беззаконнаго ига их". Что же касается учиненных Ибрагим-ханом притеснений за сотрудничество Фридона с русскими, то этот факт является лишним доказательством того, что слова шушинского Хана о признании над собой верховенства России были лицемерными, коварными и лукавыми.
В руках Ибрагима Фридон оставался недолго. От пыток и издевательств его спас родной дядя (брат матери) Джумшуд Мелик-Шахназарян, выплатив шушинскому хану 10 тысяч рублей. Произошло это непосредственно перед вторым нашествием Ага-Мамад-хана на Шуши.
А вот как описывает дальнейшие события сам Фридон: "Но по нашествии на Карабаг Аги-Мугаммед хана, от коего мучитель Ибрагим Халиль хан сам принужден бежать к лезгинцам и по ограблении им остатков имение благотворителя моего высоко почтенного дяди мелика Джумшуда, и когда сам Ага-Могаммед хан в Карабаге от-своих убит, я с помянутым дядею моим удалился оттуда в Грузию, куда после того, и именно в прошлом 1797 г. в сентябре месяце братья мои и другие дяди по смежности владения моего с оным царством вывели всех моих подданных числом до 1000 семей, коих е. выс. царь Георгий Ираклиевич с благоволением принять изволил".
Ага-Мамед-хан был убит в Шуши 6 июня 1797 года руками своих вчерашних единомышленников, недовольных чрезмерно жестоким отношением к себе. Уже через 17 дней, как явствует раннеприведенное письмо Ираклия, Джумшуд и Фридон были в Тифлисе. Это значит, что их выезд из Карабаха после убийства шаха был незамедлительным. Что же представлял тогда собой Карабах? Это была разрозненная, разрушенная страна, измученная многолетними войнами и набегами. Вдобавок 1797 год выдался на редкость неурожайным. В крае начался небывалый голод. Положение было настолько катастрофическим, что согласно тюркским преданиям часть населения опустилась до каннибализма, а армянские источники называют случаи вынужденной продажи детей в рабство. Положение еще ухудшила возникшая эпидемия холеры. Население Карабаха стало покидать тысячелетнюю родину, спасаясь от голода и болезней. В крае воцарилась мертвенная, пугающая тишина. 1797 год можно считать годом окончательного упадка страны Хамсы. Вот в таком положении была их родина, когда Джумшуд и Фридон оставили ее и отправились искать счастья на чужбине. Было это, как мы уже говорили, между 6 и 23 июня 1797 года. Вскоре, как пишет Фридон, в Грузию, которая, по выражению Лео, была для карабахцев в то время "землей обетованной", направились "братья и другие дяди" Фридона, выводя с собой 1000 семей его подданных. Примечательна фраза "другие дяди". В армянском варианте этого прошения говорится о братьях отца Фридона ( в армянском языке, в отличие от русского, братья матери и отца обозначаются разными словами). Множественное число (дяди), использованное Фридоном, свидетельствует о том, что у его отца – Беглара, помимо Абова был по крайней мере еще один брат. Учитывая, что Абов в это время жил в Болнисе, а следовательно, к выведению подданных Фридона не мог иметь никакого отношения, можно предположить, что кроме Абова у Беглара было как минимум два брата.
Стремление меликов перейти под покровительство России нашло понимание и поддержку со стороны русских военных и политических деятелей. Спустя немногим более месяца после письма Ираклия князю Безбородко – 1 августа 1797 года – мы видим меликов в Георгиевске, где они в прошении к Гудовичу просят соизволения вместе со своими подданными поселиться на Кавказской линии. Число своих подданных мелики оценивают в 11 тысяч семейств, из которых 5 тысяч живут в Шаки и в Ширване (вероятно, переселились туда вследствие известных событий в Карабахе), а 6 тысяч – в самом Карабахе, для вызволения которых мелики просят употребить находящееся в Тифлисе российское войско. 10 августа Гудович сообщает об этом прошении меликов Безбородко добавляя в конце, что отправил меликов до дальнеших распоряжеиий в Астрахань "армянский архиеписоп Иосиф, отправляющийся в Санкт-Петербург, зделает в.с. по сему предмету подробные донесении".
7 октября того же года Гудович получает "Указ Павла I о принятии в российское подданство карабахских меликов", в котором император предписывает Гудовичу сделать все нужные распоряжения для переселения 11 тысяч семей подданных меликов. В конце своего указа Павел добавляет: "А между тем, помянутых двух меликов, по желанию их, отправить в столицу нашу, донеся нам предварительно, какое вы с ними соглашение и распоряжение учините".
Однако просьба меликов относительно переселения столь большого числа своих подданных вскоре была отвергнута русскими военными, так как это предприятие чревато было "большими-иждивениями" и подразумевало необходимость послать войска "в их жилище". Между тем, предписание императора об отправке меликов в столицу было исполнено. 9 марта 1798 года Джумшуд и Фридон подали императору Павлу I прошение, состоящее из 4 пунктов, которые сводились к следующему:
1. Принять под покровительство России Карабах, по праву и наследству принадлежащий армянским меликам, а не шушинскому хану (который в результате очередного подарка судьбы – убийства Ага-Мамед-хана – вернулся в Карабах).
2. В случае неприемлемости по какой-либо причине этого, предложения мелики просят 12 тысяч русских солдат, чтобы при помощи их вывести из Карабаха оставшихся там христиан и верных им (меликам) магометан, а также других армян, находившихся в Шаки и Ширване. Число своих подданных мелики на этот раз определяют в 20 тысяч семейств и просят при благополучном исходе данного предприятия отдать им под поселение "ту пространную землю, которая от местечка Мошарь простирается до Екатерин(о)-града и окружностей его…»".
3. Если же и первое, и второе предложения окажутся неблагоугодными, то мелики просили у Павла по крайней мере повелеть грузинскому царю отвести им под поселение древнюю армянскую область (наанг) Гугарк "ныне Хазах именуемую и простирающуюся до провинции Лоры".
На случай, если Павлу "не благоугодно будет снизойти ни на который пункт вышеозначенных прошений", мелики просили его самому решать и участь ("ожидаем судьбины, какую угодно будет вам").
Вот перед нами краткий пересказ содержания прошение. Нельзя не заметить то отчаяние с которым излагалась последняя просьба. Очевидно, что самым приемлемым, наименее проблематичным для России был третий пункт прошения. Для реализации любого из первых двух пунктов требовались известные издержки и фактически новая Персидская кампания. Ясно, что пойти на такие жертвы Россия не могла, да и не хотела. Проблематичность реализации четвертого пункта, по-видимому, заключалась в том, что Павлу и его окружению трудно было бы найти область, где можно было бы с выгодой для России употребить умения и навыки простосердечных, малограмотных, не говорящих по-русски горских князей. Да, третий пункт прошения меликов был самым приемлемым для Павла. Однако и его реализация была сопряжена с проблемами. Дело в том, что, вернув свои войска на Кавказскую линию, Россия фактически добровольно отказалась от своего влияния в Грузии. Назад в Россию были отозваны даже те два батальона, которые находились в Тифлисе с 1783 года, с момента подписания Георгиевского трактата. Иными словами, Грузия была предоставлена сама себе, лишена покровительства, попечительства России. Грузия рассматривалась с точки зрения внешней политики Павла в лучшем случае как союзница и уже не подопечная и не вассал. Исходя из этого, российский император не мог повелевать грузинскому царю совершить те или иные действия. Именно по этой причине удовлетворение просьбы меликов оттянулось почти на полтора года.
В 1799 году Россия, внемля многочисленным просьбам грузинского царя Георгия XII, возобновила свое присутствие в Грузии, направив один из своих полков под командованием генерала Лазарева в Тифлис. Политическое присутствие олицетворял собой государственный советник Ковалевский, ставший послом России при Грузинском Дворе (в свидетельствах он нередко упоминается как министр по Грузии). 2 июня того же года наконец-то благополучно разрешилась просьба Джумшуда и Фридона. Именно в этот день увидела свет "Грамота Павла I карабахским меликам", та самая грамота, вступительная часть которой начинается следующими, известными многим словами: "Державной и знаменитой Карабахской области благородным меликам, Джимшиду Шахназарову, владельцу варандинскому и Фридону Бегларову, владельцу гюлистанскому, и всем прочим оной знаменитой области владельным меликам и юс-башам и всему народу наша императорская милость и благоволение". После этого пространного обращения Павел объявляет меликам, в частности, следующее: "[Мы] соизволили предоставить вышеозначенному царю» (Георгию. – авт.) отвести просимую вами для поселения землю Хазах, буде не занята, или другую по вашему желанию и оставить вам над подвластным вам армянами, кои добровольно из Карабага к вам переселиться пожелают, ту самую власть и преимущества, какия в прежней отчизне вы имели, о чем не оставили мы его высочеству сообщить нашею императорскую грамотаю".
Упомянутая грамота Георгию датирована 3 июня 1799 года и по содержанию во многом сходна с пожалованной армянским меликам, что в ней Георгию предписывается воплотить в жизнь обещания, данные Е.И.В. меликам. Гергий XII выполнил возложенные на него императором обязательства, выделив меликам земли на территории исторического армянского Гугарка. Фридон получил часть гавара Борчалу, мелик Джумшуд – гавар Лори.
Джумшуд и Фридон, последовав примеру Абова, смогли, покинув родные вотчины, обосноваться в более или менее благополучной Грузии и даже в собственность определенные территории. Однако Грузия так и не стала для меликов второй родиной, оставаясь лишь временным пристанищем.