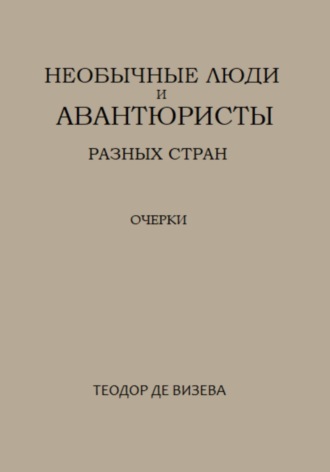
Теодор де Визева
Необычные люди и авантюристы разных стран
VI. По следам Наполеона. Странствия английского пастора
Сохранилась история о некоем английском «поклоннике», в течение долгих лет следовавшем за укротителем по всей Европе в надежде увидеть, как сей укротитель будет разорван на куски своими животными. Не знаю уж почему, воспоминания об этой истории приходили мне на ум, когда я читал интересную подборку писем, адресованных родственникам и друзьям в Англию в 1814 и в 1816 годах – после первого отречения Наполеона и после Ватерлоо – молодым англиканским пастором, Эдвардом Стенли, будущим епископом Нориджским и будущим отцом знаменитого декана Стенли176, одного из самых красноречивых религиозных ораторов XIX века. Нет, Эдуарду Стенли не посчастливилось следовать в последних «гастролях» за знаменитым корсиканским укротителем, коего он так жаждал увидеть разорванным на куски, вовсе нет, но зато ему за неимением сего счастья удалось дважды – сразу же, как он узнал о падении Наполеона – получить свирепое удовольствие, посетив все места, ставшие театром наибольшего сопротивления этому действующему лицу, и испытанные им чувства, как мне кажется, очень схожи с чувствами его легендарного соотечественника, посвятившего жизнь ожиданию конца легендарного укротителя. Чтение писем обнаружило также, что он был далеко не единственным англичанином, которому на следующий же день после завершения «французской кампании» и после Ватерлоо пришла мысль об этом несколько мрачном паломничестве, ибо на каждом шагу молодой пастор встречает группы англичан, кочующих, как и он, из деревни в деревню и выспрашивающих крестьян и хозяев гостиниц обо всех подробностях, связанных с напрасными усилиями, с неудачами и унижениями экс-императора.
Однако мы без труда можем понять, что полученные таким образом исторические сведения, составляющие большой том в триста страниц, имеют в основном сомнительную ценность, поскольку, очевидно, многие из опрошенных Эдвардом Стенли свидетелей попросту старались вытянуть из него деньги. Но тем не менее подборка писем является весьма ценным документом и для знакомства с памятными событиями, которые попытался воссоздать путешественник, и для изучения состояния французских городов и деревень накануне двух Реставраций. При всей свой свирепой ненависти к Наполеону и бесконечном презрении к Франции будущий епископ Нориджский был умен, образован, умел смотреть и слушать, и был в конце концов добрым малым, чье сердце знало жалость, как и другие благородные чувства, хотя почти всегда избыток предубеждения мешал ему проявлять к Франции и французам христианское милосердие, которое он расточал казакам, пруссакам, бельгийцам и итальянцам, всем несчастным, встречавшимся ему на пути. Я добавил бы к этому, что письма выдержаны в изящном стиле, без пошлостей и словесных излишеств, и изобилуют очаровательными живописными сценками, вполне заслуживающими внимания.
Подборка начинается серией писем, посланных из Франции в 1802 году – в то время, когда ненависть молодого пастора к «Буонапарте» была еще затаенной и уравновешивалась в его сердце признательностью и уважением к человеку, освободившему Европу от кошмара революции. К сожалению, эти письма – весьма немногочисленные, впрочем, – почти не содержат интересных фактов. Первое послано из Руана в июне 1802 года. Стенли потрясли «признаки нищеты», обнаруженные им «как в домах, так и у их обитателей», но он тут же спешит признаться, что нищеты становится меньше, а Руан, в частности, «находится в самом цветущем состоянии». В этом городе он присутствует на представлении «Приданого» и «Блез и Бабе»177, зал заполнен офицерами и солдатами; когда же некоторые зрители позволяют себе освистать певицу, то военные хватают недовольных и отводят их в полицию! В Париже, где «полно англичан », Стенли не может удержаться от восхищения «царящими повсюду порядком и размеренностью»; и делает заключение, что «военный» режим и сильная полиция, введенные недавно Первым консулом, – «наиболее подходят для этой страны, но пусть Господь не допустит, чтобы мы у себя в Англии имели такое положение дел»! Ибо вся Франция – ни что иное, как «большая казарма», и в одном только Париже «насчитывается более пятнадцати тысяч солдат».
Конечно же, Стенли был бы очень счастлив лицезреть новоиспеченного великого человека, но тот не спешил являться публике, и наш путешественник направляется в Лион, где хотя бы может в качестве утешения поприсутствовать на замечательном сеансе усекновения голов при помощи гильотины. Пятеро разбойников с большой дороги были поочередно казнены на площади Терро. «Вся процедура заняла не более пяти минут… Особенно мне запомнилось ужасное состояние пятого приговоренного: он видел своих товарищей, по очереди поднимающихся на эшафот, слышал все роковые удары и видел, как убирают тела, чтобы освободить ему место. Никогда не забуду выражения его лица в тот момент, когда он распростерся на скамье смерти: он заметил корзину, куда упали головы его товарищей, – и сразу закрыл глаза, в тот же миг его лицо стало багровым; потом дернули за веревку – и он умер.»
В гостинице по дороге из Лиона в Женеву Стенли ужинает с двумя французскими офицерами. Один из них оказывается по происхождению швейцарцем. Он ненавидит консула «потому, что тот уничтожил его родину»178; но другой, француз, ненавидит его еще больше во имя Руссо и республиканских принципов. Этот офицер-«санкюлот», который, как отмечает Стенли со страхом, «сомневается в существовании дьявола», упрекает Бонапарта и «за мир с Англией»179 и – удивительно! – «не переставая говорить, не перестает есть». Любопытно было бы узнать, что сталось потом с двумя офицерами, и по-прежнему ли они продолжали упорствовать в своем якобинстве тогда, когда Наполеон, нацепив им на грудь почетный крест и по-отечески им тыкая, повел их на завоевание мира.
Первая подборка писем, я уже упомянул, имеет для нас весьма скромный интерес; мы смирились бы также, если бы не были знакомы и с письмами, составляющими следующую главу, с описанием пребывания в 1814 году в Лондоне короля Пруссии и императора Александра, но там есть любопытный рассказ об обеде у сэра Хэмфри Дэви180–, на этом обеде мадам де Сталь сразилась на «дуэли красноречия» с лордом Байроном. «Красноречие – это сила слов, но ей этого недостаточно. Она говорит, как пишет; а в тот вечер, кроме того, ее вдохновляло негодование, возникшее при виде столкновения двух противоположных мнений… Она казалась очень изумленной, когда узнала, что даже совершенная и безупречная английская конституция – и та требует решительных преобразований… и что Великобритания, этот мировой оплот, всего лишь утлый челн, вот-вот готовый погибнуть. Таковой, по крайней мере, была представлена госпоже де Сталь наша страна ее оппонентом, Чайльд Гарольдом (лордом Байроном), чье мнение, отчасти из-за необходимости противоречить, становилось все более отрицательным по мере того, как его партнерша все более воодушевлялась. В остроумии же превосходство всецело осталось за поэтом. Лорд Байрон – это меланхолия и сарказм, сдерживаемые хорошим воспитанием, он обладает природным дарованием, которое уравновешивает непредсказуемость его поведения и недостаток героизма, все, что составляет его характер. Это душа, которая никогда не внушит нам мысли о солнечном свете, но которая освещается порой блеском молний.»
Письмо, рассказывающее об этой встрече, написано не Эдварддом Стенли, а подругой его молодой жены. Меж тем, будущий епископ находился в Лондоне во время торжественных визитов государей-победителей Наполеона; и его жена даже рассказывает нам, что однажды в воскресенье, когда Стенли проводил службу в церкви, она увидела, как вошел некто – если не сам король Прусский, то необыкновенно на него похожий, – сел в углу и стал с самым сосредоточенным видом слушать. С этого момента Стенли думал лишь об экспедиции, которую намеревался предпринять: его лихорадило от желания убедиться, так сказать, лично, что ненавистный укротитель Европы съеден, он хотел насладиться созерцанием капель крови, еще видимых на песке в клетке, где только что наступила давно ожидаемая развязка. Не прекращая проповедей и постоянно подстерегая на улицах Лондона появление короля Прусского, царя Александра или его эксцентричной сестры, герцогини Ольденбургской, чьи нелепые наряды и реплики стали источником наслаждения английских аристократов, Стенли составлял маршруты, наводил справки об успешных этапах завершившейся кампании и готовился пройти – но в обратном направлении, от Парижа до Рейна – по всем местам, где Наполеона терял свои последние силы и последние надежды. Наконец 26 июня 1814 года он с радостью сообщил из Гавра жене, что переплыл «Рубикон»181 и высадился во Франции, где «все показалось ему новым, интересным и бесконечно прекрасным». И он заранее облизывался при мысли о лакомстве, которое намеревался получить.
В Гавре, как впоследствии в Париже и по всей Франции, одно из самых приятных впечатлений осталось у него от знаков уважения, оказываемых ему, благодаря его званию англичанина. В последующих письмах он неоднократно сообщает жене, что звание это открывало перед ним все двери, позволяло занимать лучшие места и быть принятым с почтительностью, которая, впрочем, для него была причиной еще больше презирать французов за их низость. Вот так, пользуясь покровительством благодушных властей и услужливостью населения (которое, может, и впрямь, как он думал, его боится, или, может, просто ценит в нем способность постоянно давать монеты в два су и в двадцать франков), он, взяв направление из Гавра на Шалон, приступает к выполнению задуманного плана.
В Париже он спешит посетить Бельвиль и Монмартр, где разыгрались финальные сцены трагедии182. «Там (у заставы Монмартра) собирались группы людей, они обследовали места и беседовали о битве и о Буонапарте. До этого дня я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь честно и открыто высказывал свое мнение о нем, но здесь мне не раз предоставлялся случай подойти к этим группам, где его имя вызывало поток таких ругательств, какие только могли изобрести французская ненависть и возбуждение. Негодяй, животное, вор, и т. д. – такой монетой платили бывшие подданные своему повелителю за его деспотизм.» Из полученных сведений Стенли заключил, что окружающие Париж высоты «совершенно недостаточно были защищены и очень мало подготовлены к боевым действиям». Один очевидец рассказывает ему, как во время битвы внезапно у ворот Клиши появился Рено де Сен-Жан-д’Анжели и «очень громко потребовал стакан водки, затем продвинулся немного вперед, но тут его лошадь испугалась, всадник испытал те же чувства, – и оба устремились прочь, подальше от опасности, и больше здесь не появлялись». Впрочем, в тот день Париж с удивительной быстротой покорился своей участи. «В пять часов пополудни все было кончено; национальная гвардия и союзники совместными усилиями следили за порядком в городе. Вечером не открылись лишь театры, но этот вечер был единственным исключением, и на следующий день Пале-Рояль, полный нарядной публики, так же сверкал и был весел, как никогда. Правда, по признанию самого Стенли, большинство этих сведений были сообщены ему «его хозяином гостиницы», уверявшим, что участвовал в битве при Маренго183.
Несколько дней спустя наш путешественник был приглашен к мадам де Сталь и встретил там Лафайета и мадам Рекамье184. Первый оказался «высоким и плохо сложенным человеком, с лицом добрым, но без малейшего следа живости и красоты». А мадам Рекамье – «уже не первой молодости», но можно «без труда понять, что некогда она блистала в свете». Ее манеры весьма приятны, хотя и несколько томны, как, впрочем, и манеры других нынешних красавиц». Далее следуют подробные – и зачастую любопытные – описания королевской мессы в Тюильри, лекций в Ботаническом саду, заседания Законодательного корпуса, относительно которого английский пастор спрашивает себя, должен ли он признать его «отвратительным», судя по «замечательному беспорядку», или же просто «смешным».
13 июля Стенли вновь отправляется в путь, чтобы посетить деревни и города от Фонтенбло185 до Шалона – те места, где проходили недавние сражения. В Фонтенбло один человек из дворцовой прислуги сообщает ему, что именно он 31 марта около 9 часов утра помог Наполеону выйти из кареты. «Император казался грустным, очень грустным186. Не сказав никому ни слова, император очень быстро поднялся в кабинет, а потом вызвал его и потребовал планы и карты.» После чего и наш английский путешественник поднимается в этот кабинет, заставляет показать любимое кресло Наполеона и среди прочего разглядывает книги из его библиотеки, «весьма немногочисленные, почти все посвященные истории и совершенно определенно выбранные самим Буонапарте». Среди этих книг есть, однако, и французский перевод пьес Шекспира; а одна полка целиком заставлена трудами, посвященными истории церкви, «которые, если их владелец читал их, – шутливо добавляет веротерпимый пастор, – в некоторой степени объясняют нам, почему он почитал своим долгом заключить в тюрьму папу187 как последнего представителя породы опасных животных, давших повод к более, чем половине изложенных в этих трудах распрей и войн».
Кровать Наполеона в Фонтенбло была «очень неудобным сооружением, состоящим из пяти или шести матрасов под королевским пологом, с двумя шелковыми подушками по бокам». Во время своего последнего пребывания во дворце император ни разу не выходил за ограду. Чаще всего он прогуливался «в красивой длинной галерее, по обеим сторонам которой стояли бюсты его знаменитых генералов». Обедал он в «убогой комнатушке, не имевшей и признака роскоши», и как раз «в передней весьма жалкого вида» он и подписал отречение. Затем, до того, как покинуть Фонтенбло, Стенли узнает, что несколькими днями раньше прибыл еще один враг Наполеона с целью посетить «маленькую переднюю», где произошло отречение. Проводник Стенли просто сказал ему, что видел входивших во дворец «трех господ иностранцев», чьих имен он не знает; но господа сами написали свои имена на листе бумаги и скромно положили этот лист за зеркалом в обеденном зале главной гостиницы города: «Его Величество король Прусский и его сын, принц Вильгельм, в сопровождении первого камергера, господина барона фон Амболя, обедали в этом номере 8 июля 1814 года.»
В Гине Стенли завтракает на убогом постоялом дворе, где Наполеон провел ночь. «Хозяин описал мне его одетым в серую шинель, comme un perruquier188; он стремительно вошел, был очень оживлен, очень рано поднялся к себе, и вновь появился на следующее утро в 9 часов. И хозяин прибавил: «Je réponds bien qu’il n’a pas dû dormir pendant tout ce temps-là!»189 В Мо путешественник «начинает обнаруживать последствия войны». Ему показывают каменный мост, который Наполеон приказал взорвать, а также следы ужасного взрыва порохового склада. Склад был полностью уничтожен, а многие соседние дома – наполовину разрушены, взрыв повалил также изрядное число деревьев в саду по соседству; но убит был только один человек на площади, «похоже, мародер, занимавшийся грабежом».
Впоследствии, от Мо до Шалона Стенли отмечает странное явление, которое не в состоянии понять, но которое бесконечно забавляет его. Повсюду жители тех мест, где проходило какое-нибудь сражение, уверяют его – несмотря на вознаграждения, – что именно Наполеон одержал здесь верх. Когда же Стенли спрашивает, как при подобных обстоятельствах могло случиться, что так называемый победитель сам вынужден был признать свое поражение, бедняги, поставленные в неловкое положение его диалектикой, всегда заканчивают тем, что приписывают последнюю неудачу императора какой-то «petite trahison190». Ответ, приводивший в отчаяние английского путешественника. «Вот что они говорят мне постоянно; и, по правде, они заслуживают – да и я им желаю от всего сердца – быть посрамленными в своей гордыне и наглости!»
В пригородах Суассона не осталось ни одного неповрежденного дома. «Я не смог бы дать вам лучшего представления о количестве произведенных выстрелов иначе, как поклявшись, что на фасаде лишь одного – и взятого наугад – дома я насчитал около трехсот отметин от пуль. Я прислонился к обломку разрушенной стены в саду, который, по-видимому, служил входом в некое подобие подвала, и в это время ко мне подошел садовник и поведал о подробностях битвы. Он и еще сорок четыре жителя предместья скрывались тогда в этом подвале, дрожа от дикого страха, что их кто-нибудь найдет, будь то свои или чужие. Когда сражение закончилось, несколько русских солдат вошли в подземелье, рассчитывая обнаружить там солдат французских, но, увидав, с кем имеют дело, ограничились тем, что отослали их прятаться в другое место.» И как еще не отметить в письме из Суассона одну особенность, в которую верится с трудом? Напоминая жене, что «Буонапарте» в одном из «Бюллетеней» ругал губернатора, позволившего союзникам овладеть городом в то время, когда он преследовал их, – Стенли упрекает «Англию, единодушно принявшую это за чудовищное бахвальство» – это первый и единственный раз, когда он определенно признает правоту «Буонапарте»!
Шавиньон, Лан, Корбени, Берри-о-Бак – таковы этапы странствий. В Кране высказывания начальника почты окончательно разрушают только-только зарождавшееся в душе паломника хорошее отношение к Наполеону. «Император, распоряжавшийся лично, приказал почтмейстеру явиться к нему и беседовал с ним почти час. Если этот человек сказал мне правду, беседа императора была довольно несерьезной. После множества расспросов о дорогах и местности Наполеон начал извергать потоки ругательств в адрес русских, уверяя почтмейстера, что решил нанести им скорое возмездие.» В Берри-о-Баке, небольшом городке, который русские брали четыре раза, а французы – три, Стенли оплакивает печальную участь моста, достроенного по приказу императора в декабре 1813 года и разрушенного им 19 марта следующего года. «При грохоте взрыва многие жители поумирали со страху; один человек, с виду джентльмен, уверял меня, что его собственный отец был в их числе.»
Невозможно проанализировать здесь, письмо за письмом, этот подробнейший отчет о путешествии Стенли. Я добавлю только, что в Реймсе среди раненых, находившихся во временном госпитале, образованном в стенах бывшей церкви, он неожиданно встретил соотечественника, английского солдата, раненого в битве при Сен-Жан-де-Люсе; – и что в Вердене, где Наполеон надолго задержал многочисленные войска англичан, Стенли еще раз вынужден был признать ошибочность общественного мнения своей страны, поскольку участь этих англичан, в конечном итоге, нельзя считать трагической, напротив, их собственное поведение представлялось далеко не образцовым. Наконец, вот небольшая сценка, одновременно любопытная и трогательная, произошедшая, когда будущий епископ направлялся в кабриолете из Вердена в Мец:
По дороге нам повстречался бредший понуро изможденный бедняга с обмотанной вокруг талии шинелью. «Сударь, не позволите ли вы мне подсесть к вам?» – спросил он меня самым жалостливым тоном. – «Извольте, – ответил я, – залезайте!» Через несколько минут я полюбопытствовал узнать, что же за товарища я приобрел и представьте мое удивление, когда я узнал, кто это был! Постарайтесь догадаться, кого Буонапарте завербовал в солдаты, желая водрузить на свое чело императорский венец, выигрывать битвы и заливать всю землю кровью! Ну так вот, для всего этого он выбрал траппийского монаха!191 Три года прожил мой попутчик в молчании и уединении в этом суровом братстве, пока Буонапарте не издал декрет, предписывающий всем послушникам монастыря возобновить отныне использование своего языка и шпаги. Вот таким образом, бедняга без особого воодушевления покинул обитель. Он сражался в битве при Лютцене и был покалечен. Взрывной волной от пушечного выстрела ему вырвало глаз, и новобранца бросило на землю, в тоже самое время его собственный выстрел убил на месте ближайшего соседа, после чего он попал в плен к шведам. Теперь он возвращался из Стокгольма, надеясь присоединиться к братьям своего монастыря, высланным под Фрибур Он поведал мне эту историю с простотой, которая является доказательством истинности сказанного; а с другой стороны, он показал мне свои четки и свидетельства.
После того, как мы долго говорили о битве, где он участвовал, я переменил тему, решив посмотреть, так ли хорошо мой солдат владеет искусством ученого спора, как военным искусством. Я сказал ему, кто я, и спросил его мнение о нашей протестантской вере. Поначалу, казалось, он не решался мне отвечать: «Подождите, сударь, мне нужно немного подумать!» Но не прошло и минуты, как он постучал в нас отделявшую перегородку. «Сударь, я подумал!» – и принялся за предложенную тему, которую обсуждал с большой долей здравого смысла и с воодушевлением, иногда по-латыни, иногда по-французски; но, защищая свои доводы самым решительным и непреклонным образом, он показал терпимость и истинно христианский дух, что меня искренно привязало к нему. Я спросил его, что он думает о возможности спасения для протестантов. «Вот, слушайте! – ответил он. – Я думаю, те, кто считает истинной верой веру католическую, но не соблюдает ее обрядов, будут осуждены на муки; но для тех, кто не думает, как мы, – о нет, сеньор, не верьте в это! о Боже! нет, нет, никогда, никогда!» Дабы прощупать иную почву, я сказал ему: «Вы абсолютно уверены, что священник не может жениться? Вспомните-ка, ведь святой Петр был женат!» — «Да, это правда, – ответил он, – но со времени, когда последовал за Господом нашим, никогда не слышали, чтобы он говорил со своей женой!» Мы коснулись других различных тем, в частности, сможет ли он отказаться от религии, если обнаружит ошибочность ее положений. «Сударь, – сказал он, – послушайте! Возможно ли, чтобы религия была истинной, коли она исходит из дурных принципов? Так некогда и англичане были добрыми католиками – развод своенравного короля явился первой причиной изменения. Ах! Это было нехорошо…»
Наконец, когда мы должны были расстаться, он повернулся ко мне: «Сударь, надеюсь, вы не рассердились на меня! Если с вами, с тем, кто оказал мне великую услугу, я говорил излишне прямо – простите меня; но я думал, что это – мой долг!»
«Он занимал меня увлекательной беседой, – добавляет Стенли, – всю дорогу до Меца, где я с сожалением расстался с ним, но, если б он пожелал составить мне компанию до конца моего путешествия, я бы с радостью предоставил ему место в моей коляске.» Ему и впрямь повстречался довольно симпатичный представитель «рода человеческого» с «истинно христианским духом», с равной ловкостью «владевший и искусством ученого спора, и военным искусством». Постоянно в ходе его экспедиции перед ним представали и иные образы французов, которые он также находил вполне приятными, и также постоянно позади них ему мерещился образ другого, вымышленного, «француза» – скорее призрака —, но тем более пугающий и ненавистный, который еще много лет после описываемых событий часто возникал в воспаленном воображении его соотечественников.
Наряду с этим хотелось бы отметить немало любопытных мест в письмах, составляющих вторую часть книги, где Эдвард Стенли рассказывает о своем посещении 18 июня 1816 года и в последующие дни поля битвы в Ватерлоо. На этот раз он взял с собой молодого английского офицера, который участвовал в сражении 18 июня 1815 года, что не помешало ему по своему обыкновению выспрашивать у хозяев гостиниц, у крестьян, пастухов и прочих местных «свидетелей», кои повстречались в самом Ватерлоо и в окрестностях, подробности для максимально точного воспроизведения всех драматических событий последнего отчаянного сопротивления ненавистного «Буонапарте» и его окончательного разгрома. Затем он направился небольшими переходами в Париж, ища по пути кровавые следы, которые свирепый укротитель, ныне смертельно раненый, мог там оставить. Каждое из его парижских писем полно меткими наблюдениями и мелкими деталями, дающими в совокупности замечательную картину бесцеремонности, с коей победители Наполеона кичились тогда перед нами своей победой. Ситуация самая что ни на есть смешная: Париж теперь и сам себя не узнает. Где французы? Нигде, везде все английское. Английские кареты заполонили улицы, и не видно ни одного роскошного экипажа, который не был бы английским. В театральных ложах, в гостиницах, в ресторанах, – словом, везде – расположился Джон Буль и всем завладел… Самое большее, если в окрестностях Тюильри или же то тут, то там в городе возникнут несколько сильно напудренных старичков, благообразных дедушек былых времен, бредущих нетвердой походкой, сухих и сморщенных, в лентах и с крестами святого Людовика». Английские солдаты армии Веллингтона во время пребывания в Париже сочинили песенку и орали ее, прогуливаясь по бульварам:
Louis Dixhuite, Louis Dixhuite,
We have licked all your armies and sunk all your fleet!
В переводе это означало: «Людовик XVIII, Людовик XVIII, мы разбили все твои армии и потопили весь твой флот!» И Стенли добавляет, что парижские зеваки, услышав «Louis Dixhuite», принимали песню за оду в честь Бурбонов и отвечали ласковой одобряющей улыбкой».
Но еще более интересным является письмо от 1 февраля 1815 года, в котором друг четы Стенли, знаменитый лорд Шеффилд192, излагает содержание долгой беседы, состоявшейся незадолго перед тем на острове Эльбе между одним из его племянников и Наполеоном.
Фред Дуглас пишет, что Буонапарте совершенно не похож ни на один из своих гравированных портретов. Это толстый человек с широкой талией, из-за которой он кажется маленьким. Черты его лица скорее суровы, глаза несколько блеклы, но губы, когда он улыбается, создают выражение некоторой кротости и доброжелательности. Вначале впечатление такое, что оказался перед человеком совершенно обыкновенным, по крайней мере, внешне, но по мере того, как все больше присматриваешься к нему и беседуешь с ним, замечаешь на его лице глубокую мысль и решимость.
Наполеон, помимо прочего, объяснил своему собеседнику, что Франция никогда не смогла бы приспособиться к английской конституции из-за отсутствия nobles de campagne193, являющихся одной из основ политической жизни Соединенного королевства. Он полагал, что мир в Европе не сможет долго продлиться и что «французская нация не смирится с потерей Бельгии»194 . И «он готов уступить во всем, кроме этого». По его утверждению, он также более всего сожалел, что не смог «создать в Польше независимого королевства, поскольку он всегда очень любил поляков и был у них в неоплатном долгу». Возможно, эти слова были отзвуком недавнего визита к суверену острова Эльбы некоей польской дамы, столь патриотки, сколь и красавицы. Полагаю, Эдвард Стенли, читая это письмо, где племянник лорда Шеффилда отдает должное очевидному интеллектуальному и духовному превосходству «Буонапарте», лишь удивленно пожимал плечами, испытывая вновь недоверие и раздражение, которые некогда вызывали у него сетования «глупых» солдат Великой армии, когда они, будучи повергнуты в прах после свержения своего императора, упорствовали, однако, в своей любви к нему и в восхищении.


