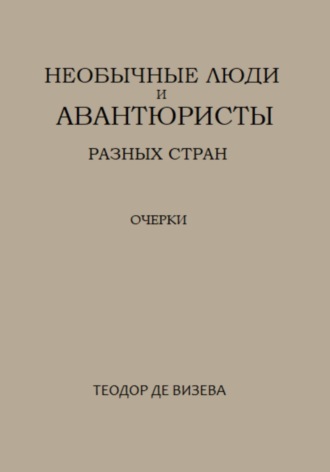
Теодор де Визева
Необычные люди и авантюристы разных стран
Книга третья. Cилуэты темных личностей
I. Два гения-убийцы
I. Юджин Эрам
Как бы ни были известны во Франции имена поэта Ласнера и врача Лапомре209, Англия может противопоставить им еще более известное имя и с еще большим основанием: это неподражаемый Юджин Эрам – он не только умел одновременно практиковать убийства и заниматься наукой, но также достиг и в том, и в другом деле высочайшей степени мастерства. Даже во Франции его слава некогда равнялась славе наших национальных убийц-французов, и сейчас из всех переводов романов Бульвера Литтона единственный, который все еще находит немногих читателей, – это тот, где повествуется о странной жизни Юджина Эрама и о его печальном конце. Но Бульвер Литтон, как обычно, совершенно не позаботился о соответствии рассказа действительности. Мрачный и романтичный герой его книги, за исключением имени – его звали Юджином Эрамом – и того, что он окончил жизнь на виселице, не имеет нечего общего со школьным учителем из Нерсборо, который обманул и убил сапожника Дэниэля Кларка, а затем снискал известность, установив первым, в 1755 году, связь между кельтским языком и индоевропейской группой языков. И хотя многочисленные поэты, писатели и драматурги, сделавшие героем своих произведений этого дважды знаменитого человека, не имели такого богатого воображения, как Бульвер Литтон, тем не менее ни один из них не позаботился о точности сообщаемых фактов; таким образом, подлинная история жизни Юджина Эрама постепенно исчезла в тумане легенды, откуда несколько лет назад ее благополучно вытащил на свет редактор «Найнтинс Сенчури». Впервые за сто лет англичане, благодаря ученым изысканиям господина Х. Б. Ирвинга, узнали, кем был человек, чье имя столь близко знакомо им, и заодно смогли установить, как их поэты, желая драматизировать образ Юджина Эрама, лишили его простого и страшного величия, а также всего особенного, типического и – осмелюсь утверждать – глубоко национального.
Юджин Эрам родился в Нетердейле, что в Йоркшире, в 1704 году. Он был сыном садовника, но семья имела благородное происхождение и некогда занимала самое высокое положение. В четырнадцать лет, без помощи учителя, Эрам начал изучать математику и пришел к решению нескольких задач алгебры, считавшихся до сих пор почти неразрешимыми, затем, желая целиком посвятить себя служению литературе, он оставил эти занятия, что – как мы увидим – не помешало ему извлечь выгоду из своего знания математики в один из самых важных моментов его жизни.

Но вначале стоит упомянуть об одном поступке, который он совершил в двадцать лет и который, по его признанию, был «самой первой и самой большой из его ошибок»: он женился. Его жена отнюдь не занимала более низкое положение, чем он, что могло бы быть поводом для недовольства ею, – просто инстинктивно Эрам презирал женщин, а презрение к жене у него со временем перешло в ненависть. К тому же бедняжка родила ему шестерых детей, что, конечно же, повергало его в отчаяние, так ка дети мешали милым его сердцу ученым занятиям.
А они-то захватывали его все больше и больше. К 1734 году, когда ему исполнилось тридцать лет, он основательно знал латынь, греческий и древнееврейский, читал в подлиннике Пятикнижие, находил ошибки у греческих грамматистов и сравнивал английский и латинский синтаксисы. Вместе с тем он был поэтом – и великолепным, – если судить по стихам, написанным накануне смерти.
Эрам, настоящий ученый, любил науку ради нее самой и не стремился извлечь из нее выгоду. Вынужденный заняться каким-нибудь делом, он выбрал профессию учителя; он учил грамоте детей из его родной деревни, а сам был увлечен сложнейшими вопросами сравнительной филологии. В 1734 году он перебрался из Недердейла в Нерсборо, где требовался учитель. Там он продолжил ученые занятия, но с меньшим усердием и с меньшим, чем ему хотелось бы, результатом – об этом Эрам сам сообщил нам в своей «Апологии» добавив, что извлек бы большую пользу из десятилетнего пребывания в Нерсборо, если бы занятия, далекие от науки, не отнимали у него часть времени.
По правде говоря, нам известно лишь одно из этих «занятий», но все заставляет думать, что у Юджина Эрама их было много. Как бы то ни было, но в один прекрасный день 1745 года к нему зашли в гости два местных жителя, его закадычные друзья – чесальщик шерсти Хаузмен и сапожник Кларк. Хоть и считалось, что они зарабатывают себе на жизнь своим ремеслом, но жили они в основном кражами и однажды им случилось даже под предводительством некоего Леви, тоже приятеля школьного учителя, убить в глухом месте чужеземного торговца. А в тот день они собрались обсудить, как вытянуть с помощью шантажа у родственников Кларка некоторую сумму, принадлежащую, как он полагал, ему по праву, и им понадобился совет их ученого друга. Эрам горячо поддержал их замысел, и его математическое мышление помогло ему придумать замечательный по своей простоте и логичности план.
Кларк и Хаузмен устроили все таким образом, чтобы ответственность за их «дело» падала только на Кларка, Кларк же должен был скрыться с третью всех денег, оставив остальные две трети Хаузмену и Юджину Эраму. А почему бы, коль так складывается, не действовать более решительно? И уж если договорились, что Кларк должен исчезнуть сразу же после того, как все закончится, то почему бы не дать ему возможность исчезнуть самым надежным способом – убив его? Вот что сказал себе изобретательный логик, и поделился своей мыслью с Хаузменом; и 8 февраля 1745 года в два часа ночи Кларк был убит своими двумя друзьями в пещере неподалеку от Нерсборо, где дожидался их, чтобы разделить только что добытые деньги.
Для Юджина Эрама это уж точно не являлось богатством, к тому же, сей ученый муж презирал богатство. Его единственной мечтой было иметь достаточно денег, чтобы бросить школу, жену и шестерых детей, являвшихся препятствием его успехам в языкознании. Через несколько месяцев после убийства Кларка Эрам бежал из Нерсборо, где уже ходили слухи о его причастности к убийству. Он отправился в Лондон, поступил там в качестве преподавателя в учебное заведение господина Пеймбланка, выучил французский, халдейский и арабский языки, истратил на покупку книг остатки денег, вырученных от преступления и, приступив к исследованию кельтского языка, обнаружил в нем около трех тысяч слов, имеющих связь со словами греческого и латинского языков – важное и поистине решающее открытие, поставившее Эрама в один ряд с самыми выдающимися языковедами.
Впрочем, открытие было для него гораздо менее прибыльно, нежели совершенное когда-то убийство своего друга Кларка. Он постоянно оставлял службу в пансионах, чтобы хотя бы на несколько недель погрузиться в любимую работу; он сменил множество профессий: был учителем правописания, переписчиком, общественным писарем; и почел себя очень счастливым, когда в 1758 году смог получить небольшую должность учителя в Линне, в графстве Норфолк. Там Эрам продолжил исследования в области ботаники, в которой, по единодушному свидетельству знавших его, он также сделал множество весьма ценных открытий. Ученики обожали его и чуть было не подняли бунт, когда заподозрили, что он хочет покинуть их. Он делил свое время между ними и растениями, будучи и с теми, и с другими бесконечно заботлив и нежен. Он не мог видеть без слез, как плачут другие и, заметив на дороге червяка или улитку, всегда переносил их со всяческими предосторожностями на место, далекое от ног прохожих. Словно бы совершенное преступление возвысило и смягчило его душу, не оставив там, впрочем, ни капли угрызений совести.
Так жил он наслаждался радостями жизни мудреца, пока однажды его не узнал торговец скотом из Нерсборо. Незадолго до этого там нашли скелет Кларка, Хаузмен во всем сознался. Результатом встречи с торговцем явился немедленный арест Эрама, но следствие по делу продолжалось целый год, в течение которого заключенный, казалось, с абсолютной безмятежностью был погружен в новые научные исследования.
Перед судьями он произнес длинную защитительную речь, являющуюся по простоте и благородству подлинным образцом диалектики. Меньше всего пытаясь разжалобить или показаться двусмысленным, Эрам с помощью огромного числа примеров и доводов старался доказать, что скелет, найденный в пещере Нерсборо, мог лежать там гораздо более четырнадцати лет, и принадлежит не Дэниэлю Кларку, а другому человеку, любовнику жены Кларка; и, как намекал подсудимый, тот имел полное право убить его.
Эрама приговорили к смерти, ибо его участие в преступлении не вызывало никаких сомнений. В тюрьме, накануне казни он пытался покончить жизнь самоубийством, написав перед этим прекрасные стихи, в которых, между прочим, говорит, что «безмятежная и спокойная душа его отправляется в дорогу». Его повесили в августе 1760 года в Йорке, откуда закованный в кандалы труп перевезли в Нерсборо и повесили там вновь. Большая часть его рукописей была, к сожалению, сожжена на следующий день после его смерти; так что, кроме индоевропейского происхождения кельтских идиом, все открытия этой, полной неутомимых исследований, жизни навсегда утрачены.
II. Томас Уэйнрайт
Менее знаменитый, чем Юджин Эрам и значительно менее интересный с точки зрения биографии, Томас Гриффит Уэйнрайт все же немного заслуживает нашего внимания, ибо это был один из светских львов английского общества, к тому же художник, критик и один из самых замечательных коллекционеров; он не без некоторого изящества, смешанного с богатым воображением, в течение многих лет, ведя светскую и артистическую жизнь, практиковал убийства.
Он родился в Чизвике в старинной уважаемой семье, рано остался сиротой и воспитывался в доме одного из своих дядьев, Джорджа Эдварда Гриффита. Его художественный вкус обнаружился в детстве: альбом с эскизами первых лет пребывания в колледже уже свидетельствует о тонкой наблюдательности и о природной твердости руки.

По окончании школы он поступил в королевскую гвардию и одно время мечтал вести жизнь полную приключений. «Но искусство, – как он сам говорит, – прикоснулось к своему отступнику: его чистое и благотворное дыхание расвеяло докучливую пелену, оживило мои чувства, вернуло им ясность и свежесть, что приятно простому сердцу». Он оставил армию, вернулся в Линден-Хаус, дом дяди, где воспитывался, и решил целиком посвятить себя отныне живописи и литературе.
Под различными псевдонимами он опубликовал в «Лондон мэгэззин» критические статьи, где, давая оценку произведениям древнего и современного искусства, пытался в то же время – чтобы лучше передать личные впечатления – переложить их в некоторое подобие поэм в прозе. Уэйнрайт также положил начало жанру критики искусства, который с тех пор вошел в моду в Англии: критика, более заботящаяся об изяществе стиля и образности, чем о точности суждений, сама воспринимается как вид искусства. Действительно, многие переложения Уэйнрайта представляют большую литературную ценность, они обнаруживают тонкий вкус и замечательную широту знаний; но всегда мастерство исполнения позволяет разглядеть в критике искусства художника. Уэйнрайт был одним из первых, кто угадал гений Крома и Констебля210, как никто другой он прочувствовал глубокую самобытность творчества Лоренса211. Но особенно его привлекали произведения более ранних периодов. «Современные произведения, – говорил он, – волнуют, ошеломляют меня. Хорошо же разглядеть произведение искусства я могу разглядеть через призму времени. Через нее я вижу картины, словно поэмы, оценить которые можно, лишь увидев их напечатанными: время должно коснуться картин, чтобы можно было составить о них правильное представление.» Он, кажется, не очень любил искусство раннего средневековья, но в его время никто еще не имел вкуса к нему. Напротив, он живо интересовался художниками Возрождения, а еще больше – греческими мастерами. «Он говорил о них, – сообщает Де Куинси212, – с искренностью и глубокой взволнованностью, словно он говорил с собой.»
Статьи помогли завоевать дружбу всех английских художников и знатоков искусства, а картины, которые он выставил в то же время – особенно серия полных поэтического очарования акварелей, – еще больше упрочили его репутацию. Художник и поэт Вильям Блейк, в частности, высказал свое высокое мнение о нем. А так как ко всему прочему Уэйнрайт был очень красив и от природы имел изящные манеры, да еще давал великолепные обеды, то через несколько лет он сделался законодателем моды. А женитьба на прекрасной мисс Эберкомби ввела его в высшее английское общество. Так что можно представить, какое смятение охватило в 1837 году Лондон, когда стало известно, что сей благородный художник, сей джентльмен был мошенником, вором и убийцей.
Томас Де Куинси, хорошо знавший Уэйнрайта, утверждает, что раскрытые преступления составляют лишь малую толику его злодеяний. И это вполне возможно, поскольку Уэйнрайт был страстным любителем искусства убивать: он отравлял свои жертвы из-за ничтожнейших поводов, а несколько раз даже безо всяких видимых причин. Можно, по крайней мере, понять, почему он отравил в 1829 году обожавшего его дядю, Эдварда Гриффитса, своего благодетеля, который принял и воспитал его: Уэйнрайт испытывал настоящую страсть к Линден-Хаусу, дому дяди, и смерть старика, вне всякого сомнения, казалась ему самым простым средством стать владельцем дома, вызывавшего в нем трогательные воспоминания. Но почему на следующий год он отравил тещу, миссис Эберкомби, с которой всегда поддерживал самые теплые отношения? Как бы то ни было, он отравил ее, а затем и свояченицу, мисс Элен Эберкомби, очаровательную молодую девушку, чей портрет сангиной он нарисовал за несколько дней до убийства. Возможно, в этом, третьем убийстве, он заручился поддержкой жены, сестры жертвы. После чего он попытался получить страховку за жизнь молодой мисс Элен, но страховая компания нашла подозрительной столь внезапную смерть и отказалась платить причитающуюся компенсацию. Тогда Уэйнрайт решил отомстить. Он встретился в Булони-сюр-Мер с отцом молодой особы, любовником которой был, и уговорил его застраховать свою жизнь на три тысячи фунтов стерлингов. Когда же контракт был подписан, он отравил старика, подмешав в его кофе дозу стрихнина.213
Затем он отправился в Париж и прожил там четыре или пять лет, но не известно, чем он там занимался. Уэйнрайт не решался вернуться в Лондон, полагая, что английская полиция имеет против него улики, касающиеся некоторых совершенных ранее подлогов.
Но однажды, в 1837 году, он рискнул вернуться, последовав, как говорят, за женщиной, в которую был влюблен. Он остановился в гостинице Ковент-Гарден и проводил время, предаваясь размышлениям и этюдам, пока случайность его не погубила. Услышав шум на улице, он, любопытствуя, подошел к окну, полисмен узнал его – и это был конец.
Его обвинили только в подлогах: к тому времени убийства не были абсолютно доказаны, – и приговорили к пожизненной ссылке. Сосланный в Тасманию, в Хобарт, он и там, кажется, продолжал делить свой досуг между искусством и преступлением. Леди Блессингтон214, хорошая знакомая Диккенса, в 1847 году получила от своего брата, служившего в гарнизоне Хобарта, портрет девушки кисти каторжника Уэйнрайта: это была умело выполненная, изящная работа, выдержанная, как и большинство портретов Уэйнрайта, в стиле Лоренса. Но художник придал глазам модели выражение жестокости, что неприятно контрастировало с детской невинностью черт лица. Во время ссылки Уэйнрайт пытался дважды – и оба раза безуспешно – избавиться при помощи яда от особ, общество которых его стесняло. Наконец, в 1852 году, в возрасте пятидесяти восьми лет, он скончался от апоплексического удара.
Несмотря на болтливость и склонность к откровениям, Уэйнрайт не любил говорить о своих преступлениях, так что психология убийцы навсегда останется для нас загадкой. Однако, можно быть уверенным. что никогда этот странный человек не испытывал ни малейших угрызений совести из-за безнравственности своих поступков. Никогда не испытал он чувства раскаяния. Скорее всего, отнюдь не корысть являлась основным мотивом его преступлений, им был интеллектуальный садизм, почти эстетическое наслаждение убийством, подобное тому, что вдохновило Томаса Де Куинси на знаменитый трактат «Убийство как один из видов искусства».
У Уэйнрайта не было также и недостатка в биографах в своей стране. Последний по времени, покойный Оскар Уайльд, посвятил художнику-убийце своего рода похвальное слово, замечательное во всех отношениях при условии, если мы захотим увидеть в нем лишь черный юмор и насмешку.215
II. Литературные мистификаторы
I
Псалманазар
В 1703 году капеллан английской армии, преподобный У. Инс, представил епископу Лондонскому молодого аборигена с Формозы216, коего имел счастье обратить в веру Христову. Новообращенный, присоединивший отныне христианское имя Джордж к своему родовому имени Псалманазар, на вид имел лет двадцать шесть, и его лицо не имело ничего азиатского, а скорее походило на лицо гасконца или марсельца, но то, как он поглощал сырое мясо во время трапез, оказалось достаточным доказательством его «формозанства». Сию подлинность, впрочем, неофит еще лучше доказал великолепным знанием формозского языка, на который он перевел катехизис англиканской церкви; литераторы и языковеды, взглянув на перевод, заботливо напечатанный латинским шрифтом, единодушно признали, что «язык настолько грамматически правильный и все же настолько отличный от всех известных языков», что он не может не быть языком острова Формозы. Но так как Псалманазар был к тому же очень умен и его варварское происхождение не мешало ему обладать приятными манерами, а сходство с жителями Прованса – быть довольно красивым, то все английское общество тотчас стало испытывать к нему любопытство и симпатию. Принцы, прелаты, великосветские дамы Лондона ссорились из-за того, чтобы иметь удовольствие видеть его за своим столом, где он, проглотив кусок сырой говядины, без устали отвечал на изящнейшей латыни на все вопросы, которые задавали ему о его происхождении и нравах родного острова. Псалманазар утверждал к примеру, что продолжительность жизни на Формозе составляет сто двадцать лет и что его дед до сих пор сохранил замечательную молодость благодаря привычке высасывать по утрам «еще теплую кровь гадюки». В первых месяцах 1704 года епископу Лондонскому пришла в голову мысль послать своего молодого протеже в Оксфордский университет и сделать из него миссионера, который впоследствии обратит жителей Формозы в англиканскую веру. За несколько дней по подписке собрали сумму, необходимую для этого прекрасного проекта. Но вся популярность Джорджа Псалманазара не шла ни в какое сравнение с пылким восторгом английской публики, когда в том же 1704 году он выпустил в свет «Историческое и географическое описание острова Формозы, ныне подвластного императору Японии», с многочисленными гравюрами по рисункам автора.

Главной целью этого труда было опровергнуть лживые утверждения фламандского миссионера Кандидиуса, незадолго до этого сообщившего Европе сведения об острове, где по его уверениям, он провел долгие годы. Псалманазар же справедливейшим образом утверждал, что абориген с Формозы имеет больше прав говорить об этой стране, нежели европейский миссионер, и, убежденный в неоспоримости подобного аргумента, постарался опровергнуть, страница за страницей, все утверждения Кандидиуса. По словам последнего, на острове нет никакого правления, тамошние законы слишком мягки, даже слабы, и там, как нигде, процветает нищенство. Действительность же, по утверждению «формозского» писателя, была прямо противоположна этим заявлениям. Кандидиус давал понять, что остров беден, – на самом деле там полно золотых и серебряных рудников. «К тому же, и в деревнях, и в городах храмы и дома покрыты золотом.» Дворец вице-короля, занимая пространство в «три английские мили»217, почти целиком построен из драгоценных металлов.
Со времени взятия греками Трои не нашлось более оригинального способа, чем тот, с помощью которого император Японии завоевал Формозу. Под предлогом принесения жертв божеству острова он послал туда огромную армию. «В большие повозки, влекомые двумя слонами, спряталось по тридцать-сорок солдат. В отверстия в повозках хитрые японцы выставили головы быков и баранов, чтобы у простодушных аборигенов не зародилось никаких подозрений. Затем, с мечами наготове, солдаты вышли из повозок и без всякого кровопролития сумели подчинить остров своему господину.»
Следуя все тем же новым описаниям, вначале жители Формозы были политеистами, но один мудрец по имени Псальманазар, предок рассказчика, ввел не острове единобожие. Главный обряд нового культа состоял в ежегодном жертвоприношении восемнадцати тысяч мальчиков не старше девяти лет, чьи сердца, взяв каждый раз по две тысячи, сжигали на алтаре во время великолепного празднества, длившегося девять дней. Следствием такого обычая могло стать сокращение населения. Во избежание подобной опасности пророк Псалманазар разрешил многоженство и постановил, что первенец в каждой семье не может быть принесен в жертву.
Продолжая опровергать «ложь» Кандидиуса, молодой автор описывал далее обычаи, нравы и костюмы своих соотечественников, которых изображал наслаждающимися необыкновенной красотой неба и несравнимыми богатствами земли. Он рассказывал, как они живут в позолоченных домах, у них имеются слоны, носороги, верблюды и морские лошади, «все животные великолепно приручены и могут выполнять всякую работу». Использование других, не менее многочисленных, животных, таких как львы, леопарды, тигры и крокодилы, к сожалению, затруднительно; и Псалманазар откровенно признавался, что никогда не встречал на Формозе ни дракона, ни единорога, ни какой-нибудь разновидности грифона. А вот змеи составляют основную пищу жителей острова. Змей ловят живыми и, нанося удары палками, стараются рассердить их, тогда весь их яд поднимается к голове, а очищенное таким образом от него туловище, съедаемое сырым, составляет «самую вкусную» пищу. Все это с величайшей тщательностью было проиллюстрировано замечательными гравюрами, на которых все увидели одежду представителей различных социальных слоев, пылающие жаровни, предназначенные для заклания восемнадцати тысяч маленьких сердец, деньги, с указанием их названия, и формозский алфавит, содержащий только двадцать букв, причем согласная л называлась ламбдо, а гласная е – эпси, что, сопоставив с совершенно фокейской физиономией218 Псалманазара, позволяло предположить странную связь между формозским и греческим народами.
Если все же кое-кто из читателей и находил немного удивительным некоторые детали этого описания, то их быстро разубеждала невозмутимая важность тона Псалманазара, равно как и «антипапистские» чувства, которыми была пропитана каждая страница книги. Но в особенности в глазах английской публики чистосердечие автора подтверждалось яростным красноречием, питаемым ненавистью к иезуитам. Вся последняя часть книги, в частности, целиком посвящена описанию преступлений, совершаемых иезуитами в Японской империи. С помощью ярких примеров, достойных быть процитированными наряду с незабываемой историей завоевания Формозы или величественной картиной ежегодного принесения в жертву восемнадцати тысяч детей, Псалманазар наглядно показывал «огромный вред, причиненный иезуитами христианской вере, и какие упреки и бесславие навлекли эти люди на имя христианина, навязав миру свои папистские заблуждения». И разве можно было предположить, что писатель, говоривший по этому поводу очевидную, всем известную правду, – разве можно было предположить, что он способен солгать или просто преувеличить, рассказывая об облике и жизни неведомой другим страны, которую лишь он один хорошо знал?
Книга и ее автор сразу же приобрели огромную популярность, и она возрастала до тех пор, пока один иезуит, отец Фонтене, под предлогом того, что он прожил пятнадцать лет на Формозе, не взял на себя смелость оспорить в свою очередь утверждения Псалманазара. Этот наглый «папист» настаивает, что Формоза принадлежит Китаю219a, а значит, она не могла быть завоевана тем хитроумным способом, о котором я сообщил? Он оспаривает то, что на Формозе есть не только золотые и серебряные копи, но и слоны, верблюды, морские лошади и крокодилы? Псалманазар был не из тех, кого могли смутить подобные возражения. В предисловии ко второму изданию книги, вышедшему спустя несколько месяцев после выхода первого и распроданному также быстро, он выделил «двадцать пять наиглавнейших возражений», адресованных ему различными оппонентами; и на каждое из этих возражений ответил, настаивая на абсолютной достоверности того, что говорит. С еще большим воодушевлением он продемонстрировал компетентность, которой мог обладать только житель Формозы. Какой мало-мальски здравомыслящий читатель станет колебаться между свидетельством человека, рожденного на острове, прямого потомка пророка Псалманазара, и свидетельствами фламандского миссионера или жалкого иезуита? И наш хитроумный логик одержал верх, приведя в новом предисловии еще один аргумент, решивший спор в его пользу. «Если бы я хотел говорить о предмете, о коем не имею не малейшего представления, – писал он, – то возможно ли, чтобы я осмелился противоречить всем авторам, которые ранее затронули эту тему? Даже сам факт моего несогласия по всем вопросам с книгой Кандидиуса, – и только этот единственный факт – подтверждает мою правдивость безо всякой необходимости с моей стороны вступать в дискуссии, могущие смутить или утомить читателей.»
С тех пор авторитет Псалманазара настолько прочно укрепился в Англии, что никому даже и в голову не приходило оспаривать его. После шестимесячного пребывания в Оксфорде молодой человек вернулся в Лондон и с тех пор, в течение более двадцати лет, вплоть до 1728 года, он продолжал наносить визиты вельможам и литераторам, имея лишь одну заботу – извлечение нескончаемых выгод из своего формозского происхождения и обращения в англиканскую веру. Он наслаждался бы так очень долго, если бы вдруг в этом самом 1728 году с ним случилось неожиданное и очень странное приключение.
Так вот, во время опасной болезни этого великолепного мистификатора неожиданно стали мучить угрызения совести. Его бесстрашная самоуверенность вдруг погасла перед перспективой судебного расследования, которое не смогло бы обмануть даже самое отчаянное вранье. Когда же наконец он выздоровел, то в нем не осталось ничего от аборигена Формозы. Отказавшись от огромного содержания, выплачиваемого до того ему несколькими епископами и набожными дамами, он поспешил укрыться в пригороде Лондона, и жил отныне лишь анонимными трудами для издателей, – трудами, выполненными всегда с замечательной добросовестностью и прилежанием. Так, для издателя Палмера он написал ценную «Историю печати», но обязал, чтобы Палмер выпустил ее под своим именем. В «Полной географической системе» Бауэна, большая часть которой была также составлена им, он решительно потребовал изменить главы о Китае и Японии, отказываясь от своей лжи о Формозе. С обоснованной, но все же бесконечно трогающей нас суровостью призвал он английского читателя не принимать во внимание описание Формозы, сделанное некогда «так называемым аборигеном сего острова, по имени Псалманазар». На самом деле этот человек уже давно признался друзьям в полном незнании предмета, о котором пытался рассуждать, и не преминул бы предложить публике «полный и достоверный отчет о сей несчастной лжи», если бы подобное признание не могло повредить репутации еще здравствовавших уважаемых особ. После чего анонимный автор в новом описании Формозы изложил основные данные великолепного труда Кандидиуса и признал последнего заслуживающим всяческого уважения.
В 1752 году Псалманазар написал завещание: он приказал похоронить себя в общей могиле, и даже, если возможно, положить в землю без гроба, а также просил друзей опубликовать после его смерти «Воспоминания», где изложил подлинную историю своей жизни. Он умер через несколько лет в смирении и святости. Великий Сэмюэл Джонсон220, друживший с ним, считал Псалманазара самым набожным и достойным человеком из всех, с кем ему довелось встречаться; его свидетельство подтверждается многими другими, единодушно признающими скромность, кротость, самоотверженность и душевную чистоту старца, который некогда с невероятной смелостью и цинизмом обманул доверчивость, не менее невероятную, великого народа.
Посмертные «Воспоминания» были опубликованы в 1765 году и явились, по сути, признанием, сделанным таким смиренным и смущенным тоном, что не оставляют ни малейшего сомнения в искренности чувств автора и благородстве мотивов, вдохновивших его к их написанию. Автор рассказывает, как, получив к шестнадцати годам серьезное классическое образование, он из-за различных обстоятельств вынужден был вести жизнь нищего и бродяги, и, путешествуя по всей Европе, просил подаяние, представляясь то французским гугенотом, изгнанным из своей страны, то ирландским католиком, преследуемым за веру. Однажды он узнал о существовании Формозы, и ему пришла в голову мысль заделаться формозским аборигеном, которого иезуиты обратили в христианство и привезли в Авиньон. Он скитался по городам, называясь то ризничим, то солдатом, то бродячим акробатом, пока не повстречал преподобного отца Инса, ему-то он и представился поклонником заходящего солнца и принял от него еще раз крещение. Далее следует рассказ о его триумфальном прибытии в Англию и о уже известной удивительной мистификации. Но, хотя «Воспоминания» Псалманазара изобилуют точнейшими деталями и нет оснований сомневаться в его правдивости, все же бывший самозванец, признавшись вполне определенно, что не является уроженцем Формозы и знаком с этой страной только по описаниям Кандидиуса, тем не менее упорно отказывается сообщить нам, кто же он на самом деле и откуда родом. Псалманазар утверждает лишь, что среди гипотез о его происхождении нет ни одной верной. Так что и поныне мы нечего об этом не знаем о настоящей родине мнимого жителя Формозы: то ли он боялся, открыв истину опозорить свою семью, то ли ему из-за природной склонности к мистификации, хотелось бесконечно возбуждать наше любопытство.


