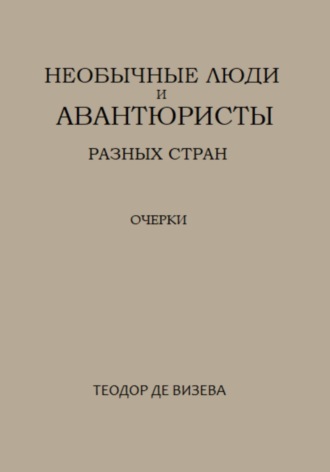
Теодор де Визева
Необычные люди и авантюристы разных стран
Так обстояли дела вплоть до последних месяцев 1889 года, когда князь Хлодвиг, прибыв в Берлин для получения «ориентировки», обнаружил, что могущество Бисмарка серьезно подорвано. Сразу же бывшее доверенное лицо канцлера инстинктивно, неосознанно и без тени задней мысли вдруг почувствовало возмущение его деспотизмом и, в частности, репрессивной политикой канцлера в Эльзас-Лотарингии. Таким образом, ко времени падения Бисмарка отношения князя Гогенлоэ с ним стали настолько прохладными, что он со спокойной совестью переходит в полное распоряжение нового канцлера. Он служит с обычной преданностью и усердием и новому канцлеру и новому императору, кроме случая, когда при получении очередной «ориентировки», сообщавшей о последующей вскоре опале генерала Каприви275, он вынужден был признать, что последний решительно не обладает политическим талантом своего предшественника. Теперь он сам, старый князь Гогенлоэ вполне естественно, так сказать, «по выслуге», вправе рассчитывать занять место Каприви. Доставшаяся ему имперская канцелярия была уже не та, что при первом канцлере, у нее не было власти, и руководство ею не вызывало зависти, это было лишь «постоянное место службы и прочное положение», вроде постоянной работы послом в Париже или управления аннексированными территориями. Нам немного известно о последнем периоде карьеры князя Гогенлоэ, но можно предположить, что и на этом посту, как когда-то в Мюнхене, он старательно стремился «рассматривать себя просто как чиновника». 7 апреля 1897 года в своем дневнике он отмечает различные обстоятельства, могущие «поколебать его положение». 4 января 1899 года он пишет другу: «Я и в мыслях не допускаю последовать Вашему совету оставить пост министра-президента: Каприви сделал это и потерял место». Наконец, 3 ноября 1900 года ему показалось, что «изменения, произошедшие с канцлером, вызывают неудовольствие императора». После чего он очень кстати вспоминает «о своей астме и начинающейся глухоте» и просит хозяина позволить ему уйти в отставку. «Мой уход будет самым мирным, и не будет никаких колкостей ни с той, ни с другой стороны».
С «той стороны» и не должно было быть, по крайней мере, «никаких колкостей». Когда хозяин замка видит, что его егерь становится слишком старым, он просто увольняет его с ласковым словом, дав достойную пенсию, и ему не приходит в голову, что преданного слугу может не устроить, как устроил его самого, подобный конец их отношений. Разве не было всем хорошо известно, что для него, в течение более полувека преданного интересам своих хозяев, для него, скромного, сдержанного, любезного и покорного, не существует иного счастья в мире, чем сознание того, что он делает их счастливыми? Разве, в конце концов, в благодарность за свою службу, надлежащим образом оплаченную, не получал он от них немного внимания и небольшие подарки? Разве в момент расставания добрый малый не обливался слезами и не клялся, что всегда будет молиться за своих благодетелей? Можно не сомневаться: все хозяева, которым служил князь Гогенлоэ, начиная с короля Баварского и кончая Вильгельмом II, расставались с ним «без раздражения», абсолютно уверенные в том, что он сохранит о них воспоминания, полные уважения и признательности. Они видели в нем только чиновника – князь и был им до мозга костей – и, обходясь с ним насколько возможно любезно, они совершенно не допускали мысли о том, что он может иметь причины не любить их. Но в чиновнике, которого они справедливо уважали, жил другой человек, и его-то они не пожелали разглядеть и пощадить, этого человека унижала их снисходительность; и так же, как они не могли поступать с ним иначе, чем поступали, так и он не мог не страдать от их действий и не «раздражаться».
В дипломате, администраторе, доверенном лице, коего они знали, жил бедный родственник, неимущий князь, помнивший, что его происхождение, по крайней мере, равнялось их собственному. По тону, каким князь Гогенлоэ говорит пару раз о «медиатизированных», можно догадаться, что он имел высокое мнение об их правах. Он обещал «отказаться от своего происхождения» и «рассматривать себя лишь как чиновника», но так никогда не сумел и не захотел этого сделать. Во второй половине его жизни ему причиняло огромные страдания то, что его использовали в качестве простого «статского чиновника» прусские «юнкеры» и всякого рода «военные», которые почти ассоциировались у него с иезуитами и вызывали ту же ненависть. «Либерализм южной Германии, – писал он в 1898 году, – не в силах что-либо сделать с юнкерами. Они слишком многочисленны, слишком могущественны, на их стороне армия и трон.» Таким образом, оказывается, что вся его карьера, если посмотреть изнутри, оказывается длинной чередой обид и унижений, начиная с того дня, когда Людвиг II призвал его в правительство, «поскольку считает его поклонником Вагнера», и вплоть до того дня, когда в 1900 году император Вильгельм II дал ему понять , что «изменения, произошедшие с его канцлером, вызывают его неудовольствие». Роковое последствие игры судьбы, соединившей в нем душу чиновника и кровь князя!
Но не только происхождение заставляло князя Гогенлоэ быть недовольным жизнью. Этот тихий, мирный, незаметный человек всегда питал надежду стать великим. С юности привык он осознавать свои выдающиеся способности. И первый том его «Мемуаров» показывает, насколько тщательно готовился он к той важной роли, которую надеялся сыграть. В дневнике, в письмах к матери и к сестрам, он постоянно выражает надежду, что его трудный сев даст богатый урожай. Это врожденное честолюбие росло с каждым годом и становилось тем более безудержным, чем больше князь вынужден был его скрывать. 8 сентября 1872 года он пишет своему шурину: «Если что-то и могло бы руководить моим стремлением стать преемником Бисмарка, так это радость от того, что я смогу довести до конца начатую им религиозную борьбу!» Он уже видел себя получающим наследие Бисмарка и держащим в своих руках судьбы мира. Увы! Сначала ему суждено было получить наследие Арнима276, потом Мантейфеля, и когда, наконец, дошла очередь до наследия Бисмарка, судьбы мира были уже в других руках. Положительно, Бог и люди препятствовали честолюбивым устремлениям князя-чиновника. Едва он это понял, его врожденная меланхолия превратилась в безнадежную горечь. «Для каждого человека было бы лучше не рождаться вовсе. Это сказал Софокл, и вот прошли века, и каждый это знает, и каждый забывает, и карабкается изо всех сил до самого последнего дня своей жизни, и получает почетные посты и награды, а после умирает. И его забывают.» Старый князь Хлодвиг цу Гогенлоэ был еще имперским канцлером, когда 1 августа 1899 года он в этих нескольких строках обрисовал впечатление, вынесенное им из своего восьмидесятилетнего существования, в котором были в избытке «почетные посты и награды». Отныне и долгое время спустя он чувствовал, как давит на него это всегда пугавшее его «забвение». Но, по крайней мере, перед смертью он мог утешаться, думая, что не сыграл еще свою роль, и забвение, так страшащее его, лишь временно, и что вскоре вся Европа вынуждена будет обратить на него внимание – то, в чем при жизни упорно ему отказывали современники из-за непонимания или злого умысла.
IV. Две автобиографии рабочих
I. Немецкий землекоп
В некоей деревне герцогства Анхальтского жил много лет старый саксонский рабочий по имени Карл Фишер. Был он сыном хозяина пекарни, но с детства познал жестокую нужду; брался он за самую черную и неблагодарную работу в разных уголках Германии, но никогда не зарабатывал больше, чем несколько пфеннигов в день. Ни разу не испытал он удовольствия иметь в кармане немного денег и был неимоверно счастлив, когда ему удавалось получить хоть какую-нибудь работу, лишь бы не просить милостыню или не быть заключенным в тюрьму за бродяжничество. Так трудился он не покладая рук почти полвека, насколько позволяли удача и силы; но однажды, лет пять или шесть назад силы совсем его покинули, а так как бродячая жизнь не давала права на пенсию, то одному Богу известно, что сталось бы с ним, если бы его родственники, бедные крестьяне из герцогства Анхальтского, из милости не приютили бы его. Отныне он, уставший и больной, и жил там, думая лишь о том, когда придет смерть и заберет его. Ревностный христианин и истинный патриот, он тем не менее всегда был равнодушен как к политическим баталиям, так и к религиозным проблемам. Он не был ни лютеранином, ни членом какой-нибудь свободной церкви278, ни социалистом, ни консерватором и не имел никогда свободного досуга для составления своего мнения о предметах, слишком отдаленных от его повседневных забот. Мировые события также его совсем не интересовали. За всю свою жизнь он прочитал одну-единственную книгу – Библию, в прекрасном переводе Лютера, да и ныне это его единственное чтение. Он проводит дни, сидя в уголке с огромной книгой на коленях и с очками на носу, или же, когда хорошая погода, – в саду около дома, поливая капусту, стараясь таким образом по мере своих слабых сил быть полезным приютившим его людям.
Но в старости с этим достойным человеком произошло важное событие. В одно прекрасное утро, немного времени спустя после приезда в деревню, он пошел и купил несколько дестей бумаги и, не сказав никому ни слова о своей задумке, принялся писать историю своей жизни. Он писал два года, никогда ничего не исправляя и не возвращаясь к написанному, неутомимо марая бумагу большими детскими нетвердыми буквами. Он рассказал по порядку откуда его родители и об их свадьбе, о раннем детстве, о годах ученичества о том, как стал мастером, о скитаниях по Германии, о работе землекопом на равнинах Вестфалии, о шестнадцати годах, проведенных на кирпичном заводе в Оснабрюке, – и все это настолько подробно, что если бы весь труд был напечатан, то занял бы огромный том ин-октаво в семьсот-восемьсот страниц. Он закончил рассказ описанием того, как в 1885 году его уволили с завода в Оснабрюке, – прекратив писать неожиданно, как если бы его вдруг покинуло вдохновение; так что его автобиография, похоже, никогда не будет завершена.
Дальше случилось вот что. Прошлой зимой господин Пауль Гёре279, бывший пастор, ныне ставший одним из самых известных писателей партии социалистов, случайно узнал о существовании этой автобиографии. Он тотчас же отправился к старику Фишеру и, получив позволение просмотреть рукопись, нашел такое занимательное чтение, что принялся уговаривать старика напечатать ее, но поскольку тот не хотел ни подсократить, ни изменить оригинальный текст и поскольку написанное показалось господину Гёре длинновато для одного тома, то он предложил вначале нашему вниманию три наиболее важные с его точки зрения главы (или, вернее, три отрывка, так как рукопись не содержит ни глав, ни абзацев, ни вообще какого-нибудь деления), оставив за собой право публикации в дальнейшем остальных частей. И вот так получилось, что написанное саксонским рабочим предложено вниманию читающей публики, которая, кажется, разделяет мнение господина Гёре, ибо в последнее время в Германии было мало книг, вызвавших такой интерес и симпатию. Бывший землекоп стал модным автором. Но мы, безусловно, верим ему, когда он – при посредстве господина Гёре – уверяет, что, принимаясь за написание автобиографии, ни на мгновенье не имел подобной мысли. Почему же он написал ее, не обладая достаточными познаниями и не имея сказать ничего такого, что, в конечном счете, не было бы хорошо известно? Он и сам не этого знает, даже теперь. Он все еще не понял, что за необъяснимая сила лишила его покоя и заставила оставить на бумаге свои странные воспоминания, очень схожие по духу лишь с «Исповедью» Руссо, или, скорее, с воспоминаниями, которые пишут некоторые узники тюрем или обитатели домов призрения, адресуя их тем, кто, как им кажется, может принять участие в их судьбе. Он писал их просто потому, что внутренний голос приказывал писать, а потом, когда этот голос однажды умолк, он остановился. И в этом нет ничего удивительного, мы понимаем это с первых же страниц. Внутренний голос, диктовавший Фишеру – тот голос, который четыре тысячи лет нашептывает песни поэтам и музыкантам. Старый рабочий, недавно рассказавший нам непримечательную, совсем простую, историю своей жизни, этот труженик и бродяга был, очевидно, рожден для другого предназначения, чем то, к которому приговорили его обстоятельства: наряду с неровностями стиля и немыслимой орфографией, на каждой странице мы видим дарование, присущее гениальному писателю.
Дарование тем более удивительное, что действовало оно, так сказать, вхолостую на всем протяжении книги. Напрасно искали бы мы в ней поэтические образы или описания, или намек на какой-нибудь замысел. Автор не умеет ни витийствовать, ни живописать, ни мечтать, и, никогда не изучая грамматики, он, как мы понимаем, не приемлет всяческие риторические уловки. Но он, прежде всего, умеет писать. Как бы ни был неправилен его язык, он, тем не менее, очень похож на язык Библии Лютера: он сочен, прост и груб, и зачастую великолепен; он настолько оригинален и выразителен, что при переводе книга рискует потерять половину смысла. И у этого неграмотного, ограниченного человека не только прекрасный стиль – стиль выразительный и мощный, – но также у него есть совершенно замечательный дар рассказчика.
Он сам говорит, как однажды вечером, когда он только что нанялся в бригаду землекопов в окрестностях Дюссельдорфа, его новые товарищи спросили его, кто он и откуда родом. «Тогда я рассказал обо всем: как я очутился в Нойсе и что было до него. И все слушали, затаив дыхание; а когда я закончил, так как становилось слишком поздно, все встали; и они казались счастливыми, они не сказали мне много слов и заспешили по домам; и каждый уходя сердечно пожелал мне доброй ночи.»
Так же, как он очаровал этих наивных слушателей, он очаровал ныне читателей своей книги. Его рассказы шероховаты, отрывисты и состоят из небольших историй, следующих друг за другом в хронологическом порядке, но каждый из них настолько полон вдохновения и изложен так талантливо, что не может не тронуть читателя. И хотя в книге нет ни малейшего намека на любовные приключения, она производит на нас такое же впечатление, как и великолепные плутовские романы прошлого, «Дон Пабло де Сеговия», «Жиль Блас», «Родрик Рендом» 280, – в которых мы так же следуем за героями по дорогам их жизни. Я, во всяком случае, дважды с огромным интересом прочел от корки до корки четырехсотстраничную автобиографию Карла Фишера, постоянно задавая себе вопросы: а что же случится потом, кого повстречает на своем пути герой, удастся ли ему устроиться на работу в госпиталь и как его так примут; или же, работая на кирпичном заводе в Оснабрюке, не возмутится ли он против постоянного сокращения жалования и против многочисленных притеснений, коим подвергался. И, повторюсь, разворачиваемые перед нашими глазами сцены не имеют ничего романтического, не сопровождаются замысловатыми рассуждениями и не облекаются в неожиданную форму, но все рассказывается так бесстрастно и чистосердечно, и так все становится близко нам, что, несмотря на скудость и простоту слов, автору с первых же страниц удается овладеть нашим вниманием, и оно не ослабевает до того места, где неожиданно повествование прервалось.
К сожалению, в небольшом очерке нельзя и помыслить пересказать целиком это произведение, написанное без всякого плана и состоящее из эпизодов, связанных между собой лишь благодаря воле автора и своеобразию его личности. Но, возможно, некоторые эпизоды – конечно же, потерявшие при переводе – помогут составить представление об этой необыкновенно интересной книге и замечательном писательском таланте автора. Вот, к примеру, описание происходивших почти ежедневно ссор между родителями.
Моя мать уж точно была слишком образована для моего отца, и умела говорить не хуже и не лучше всех других достойных женщин, и у нее тоже были свои понятия о правде и лжи, о справедливости и несправедливости. Ну так вот, когда мой отец начинал по малейшему поводу представление, которое всегда состояло в том, что он обходился с моей матерью так, словно она была последней из женщин на Божьем свете, тогда случалось, – не всегда, но очень часто, – что она отвечала моему отцу, становясь все более оживленной по мере того, как говорила, и когда ей наконец удавалось доказать свою правоту, отец мгновенно хватал первое, что подвертывалось под руку, палку, или скалку, или какое-нибудь полено, и начинал колотить ими мою мать, и вот так последнее слово оставалось за ним. И никто не имел душу более истерзанную, чем имели мы, я и две мои старшие сестры, мы были всегда свидетелями этого действия. А потом неизменно наступала передышка и мы слышали, как наша мать тихо плакала, а когда все заканчивалось, в доме у нас наступала мертвая тишина, и никто больше не произносил громкого слова…
Однажды прекрасным летним вечером мой отец не пошел в кабак, потому что ему надо было что-то сделать дома. В половине, этак, десятого, я сидел подле матери на ступенях перед домом, а мать держала на руках моего самого младшего брата. Потом она мне сказала мне идти спать, я пожелал ей доброй ночи и пошел спать. Комната, где я ночевал, была на первом этаже, в задней части дома, но с окном, выходящим на боковую улочку. Эта комната служила жильем для моего деда по матери, который жил с нами в то время; там стояли две кровати, на одной из них спал мой дед, а я – на другой. Дед был еще на ногах, когда я пришел спать, из нас двоих последним ложился он. По утрам он колол дрова моему отцу, потом находил себе работу в саду, или еще что-нибудь, так как никогда не сидел без дела. Но после полудня, если только выдавалась свободная минутка, он любил писать, и писал даже по два часа подряд, пока было светло. И подле его бумаги всегда лежала раскрытая Библия, так что я поначалу думал, он переписывает из нее отрывки. Но нет: тайком я два или три раза читал, что он написал, и это очень походило на то, что говорит пастор в церкви. Ну так вот, в тот вечер, только я улегся в кровать, вдруг слышу, как с силой захлопнулась входная дверь. Тут же тихо постучали в эту дверь, а потом в наше окно, дед открыл его: то моя мать стояла снаружи, в переулке, и она была очень возбуждена! А когда мой дед спросил, что же случилось, она сказала: «Ах! Я сидела около двери с малышом на руках, как вдруг позади меня он затворил дверь и замкнул на ключ! Скорее пойдите откройте ее, чтоб я могла войти!» Тогда дед в потемках на ощупь потащился к двери, но отец унес ключ. Потом я услыхал, как он позвал раза два-три: «Сударь! Сынок! Сударь! Сынок!», но никто не откликнулся, и он вернулся в комнату, а моя мать вернулась к окну, и как раз в это время городские часы пробили десять. И моя мать сказала: «Если бы не было так поздно, я бы точно пошла к бургомистру, я бы уж точно это сделала: уж слишком невыносимым это становится!» Потом дед говорит: «Видать, надо помочь тебе перелезть через окно! Дай-ка мне сначала дитя!» И он взял моего маленького брата и положил его на мою кровать, а я должен был придерживать его. Потом мой дед спустил наружу стул и поставил его перед окном и помог ей перелезть через окно. Потом мать взяла моего младшего брата и вышла, но дед больше уж не ложился спать. Я думал, мой отец давно в постели. Но не прошло и минуты, как дверь в нашу комнату снова открылась, и отец появился на пороге со свечой в руке и говорит деду: «Как же это она смогла войти? Вы эту ворону пустили в окно?» Тогда дед, старый солдат, говорит моему отцу: «Сударь, что это значит? Не называйте так свою жену! Не делайте так!» Тогда мой отец говорит, выходя из комнаты: «Посмейте только сказать обратное!» И сразу же в прекрасной ночной тишине стало слышно через весь дом и даже далеко от него по всей улице, как отце благословляет перед сном мою мать так, что волосы вставали дыбом. Наверно, моя мать прислонилась к двери, чтобы защитить спину; и мы долго слышали ровный, размеренный стук, как если бы поленом колотили в дверь.
Бедная фрау Фишер, кажется, действительно была замечательной женщиной и гораздо более образованной, нежели позволяло то ее социальное положение; и, возможно, именно ее превосходство и явилось главной причиной того, что муж плохо с ней обращался.
Моя сестра, – говорит Фишер, – могла бы описать мою мать совсем иначе, чем я, потому что она часто беседовала с женщинами, которые учились в школе с моей матерью, и они рассказали ей, что она была и впрямь примерной ученицей… Она всегда была первой в школе, и когда однажды должны были дать единственную награду (этой наградой являлась прекрасная большая книга для чтения, написанная в 1834 году пастором Ольтрогге из Люнебурга), то именно моя мать ее получила, и все другие девочки знали это заранее и одобряли. Так как все они очень любили мою мать; и, хотя к тому времени мои бабушка с дедушкой совсем обеднели, самые богатые и знатные девочки в школе очень гордились тем, что после уроков могли идти по улице рядом с моей матерью.
Да и булочник Фишер в глубине души тоже не был злым человеком. Он постоянно избивал свою жену, но в то же время испытывал к ней некоторое подобие привязанности, он любил также и своего сына, не упуская при этом случая поиздеваться над ним. Когда ребенок болел, отец усаживался подле его кровати, читал ему главы из Ветхого Завета, рассказывал ему разные истории или пел красивые песни, аккомпанируя себе на гитаре. Но едва ребенок выздоравливал, побои возобновлялись. По любому поводу отец выходил из себя, постоянно давал сыну непосильную работу и наказывал его, если она была выполнена плохо.
Таков был его отец, неглупый человек и умелый ремесленник, ставший еще суровее и вспыльчивее под ударами судьбы. Он пострадал от революции 1848 года и вот при каких удивительных обстоятельствах.
Прекрасный 1848 год, – рассказывает его сын, – пришел и в Ротенбург (городок в Силезии, где жили Фишеры). Нашего пастора звали Шён, округ послал его выборным в Берлин, – и так началась вся эта история. Потому что у нас стал другой пастор, а пастор Шён, вернувшись в Ротенбург, основал свободную церковь, – когда это было, в 48 или в 49-ом? Я уж и не помню. Тогда многие жители перешли в свободную церковь, и два других булочника, которые жили в городе, тоже, но мой отец – нет: он остался верен старой церкви. Это стало быстро известно, и с нами быстро порешили. Люди сделали моему отцу то, что сейчас называют бойкотом. Теперь, вставая по утрам, я больше не слыхал никакого шума, ни дома, ни в пекарне, как я обычно слыхал до этого, и так это тяготило и наполняло страхом мою душу! Теперь мой отец выпекал хлеб только два раза в неделю просто для того, чтобы печь совсем не остыла. А когда я возвращался из школы, то видел, как моя мать сидела на стуле и тихонько плакала; но все же она считала, что отец поступил правильно, оставшись верным старой церкви.
В 1854 году Фишеры вынуждены были покинуть Ротенбург, они поселились в Айслебене, откуда булочник был родом. Именно там маленький Карл был конфирмован; эта церемония, как известно, равнозначна первому причастию. «Наконец настал день конфирмации, и пастор предложил мне поразмышлять над теми же словами, над которыми он некогда советовал подумать моему отцу: "В этой жизни имей Бога пред очами своими и в сердце своем и остерегись совершить по своему хотению хоть какой-то грех и не делай ничего против воли Божьей!" В тот день мои родители пришли в церковь вместе. Моей бедной матери не удалось совсем вывести пятна с моей одежды (старая отцовская одежда, которую укоротили, чтобы сын мог ее носить). В этой одежде я должен был идти в церковь, так как у моего отце не было денег, чтобы купить мне штаны, картуз и пару ботинок. И вечером, когда отец вышел, я сказал матери: "Наверно, я был один в старой одежде!" Но она мне говорит: "Нет, сынок, там был еще один мальчик, как ты! Малыш торговца щетками Штаба тоже был в старой одежде!" И мне было очень приятно узнать, что я был не один в таком положении.»
Но еще более захватывающи страницы, где Фишер рассказывает о семи годах, проведенных (с большими перерывами из-за безработицы) на земляных работах при строительстве железных дорог, которые избороздили ныне Германию. Ничто не может дать представление о необыкновенном существовании, одновременно жалком и радостном, какое он вел там, месяцами живя в лагере, раскинувшемся в открытом поле, более далекий от остальных людей, чем если бы находился на необитаемом острове, часто больного, порой вынужденного просить подаяние, но никогда не терявшего ни душевной кротости, ни надежды в сердце. С какой простотой и суровой правдой развертывает он перед нами картину своей жизни, проводя нас с собой из бригады в бригаду, пересказывая свои разговоры с товарищами, забавляя своими скудными развлечениями, или вызывая жалость, говоря о своих страданиях, но никогда не сетуя ни на людей, ни на судьбу! В этих главах есть страницы, которые читаются с гораздо большим интересом, чем романы, повествующие о самых захватывающих приключениях, и есть страницы по-настоящему трагические, несмотря на простоту описываемых событий и мелькнувшие то здесь, то там яркие и светлые воспоминания, вроде приводимого ниже отрывка.
Наш лагерь находился в прекрасном месте; с трех сторон мы были окружены лесами, а с вершины холма, который пересекала строящаяся линия, нам открывался восхищавший нас вид. А так как лето стояло прекрасное, то по воскресеньям после полудня много людей из окрестных мест приходило вроде как на прогулку и смотрело на нашу работу, на ту, что уже была сделана и на ту, что еще осталось доделать, а когда им хотелось пить, они шли к нашему маркитанту. Тот скоро понял свою выгоду, врыл столбы в землю, прибил к ним доски и сделал столы и скамьи; он выписал баварского пива, и народ приходил посидеть здесь по воскресеньям, словно в парк, где играет оркестр – не хватало только самого оркестра. А мы в это время лежали в наших палатках, или же шли подремать в лес, или шли к Брейельскому озеру, чтобы поймать немного рыбы или искупаться. Но по вечерам, когда люди уходили, или в будние дни после работы, мы собирались около столовой и провели не один прекрасный вечер, часто засиживаясь до полуночи, мы пили и пели, и рассказывали друг другу истории, одну лучше другой, и забывали тяжелую работу, и там было избранное общество, люди, пришедшие издалека, уже все немолодые, и все мы испытали уже приключения, о которых могли бы рассказать.
Да, приключения были нехитрые, но восхитительные по силе чувств и выразительности! Был там, к примеру, бывший подручный мясника; он был помолвлен с дочкой своего хозяина, но его забрали на военную службу, потом он начал пить и скитаться по дорогам; и вот однажды он, прося милостыню, постучал в дверь, и дать ему хлеба вышла его бывшая невеста, бедняга дал деру, а молодая женщина бежала за ним и звала его. Читая эти рассказы, мы вспоминаем скорее не «Жиль Бласа» и плутовские романы, а некоторые из наивных и трагических признаний русских каторжников, о которых поведал Достоевский в «Записках из мертвого дома».
Подобное существование, несмотря на все его прелести, не могло не привести в конечном итоге к пьянству и ослаблению моральных устоев. Со своей обычной искренностью Фишер рассказывает, как он мало-помалу наделал долгов, начал воровать и серьезно рисковал испортить отношения с полицией. Вот как он сам рассказывает об обстоятельствах, заставивших его в первых раз убежать из гостиницы, не заплатив хозяину.
Напрасно я экономил: всякий раз, когда выдавали жалованье, я получал денег меньше, чем должен был получить, да еще к дождливым дням (когда работа простаивала) прибавлялись праздники, Рождество и Новый год, так что с каждой выплатой мой долг рос. К началу марта я задолжал хозяину больше четырех талеров. Но я еще не привык иметь долги, это мне казалось очень обидным, и, не имея никакой надежды на улучшение своего положения, я не знал, что со мной станется. Ну так вот, в середине марта я говорю хозяину, что хочу съехать от него, он мне отвечает, что просто мечтает об этом, но сначала я должен заплатить ему долг, иначе он не отпустит меня. Тогда я ему говорю, что, мол, передумал и остаюсь; хозяин поверил мне, и мы остались хорошими друзьями. Но в этот момент я понял, что у меня нет другого выхода, как бежать.
Я всегда думал – и не без основания —, что мне повезло, так как в момент моего ухода хозяин спал, иначе, наверно, в моем паспорте появилось бы что-то иное, чем запись об осуждении за бродяжничество, которая там уже была, потому что, если бы хозяин захотел помешать мне уйти, мне пришлось бы защищаться, и уж, конечно, он взялся бы за дело серьезно, да и я тоже. И уж, во всяком случае, от меня не получил бы не деньги, хотя в кармане у меня и лежало мое последнее жалованье. Тогда я уж больше не думал о мире ином, о котором я узнал в школе и о котором столько говорил нам Иисус Христос, и я уж был совсем не тот, кем был еще недавно, когда покинул Айнслебен, и пусть бы я лучше отдал матери те два талера, что припрятал для путешествия. Нет, нет, это все в прошлом, меня уж отучили от всех этих историй.
Увы! В переводе совершенно невозможно передать особенности оригинала. Теряется то, что больше всего притягивает в нем: его автора, инверсии, повторения и постоянное смешение библейских оборотов и просторечных выражений. Боюсь, отрывочное цитирование не позволит французским читателям оценить по достоинству талант рассказчика. Я больше не буду цитировать, я лишь скажу несколько слов о выводах, которые мне хотелось сделать из рассказа Фишера.
Когда я в свое время утверждал, что этот рассказ не содержит ничего, могущего представить интерес для широкой публики, то подразумевал лишь, что сам автор, несомненно, полагал именно так, но, конечно же, книга заслуживает нашего внимания. Очевидно, бывший землекоп ни разу не задался вопросом, может ли его жизнь такой, какой она предстала перед нами, быть в чем-то поучительной для иностранного читателя и дать пищу для размышления, но сами события, о которых повествует автор, в высшей степени заслуживают того, чтобы задуматься над ними, поскольку изложены без прикрас и непосредственно. И именно общечеловеческое значение автобиографии Фишера так же и даже более ее литературных достоинств заставило господина Гёре предпринять публикацию. Да и сам писатель-социалист сообщает в предисловии, что предлагаемое нашему вниманию произведение является социологическим документом большой значимости и лучше позволяет понять жизнь и быт немецких рабочих. И это действительно так, поскольку значительно превосходя людей своего положения благодаря таланту рассказчика и чувству стиля, Фишер во всем остальном предстает перед нами (может, из-за отупляющих условий своей жизни) достаточно обыкновенным человеком, что дает нам право рассматривать его как типичного представителя если не всего социального класса, то, во всяком случае, большого числа подобных людей. Мы готовы поверить, что его покорность судьбе и равнодушие, абсолютное отсутствие любопытства, заурядность стремлений наряду с глубоко затаенной чувствительностью – это общие черты огромного числа немецких рабочих его поколения. «Книга позволяет увидеть, – говорит господин Гёре, – судьбу тысяч и тысяч наших товарищей, которые, родившись в середине прошлого столетия и от рождения принадлежа к среде мелкой буржуазии, вынуждены были из-за обесценивания ручного труда скатиться в пропасть, пополнить собою ряды бедняков без роду и племени.» Рассказ Фишера и самом деле свидетельствует о состоянии глубокого вырождения, в котором во второй половине XIX века пребывало бесчисленное множество людей и в котором, как мы видим, они продолжают пребывать и поныне. Из уст старого рабочего ни разу не вырвалось слова жалобы, но тем не менее книга является обвинением против общественного устройства, делающего из людей существ «без роду и племени». А дальше? Обнажив перед нами зло, помогла ли книга Фишера найти средство для его искоренения?


