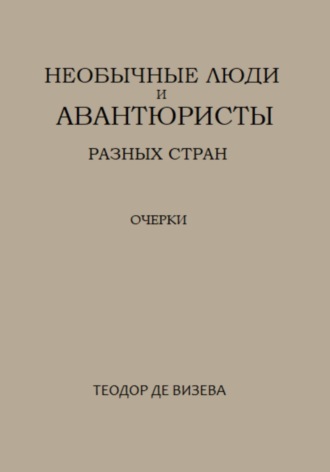
Теодор де Визева
Необычные люди и авантюристы разных стран
По Лафатеру, ни деяния, ни вера не должны основываться исключительно на разуме. Разум относителен и ограничен, как и все прочее в человеке: ограниченный нашими собственными возможностями, он не может претендовать на открытие нам истины. Чтобы стать действенным, чтобы дать нам знание и указать путь, он должен дополняться откровением. «Именно оно является продолжением и завершением разума.» Откровение есть необходимая сила для развития, воспитания и облагораживания человека, а также для обожествления человеческой природы. А среди всех откровений никакое другое не воплощает столь полно эту мысль, как учение Христа. «Я долго искал, – пишет Лафатер, – но не нашел ничего более разумного и более соответствующего духовным и моральным нуждам человечества, чем Евангелие.» Одно из его самых характерных произведений озаглавлено «О необходимости Иисуса Христа для формирования человеческой природы».
Именно так, проникая во все сферы нашей жизни, христианское откровение доказывает свою истинность. «Вся христианская метафизика, – с жаром говорит Лафатер, – есть и не может быть не чем иным, как метафизикой сердца». И долг христианина заключается не в попытке постичь Бога, а в попытке почувствовать его, полюбить его, подражать ему. О Боге, как и обо всем, мы можем иметь лишь «относительное» знание. Он предстает нашему разуму в человеческой форме: в нашем воображении он олицетворяется в образе Христа. «Христос есть видимый, осязаемый, доступный человеку Бог в образе совершенного человека.» И мы можем таким образом не только постичь его, но и соединиться с ним, воистину приобщившись к его божественной сущности. Нам это удастся с помощью веры, которая – если она достаточно сильна в нас – позволит нам даже стать выше мнимой необходимости естественных законов. «Что есть чудо? – задает вопрос Лафатер. – Что не есть чудо? Все есть чудо для нас, и ничто – для Христа». Или вот еще: «Если бы вы любили Бога от всего сердца, а вашего ближнего – как себя самого, то уверяю вас, в вас действительно бы жил дух Христа; а для меня возможность иметь в себе этот дух есть чудо еще большее, чем способность передвинуть гору.»
Лафатеру часто ставили в упрек эту теорию чуда, которая, в конечном счете, была в его жизни источником многих ошибок, иллюзий и несчастий. Убежденный в относительности познания, в превосходстве духа над материей и в подлинности чудотворной власти, даруемой верой, этот славный человек с поистине детским простодушием постоянно принимал за чистую монету все сверхъестественные явления, сообщения о которых поступали к нему из разных концов Европы. Сам он нередко сомневался в безупречности своего священнического служения и обвинял себя в том, что является плохим христианином, поскольку не смог явить ни одного из тех «чудес», которые почитал за знак соединения с Богом. Но вместе с тем, он имел полное право отвергать то, что его теория чуда имеет характер грубого суеверия, которое ей приписывали. В сущности, он придавал исключительную важность этой особенности своей религиозной доктрины, отлично понимая при этом, что слабость теории именно в ней и что христианство – как он понимал его – прекрасно может обойтись и без новых чудес. Или скорее, он признавал, – и мы могли убедиться в этом, – что благотворное действие веры на душу человека – и только оно – и есть чудо более удивительное и прекрасное, чем все «опыты» магнетизеров.
И, продолжая выспрашивать друзей о необычных случаях магнетизма или ясновидения, Лафатер усердно работал над воплощением в себе великого чуда единения с Богом. Он старался подготовить душу к пришествию Христа размышлением и молитвой, но особенно любовью, которую считал самым «христианским» из всех человеческих чувств. «Пробуждение в нас любви, – писал он, – главнейшее деяние Христа. Любить и быть любимым – значит жить и давать жизнь, и кроме любви нет ни иной религии, ни иного спасения. Мы живем Иисусом, который любит нас.» Лафатер был настолько пропитан мыслью о Христе, что испытывал от него некое подобие мистического опьянения, изумлявшее всех, кто близко знал старого пастора. А его христианский пыл наградил его, помимо прочих добродетелей, и восхитительной религиозной терпимостью. Только бы искали Бога – он готов был все понять и все принять. «Христос, – говорил он, – сумеет нас всех рассудить, какой бы дорогой мы не восходили к нему. Я знавал последователей Сочино246, деистов247, – да что говорить! – атеистов, которые, я полагаю, не менее верующие, чем я сам. О! Как мало мы знаем о том, что происходит в душе человека, чьи взгляды отличны от наших!.. О Любовь, ты одна знаешь, насколько благородны, чисты и возвышены наедине в Богом многие скептики!» Особенно его возмущала предубежденность протестантов, исключавших католицизм из числа достойных уважения христианских вероисповеданий. Одна из его самых прекрасных поэм, «Впечатления протестанта, находящегося в католической церкви», целиком посвящена подтверждению этой мысли. «Лишь бы он любил Христа, – пишет в ней Лафатер, – и больше не надо никаких преимуществ, чтобы быть хорошим христианином.» После чего, к великому возмущению своих современников (и наших, ибо господин Шультесс не преминул возмутиться подобным злоупотреблением терпимости), он дошел до признания определенной религиозной значимости креста, четок, изображений Богоматери и святых. «Да будет проклят тот, – восклицал Лафатер, – кто назовет язычеством культ, имеющий предметом поклонения Христа!» Понятно, что в течение всей жизни Лафатера «вольнодумцы» берлинской школы ненавидели и презирали христианство в его изложении.
Это кончилось для него также тем, что после многих лет почтительной дружбы он заслужил ненависть и презрение автора «Фауста»; и, думаю, на всем протяжении долгой творческой жизни последнего навряд ли найдется более любопытный эпизод, чем история его отношений с Лафатером, о которой напомнил нам господин Генрих Функ в другой главе того же сборника.
Гете с того самого времени, когда в 1773 году послал Лафатеру экземпляр «Геца фон Берлихенгена», испытывал странную привязанность к цюрихскому богослову, и посланная драма послужила началом последовавшей затем переписки, где оба молодых человека (Лафатеру было тридцать два года, Гете – двадцать пять), постоянно свидетельствуя друг другу самое искреннее уважение, свободно делились своими мечтами. В 1774 году они встретились во Франкфурте, вместе посетили Эмс, а затем поэт провел несколько недель в Цюрихе у своего друга. Еще раз поэт побывал у него четыре года спустя, вместе со своим покровителем великим герцогом Веймарским248, которому он некогда представил Лафатера. Именно Гете правил корректуру «Физиогномических отрывков», где, впрочем, Лафатер вывел его как самый совершенный тип гениального человека. Но не надо думать, что в этой дружбе Гете был лишь предметом поклонения и любви своего восторженного друга! Поэт и сам с необыкновенным пылом восхищался и любил его, и немного нашлось бы людей, оказавших на него такое же глубокое воздействие, как Лафатер. «Знакомство с Лафатером явилось для великого герцога и для меня главным событием в продолжение всего нашего путешествия, – пишет он госпоже фон Штейн249 в 1779 году. – Я не могу выразить словами великолепие этого человека, Он самый великий, самый лучший, самый мудрый, самый внутренний человек из всех людей, которых я когда-либо знал.» И далее, в другом письме: «Лафатер продолжает оставаться опорой для нас… Истина всегда нова, и всякий раз, когда мы видим человека, владеющего истиной во всей ее полноте, у нас возникает впечатление, что мы рождаемся вновь.» Своему другу Кнебелю250 он пишет: «Лафатер есть и остается человеком неповторимым. Нигде, ни среди иудеев, ни среди язычников, я не нашел столько правды, любви, веры, терпения, силы, мудрости, доброты, разносторонности, спокойствия…» В письме от 7 декабря того же года Гете сравнивает его с Рейнским водопадом близ Шафхаузена251. «Всякий раз, когда вновь находишься вблизи него, все больше поражаешься его совершенству. Он лучший из лучших, он – цвет человечества.»
Таковы были в 1779 году чувства Гете к Лафатеру. Поэт «не считал себя христианином» и в первом же письме предупредил об этом друга, тот поспешил ответить, что предпочитает его, язычника, многим христианам. «Кто же, – писал ему Лафатер, – может быть настолько крепок в своей вере, дабы судить о вере других?» Таким образом, признание Гете не повлияло на их добрые отношения. Но вдруг, в 1782 году, поэт заметил, что он слишком большой «нехристианин», а посему не может поддерживать дружбу с пастором, «христианство» которого, по сути, такого же свойства, как и его собственное нехристианство. Лафатеру, пославшему ему свою книгу «Понтий Пилат, или Библия в уменьшенном виде человека в натуральную величину», он откровенно заявил, что «нетерпимость» книги возмутила его. А поскольку бедняга Лафатер умолял указать отрывки, которые смогли заслужить подобный упрек, то Гете ответил во втором письме, что сам факт восхищения Христом является в его глазах отвратительнейшей формой нетерпимости. «Ты принимаешь Евангелие за божественное откровение, для меня же оно скорее является хулой на великого Бога, заключенного в Природе. Для тебя нет ничего более прекрасного, чем Евангелие; мне же знакомы тысячи страниц, написанных давно и недавно, которые я нахожу более прекрасными, более полезными и более необходимыми для людей!.. И ты меня спрашиваешь, в чем состоит твоя нетерпимость?.. Самое большее, я допускаю, что, если бы я проповедовал свою веру, как ты свою, то, конечно же, ты имел бы еще большее право сетовать на мою нетерпимость, нежели я – на твою.»
С тех пор с каждым годом привязанность Гете к Лафатеру все больше переходит в ярую ненависть. В 1786 году поэт пишет госпоже фон Штейн: «Лафатер приехал в Веймар и остановился у меня. Мы не перемолвились ни одним дружеским словом. Он еще раз явился ко мне во всем своем совершенстве, но моя душа осталась спокойна, как чистая вода в стакане.» На следующий год, во время путешествия по Италии, Гете получил книгу Лафатера «Нафанаил»252, которую автор посвятил «Нафанаилу, чье время еще не пришло». Невозможно представить себе ничего более трогательного, нежели страницы, где швейцарский писатель, не зная о перемене чувств «Нафанаила», выражает надежду, что «час» его не замедлит настать. «Благородный, чистый, дорогой друг! – писал он Гете, —Да, более дорогой, чем тысячи людей, называющих себя христианами, более дорогой даже, чем те, кто полностью разделяет мои верования, хоть на тебя еще и не низошла эта благодать из благодатей признать Иисуса Христа единственным спасителем человеков и в то же время единственным истинным человеком и найти в нем божественность, которую ты напрасно ищешь в природе, – ты, чувствующий лучше кого-либо красоту ее. Не стремясь переубедить тебя – о твоем обращении Господь позаботится сам! – но единственно как знак моего уважения и любви, как знак моих надежд и предчувствий, я посвящаю тебе эту небольшую христианскую книгу.» Но Гете, прочитав посвящение, лишь небрежно написал на клочке бумаге: «Ты выбрал неудачное время для свое болтовни! Я не Нафанаил, а Нафанаилам моего поколения, полагаю, я сам преподам урок, который отвратит их от твоего! Прочь же от меня, софист, или берегись ударов!» С тех пор он упорно отказывался отвечать на письма Лафатера, а во время своего пребывания в 1797 году в Цюрихе даже не захотел повидать своего друга. Наконец, он поднял его на смех и публично оскорбил в знаменитых «Ксениях» в «Альманахе муз»253. Но бедняга Лафатер, окончательно убедившись, что отныне навсегда потерял сердце своего «героя», тем не менее продолжал уверять, что рано или поздно это сердце откроется навстречу Божьей благодати.
Он, впрочем, дважды ошибся, и это еще раз доказывает нам, насколько мало он разбирался в людях. Ибо, похоже, сердце Гете так никогда и не открылось навстречу благодати Божьей; но в то же время, как известно, после смерти Лафатера поэт вновь почувствовал горячую симпатию и уважение к тому, кто на протяжении многих лет был для него «самым великим, самым лучшим и самым мудрым из людей». Из всех портретов, оставленных Гете в «Воспоминаниях моей жизни», ни один не вызывает такого искреннего чувства уважения, восхищения и симпатии, как портрет автора «Понтия Пилата» и «Нафанаила».
II. Апостольское служение русского нигилиста
«Узнав их [революционеров] ближе, Нехлюдов убедился, что это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие, и дурные, и средние люди.» Эти слова графа Толстого из второй части «Воскресения» могли бы служить эпиграфом к двум большим томам воспоминаний, опубликованных недавно одним из самых известных русских революционеров нашего времени, «товарищем» и князем Петром Кропоткиным. И не потому, что человек, предстающий перед нами в «Записках», относится к «средним» людям, о которых говорит граф Толстой. Он не лишен ни ума, ни знаний, ни даже некоторого литературного таланта – самое большее, чего ему не хватает, так это немного воображения и фантазии, что иногда делает утомительным чтение этих двух томов. И уж тем более, это не «дурной» человек. Напротив, он полон великодушных и бескорыстных замыслов, он горячо предан идее будущего счастья человечества, и ни к кому в мире он не испытывает ни малейшей ненависти или злобы, за исключением, может, нескольких полицейских чинов, да, возможно, иезуитов, сведения о которых, кажется, в основном почерпнуты им из романа Эжена Сю «Вечный жид», поскольку, если на его пути встречается лицемер, мошенник, доносчик, он тут же начинал подозревать в нем переодетого иезуита. Но вместе с тем, князь Кропоткин, каким мы видим его в «Записках» предстает перед нами совершенно «обыкновенным человеком», человеком, «похожим на каждого из нас», и так же далеким от «сплошного героя», как и от «сплошного злодея». Случайно он оказался в необычных обстоятельствах, в которых его душевные качества позволили ему сыграть значительную роль, но эти качества, как бы замечательны они ни были, не имели ничего необычного, и даже эти обстоятельства не обнаружили в нем какой-либо исключительности. Сначала паж императора Александра II, затем офицер в Сибири, член тайного общества, узник Петропавловской крепости, редактор английского научного журнала, организатор анархистского движения в Швейцарии, человек, приговоренный лионским судом присяжных к заключению в пересылочной тюрьме в Клерво и высланный из Франции, Швейцарии, Бельгии, – князь Кропоткин и во времена испытаний сохранил порывы и простодушие порядочного человека, озабоченного лишь тем, как бы получше сделать свое дело. Он привнес в революционную пропаганду ту же добросовестность и ту же аккуратность, с какими производил тактические учения своего полка или же исследования горного рельефа Сибири; а ныне, посчитав, что его труд уже почти завершен, он взялся поведать нам о своих приключениях тем простым и доверительным тоном, каким старый чиновник в отставке рассказывает внучатам о своей молодости.
«Обыкновенным человеком» предстает он перед нами на всем протяжении этого повествования. И это отнюдь не только из-за скромности – действительно большой, – которая заставляет его прославлять без конца заслуги своих товарищей: прославляя из заслуги, он умеет также оценить и свои, и ни разу он не сожалеет ни об одном содеянном поступке, ни об одной мысли. Очевидно, у него есть чувство добросовестно выполненного долга, и он действительно всегда выполнял его, или, по крайней мере, то, что под таковым понимал, но эта постоянная уверенность в своей правоте, это полное отсутствие душевных сомнений и породнило его окончательно с каждым из нас, со средними людьми, от которых, мы думали, он отличается. Ему не удается избежать даже самых маленьких недостатков этих людей; а посему, не кажется странным услышать, как революционер, автор «Хлеба и воли» и «Речей бунтовщика», пространно рассказывает нам о своей родословной, о том, что его род со стороны отца ведет прямое происхождение от Рюрика, а дед по материнской линии, потомок гетмана Войска Запорожского, был одним из героев, защищавших Отечество в 1812 году. На каждой странице книги проявляется его тщеславие тем более удивительное, что это самое наивное и, впрочем, самое невинное, самое «человеческое» тщеславие в мире. Естественно, оно ни в коей мере не умаляет действительно прекрасных душевных качеств князя Кропоткина, и нам даже в голову не пришло обращать на него внимание, если б им обладал кто-то другой. Но также верно и то, что мы, по примеру тех, о которых говорит граф Толстой, охотно представляем русских революционеров – и князя Кропоткина, в частности – как особенных существ, чуждых людских чувств и страстей: мы представляем их по образу тургеневского Базарова или странных героев «Бесов» Достоевского, странность которых не мешает им жить напряженной и удивительной жизнью. Мы ошибались: русские революционеры – это люди, похожие на нас, «между которыми есть, как и везде, и хорошие, и дурные, и средние люди».
Кроме того, граф Толстой своим проницательным анализом помогает нам понять причины, побудившие князя Кропоткина стать революционером. «Были среди них [среди новых друзей Нехлюдова] люди, – пишет Толстой, – ставшие революционерами потому, что искренне считали себя обязанными бороться с существующим злом; но были и такие, которые избрали эту деятельность из эгоистических, тщеславных мотивов; большинство было привлечено к революции знакомым Нехлюдову по военному времени желанием опасности, риска, наслаждением игры своей жизнью – чувствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодежи.» И вскоре, покинув еще раз Нехлюдова и Маслову, героев «Воскресения», граф Толстой представляет нам людей, воплощающих эти различные типы революционеров. Он показывает нам Крыльцова, заключенного в тюрьму за то, что ссудил деньгами нигилистов и самого ставшего нигилистом, когда увидел несправедливость полиции к товарищам по заключению; он показывает нам честолюбивого болтуна Новодворова, примкнувшего к революционерам в надежде удовлетворить свою природную склонность повелевать; он показывает нам молодую женщину, ставшую революционеркой потому, что ее муж стал им и потому, что она его любит; он показывает нам крестьянина, Набатова, вовлеченного в революцию своей любовью к народу и отчасти из-за своей грубой физической силы и душевного склада, которые сделали для него необходимым действие; наконец, он показывает нам фабричного Маркела, который с тех пор, как одна революционерка дала ему книги, мечтал сделать счастливыми других людей, разделив с ними блага науки.
Возможность эту [освобождения от гнета], как ему объяснили, давало знание, и Кондратьев отдался со страстью приобретению знаний. Для него было неясно, каким образом осуществление социалистического идеала совершится через знание, но он верил, что как знание открыло ему несправедливость того положения, в котором он находился, так это же знание и поправит несправедливость. Кроме того, знание поднимало его в его мнении выше других людей. И потому, перестав пить и курить, он все свободное время, которого у него стало больше, когда его сделали кладовщиком, отдал учению.
Революционерка учила его и поражалась той удивительной способностью, с которой он ненасытно поглощал всякие знания. В два года он изучил алгебру, геометрию, историю, которую он особенно любил, и перечитал всю художественную и критическую литературу и главное, социалистическую.
Революционерку арестовали и с ней Кондратьева за нахождение запрещенных книг и посадили в тюрьму, а потом сослали в Вологодскую губернию. Там он познакомился с Новодворовым, перечитал еще много революционных книг, все запомнил и еще более утвердился в своих социалистических взглядах. После ссылки он был руководителем большой стачки рабочих, кончившейся разгромом фабрики и убийством директора. Его арестовали и приговорили к лишению прав и ссылке.
К религии он относился так же отрицательно, как и к существующему экономическому устройству. Поняв нелепость веры, в которой он вырос, и с усилием и сначала страхом, а потом с восторгом, освободившись он нее, он, как бы в возмездие за тот обман, в котором держали его и его предков, не уставал ядовито и озлобленно смеяться над попами и над религиозными догматами.
Он был по привычкам аскет, и довольствовался самым малым и, как всякий с детства приученный к работе, с развитыми мускулами человек, легко и много и ловко мог работать всякую физическую работу, но больше всего дорожил досугом, чтобы в тюрьмах и на этапах продолжать учиться.
Чувствуется, граф Толстой совсем не любит этого Маркела; но, напротив, я подозреваю, что он не смог бы не испытывать симпатии к господину Кропоткину, который стал революционером, безусловно, «потому, что искренне считал себя обязанным бороться с существующим злом». И уж, вне всякого сомнения, должен добавить, князь Кропоткин не принадлежал к числу тех, кто «избрал эту деятельность из эгоистических, тщеславных соображений». С этими оговорками можно считать, что процитированные выше строки наиболее точно и полно излагают весь революционный путь знаменитого автора «Речей бунтовщика». Князя Кропоткина, так же, как и фабричного Маркела, привела к нигилизму любовь к науке. И он тоже – как раньше, так и ныне – воображает, что «знание и поправит несправедливость». И он тоже «отдался со страстью приобретению знаний» и «перечитал много революционных книг»; и он тоже считал образование единственным достойным и полезным занятием. И у него тоже, несмотря на его доброту и высокие душевные качества, мы находим ту же антирелигиозную одержимость, которая толкала Маркела «возмездию за тот обман, в котором держали его и его предков». Этот мудрец, этот истинный христианин, который простил даже своих преследователей, для христианства находил лишь слова ненависти, и одного упоминания имени Христа ему дало достаточно, чтобы потерять спокойствие.
Впрочем, он сам не преминул рассказать нам в своих «Записках», каким образом полученное в детстве образование подготовило его к апостольскому служению революции. Воспитанник Санкт-Петербургского Пажеского корпуса, он изучил отнюдь не латынь, а физику, химию, естественную историю. То было время, когда, по его выражению, «вся Россия жаждала образования». С легкой руки императрицы Марии Александровны постоянно открывались новые школы, великосветские дамы давали уроки или приказывали их давать, мода поменяла романы на науку. В Пажеском корпусе все товарищи молодого Кропоткина учились с увлечением. «Конечно, мы не все понимали и упускали глубокое значение многого; но разве чарующая сила учения не заключается именно в том, что оно постепенно раскрывает пред нами неожиданные горизонты? Мы еще не постигаем вполне всего, но нас манит идти все дальше к тому, что в начале кажется лишь смутными очертаниями… Одни наваливались на плечи товарищей, другие стояли возле Классовского [преподаватель грамматики]. У всех глаза блестели. Мы жадно ловили его слова. К концу урока голос профессора упал, но тем более внимательно слушали мы, затаив дыхание… Даже Донауров, натура вообще мятежная, и тот вперился глазами в Классовского, как будто хотел сказать: “Так вот ты какой!” Неподвижно сидел даже безнадежный Клюгенау, кавказец с немецкой фамилией. В сердцах большинства кипело что-то хорошее и возвышенное, как будто перед нами раскрывался новый мир, существования которого мы до сих пор не подозревали.»
Страстная тяга юного пажа к знаниям вдохновлялась также примером и советами старшего брата Александра, который тогда, кажется, искал в науке решения всех проблем и средство от всех бед. Александр лихорадочно переходил от одной системы к другой, обращался то в лютеранство, то в кантианство, затем увлекся трансформизмом255, а когда вышло в свет «Происхождение видов», ставил опыты по самозарождению. Каждая его беседа с младшим братом была для последнего толчком для нового чтения, для новых попыток «покорения науки».
Затем паж стал офицером и был послан в гарнизон одной из самых отдаленных сибирских губерний. Он обнаружил, что карта Восточной Сибири испещрена множеством ошибок, и тотчас же задался целью исправить их. После долгих и трудных исследований ему посчастливилось сделать настоящее географическое открытие: он открыл, что горы и плоскогорья Азии имеют направление не с севера на юг, и не с востока на запад, а юго-запада на северо-восток – в направлении, противоположном направлению гор и плоскогорий Америки; он открыл также, что горы Азии вовсе не являются группами независимых горных цепей, как Альпы, но являются частью огромного плоскогорья, которое брало некогда свое начало у Берингова пролива.
В человеческой жизни мало таких радостных моментов, которые могут сравниться с внезапным зарождением обобщения, освещающего ум после долгих и терпеливых изысканий. То, что в течение ряда лет казалось хаотическим, противоречивым и загадочным, сразу принимает определенную, гармоническую форму. Из дикого смешения фактов, из-за тумана догадок, опровергаемых, едва лишь они успеют зародиться, возникает величественная картина подобно альпийской цепи, выступающей во всем великолепии из-за скрывавших ее облаков и сверкающей на солнце во всей простоте и многообразии, во всем величии и красоте. […] Кто испытал раз в жизни восторг научного творчества, тот никогда не забудет этого блаженного мгновения. Он будет жаждать повторения. Ему досадно будет, что подобное счастье выпадает на долю немногим, тогда как оно могло бы быть всем доступно в той или другой мере, если бы знание и досуг были достоянием всех.
Именно для того, чтобы дать людям возможность разделить с ним «восторг научного творчества», князь Кропоткин и стал революционером. После своего открытия он вышел в отставку, поселился в Петербурге и поступил в университет. Русское Географическое общество, членом которого он стал, давало ему самые ответственные поручения. В частности, ему предложили изучить форму и геологическое строение озов256 в Финляндии. Однажды осенним вечером 1871 года, когда князь Кропоткин исследовал финский берег, он получил телеграмму с предложением занять место секретаря Общества, – честь, которая месяцем раньше преисполнила бы его радости. Но за месяц в нем произошли глубокие изменения, жизнь приняла в его глазах новый смысл, у него появились новые обязанности, не оставлявшие времени для ученых занятий. Он отказался от предлагаемой должности и от честолюбивых планов ученого. Отныне место ученого занял революционер. Вот как он сам рассказывает об своем превращении.
Часто случается, что люди тянут ту или иную политическую, социальную или семейную лямку только потому, что им некогда разобраться, некогда спросить себя: так ли устроилась жизнь, как нужно? Соответствует ли их нравственное удовлетворение, которое каждый вправе ожидать в жизни? Деятельные люди чаще всего оказываются в таком положении. Каждый день приносит с собой новую работу, и ее накопляется столько, что человек ложится, не выполнив всего, что собирается сделать за день, а утром поспешно хватается за дело, неоконченное вчера. Жизнь проходит, и нет времени подумать, что некогда обсудить ее склад. То же самое случилось и со мной.
Но теперь, во время путешествия по Финляндии, у меня был досуг. Когда я проезжал в финской одноколке по равнине, не представлявшей интереса для геолога, или когда переходил с молотком на плечах от одной балластной ямы к другой, я мог думать, и одна мысль все более и более властно захватывала меня гораздо сильнее геологии.
Я видел, какое громадное количество труда затрачивает финский крестьянин, чтобы расчистить поле и раздробить валуны, и думал: «Хорошо, я напишу физическую географию этой части России и укажу лучшие способы обработки земли. Вот здесь американская машина для корчевания земли принесла бы громадную пользу. А там наука могла бы указать новый способ удобрения…
Но что за польза толковать крестьянину об американских машинах, когда у него едва хватает хлеба, чтобы перебиться от одной жатвы до другой; когда арендная плата за эту усеянную валунами землю растет с каждым годом по мере того, как крестьянин улучшает почву! […] Как смею я говорить об американских машинах, когда на аренду и подати уходит весь его заработок! Крестьянину нужно, чтобы я жил с ним, чтобы я помог ему сделаться собственником или вольным пользователем земли. Тогда он и книгу прочтет с пользой, но не теперь […]
Знание – могучая сила. Человек должен овладеть им. Но мы и теперь уже знаем много. Что, если бы это знание, только это стало достоянием всех? Разве сама наука тогда не подвинулась бы быстро вперед? Сколько новых изобретений сделает тогда человечество и насколько увеличит оно тогда производительность общественного труда! Грандиозность этого движения вперед мы даже теперь уже можем предвидеть.
Массы хотят знать. Они хотят учиться; они могут учиться. Вон там, на гребне громадной морены, тянущейся между озерами, как будто бы великаны насыпали ее поспешно, чтобы соединить два берега, стоит финский крестьянин, он погружен в созерцание расстилающихся перед ним прекрасных вод, усеянных островами. Ни один из этих крестьян, как бы забит и беден он ни был, не проедет мимо этого места, не остановившись, не залюбовавшись. Или вон так на берегу озера стоит другой крестьянин и поет что-то до того прекрасное, что лучший музыкант позавидовал бы чувству и выразительности его мелодий. Оба чувствуют, оба созерцают, оба думают. Они готовы расширить свое знание, только дайте его им, только предоставьте им средства завоевать себе досуг.
Вот в каком направлении мне следует работать, и вот те люди, для которых я должен работать.
Возможно, читатель спросит себя, будут ли финские крестьяне так же напевать прекрасные мелодии и восхищаться природой, стоя на берегу реки, к тому дню, когда они «расширят свое знание». Но князь Кропоткин слишком уверовал во «всемогущество науки» и его не смущали подобные вопросы. Отныне целиком посвятив себя своей мечте о просвещении и образовании русского народа, он решил сначала ознакомиться с последними достижениями цивилизации у других народов. «Переезжая рубеж, я испытал даже сильнее, чем ожидал этого, то, что чувствуют русские, выезжающие из России. Пока поезд мчится по малонаселенным северо-западным губерниям, испытываешь чувство, как будто пересекаешь пустыню. На сотни верст тянутся заросли, к которым едва применимо название леса. Там и сям виднеется жалкая деревушка, полузанесенная снегом. Но со въездом в Пруссию все меняется – и пейзаж, и люди. Из окон вагона видны чистенькие деревни и фермы, садики, мощеные дороги, и, чем дальше проникаешь в Германию, тем противоположность становится разительнее. После русских городов даже скучный Берлин кажется оживленным.» В Цюрихе, а затем в Женеве, неофит познакомился с вождями анархистского движения. Когда же, спустя некоторое время, он возвратился в Петербург, то первой его заботой стало связаться с тайным обществом.


