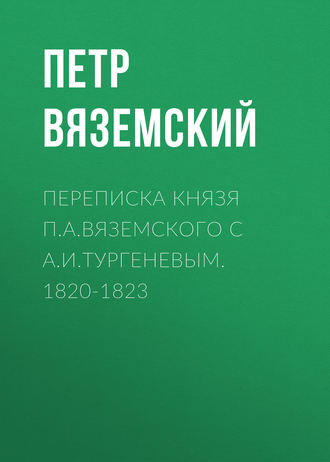
Петр Вяземский
Переписка князя П.А.Вяземского с А.И.Тургеневым. 1820-1823
286. Князь Вяземский С. И. Тургеневу.
[Конец июня. Петербург].
Заставляют писать к вам: я и сам писать рад, но что скажешь из Петрограда в Царьград нового, любопытного, странного? Все одно и то же, что у вас, что у нас. Разве только придется, как в свои козыри, спросить: чья старшая? Злоупотребления режутся на меди, а добрые замыслы пишутся на песке. Я здесь не долго прожил, а успел уже видеть, как разнесло ветром начертание прекрасных предположений. Грустно и гадко! И самые честные люди из видных не что иное, как временщики: по движению сердца благородного бросаются вперед; по привычке трусить – при первом движении августейшего махалы отскакивают назад. И до сей поры адская надпись Данта блестит еще в полном сиянии на заставе петербургской. Больно повторять за вами если не вечное, то, по крайней мере, долгое «прости» любезному отечеству, а делать нечего. Нельзя жить для пользы, то хотя жить надобно на радость и перенести то, что живого есть в душе, в какое-нибудь бытие поэтическое, а не то совсем протухнешь. Пока еще воображение не увяло и сердце не обветшало, есть где уйти от скуки. Но что предстоит, когда баснословная эпоха жизни издержится, и придет время, что надоест ходить по облакам, а рассудком и душою потребуется поверять очевидностью следы, означенные по дороге перешедшей? Тогда-то русская жизнь во всей своей худощавой наготе, во всей своей плоской безобразности представится взору, и длинный ряд нулей окажется в итоге бытия промотанного. Между тем живу на бумажки: одна ассигнация доставляется вам А[лександром] И[вановичем]. По его требованию пересылаю и другие. Вы не почтете эти ассигнации фальшивыми, когда узнаете, что они надписаны гишпанской красавице. Живите в поганой Туречине веселее нашего на святой Руси. Возвращаюсь на днях в свое некоторое царство, некоторое государство. В августе или начале сентября будет у нас некоторый сейм, в силу некоторой свободы, под покровительством некоторого «Быть по сему».
С. И. Тургенев князю Вяземскому.
15-го июля 1820 г. Буюгдере.
Спешу благодарить вас за любезное письмо ваше; оно хотя на минуту, развлекло ту грусть, которую принесли мне письма братьев. Вот что значит быть далеко от России! За две недели перед этим получил я прелестную новость и еще не перестал ею радоваться; мысленно наблюдал за всяким действием брата Александра, за всяким словом брата Николая; почти узнавал руку провидения, приманившего вас в Петербург накануне подписи; мечтал, рассчитывал все обстоятельства, предвидел и уничтожал препятствия, любовался графом В[оронцовым]. Теперь вся надежда, а с нею и все веселье мое исчезло. Наши противники обдали меня холодною водою, их любимым элементом, и я проснулся поневоле. Но это первый был опыт. Легкия победы неверны. Попробуйте же еще! Покуда надо работать с тем, чтобы успокоить умы, si умы у а. Да, ради Бога, не думайте, что вы все сделали, доказав, что вы хотели сделать. Этого, ей-ей, не довольно, особливо когда Бог и государь за нас.
От всего сердца любовался вашими стихами ишпанской, польской, русской, но, к несчастью, не всесветной красавице. Она их, они её стоят. Возвратясь в некоторое царство, где вы найдете уже некоторую княгиню, прошу засвидетельствовать мое почтение княгине. Если г. Мюллер будет спрашивать известий о жидах, то сделайте одолжение, скажите ему, что в Петербурге я ничего не нашел; а здесь и искать еще не успел.
Простите, любезнейший и почтеннейший князь Петр Андреевич, не забывайте преданного вам С. Тургенева и хотя иногда позвольте ему надеяться получать от вас письма.
Дашкова, который теперь в Греции и скоро будет в Иерусалиме, ожидаем здесь в октябре.
На обороте: Его сиятельству князю Потру Андреевичу Вяземскому.
287. Князь Вяземский Тургеневу.
24-го июля. [Варшава].
Я получил твои комментарий на письмо Дружинина. Сердце мое уже здесь обжилось, но рука и голова еще что-то не сказываются, и потому ты будешь и сегодня без письма. К тому же я как то не сердит на тебя, а немного от тебя отшатнулся. На мороз сердиться нельзя, но он сжимает и знобит, а ты на меня подул морозом. Сделай одолжение, извини меня перед Дмитрием Павловичем Татищевым: я, забывшись, уехал, не простясь с ним. Мне так совестно, что я успел мало воспользоваться его обществом; но, надеюсь, в другой приезд буду счастливее.
Скажи Боголюбову, что жду от него письма. Его книга меня тешила. Сколько стихов надумалось у меня дорогою! Но тебе ни одной стопы: дело кончено! Ты окаменил мою поэзию. Ты отказался быть моим Ганимедом, то-есть, мой гнать мед, как гонят вино. Прости! Всем нашим поклон.
Узнал ли ты o росписке Смирновой? Палки не имею. Получил ли деньги, но ведь не все? Что еще должен? Отослал ли ты мое письмо к Булгакову перед отъездом?
288. Князь Вяземский Тургеневу.
30-го июля. Варшава.
Что ты сам ничего не пишешь, а только что чужие письма мараешь?
Как хочешь, так кусай и злися,
Но только не воняй.
Граф Хвостов.
Да еще лжешь на меня. Прошу вперед не умничать и сейчас написать ко мне по старому, а ведь я не стану тебе в одиначну сказки сказывать на грядущий сон. Сегодня у нас по твоей части: обед крестинный. Теките, слюнки! Бурчи, живот! Прости! Не шали, а то право разлюблю! Вот тебе сочинение персидского посла. Подпишись за меня на «Соревнователя» и «Невского Зрителя». Получил ли деньги от Дружинина, и все ли? Что росписка Смирновой? Безобразова у Мятлевых в деревне. По следующей почте Жуковскому стихи, а тебе шиш. Посылка к Безобразовой.
С. И. Тургенев князю Вяземскому.
4-го августа 1820 г. Буюгдере.
Тому две недели назад писал я, отправляя к братьям ответ мой на письмо вашего сиятельства. Теперь же пишу только для того, чтобы попросить вас, почтеннейший и любезнейший князь Петр Андреевич, о доставлении в Петербург прилагаемого здесь письма. Я не успел послать его со вчерашнею почтою, а нынешний наш курьер отправляется прямо в Варшаву, по причине отъезда государя из России. Не откажите мне в моей просьбе и примите наперед мою благодарность за исполнение оной, так же как и уверение в совершенном почтении и искренней преданности вашего покорного слуги Тургенева.
Милостивой государыне княгине прошу засвидетельствовать мое почтение. Не будет ли каких поручений на Восток от её сиятельства?
289. Тургенев князю Вяземскому.
4-го августа. [Петербург].
Я получил прежде письмо твое из Варшавы, а потом маленькую цидулку из Вильны; и я не то чтобы сердит на тебя, а так, как бы тебя от сердца оттянуло. Боюсь, чтобы это не было хуже. Письмо твое еще более меня простудило тем морозом, которым на тебя подуло. Из последней и первой не то чтобы размолвки нашей, ибо ты сказал только одно слово, подтвердил я себе одну старую истину, которая служит к чести святой дружбы, но не к нашей. Во время оно я бы имел дух выговорить или высказать все, что на уме и на сердце, а теперь перемолчу. Ты хотел, чтобы я трактовал шуткой то, что для нас и было шуткой, но мы были кошками, а дли мышки могли быть слезки, хотя и беспричинные. Легче перенести один несправедливый упрек, нежели не сметь смотреть прямо в глаза… mais l'inconvénient de la chose est qu'elle n'est pas assez sérieuse pour en parler sérieusement et qu'elle Test assez pour refroidir à jamais un sentiment bien prononcé, que je commenèais à prendre pour de l'amitié.
О росписке Смирновой справлюсь сегодня же. Росписку Бут. посылаю. Сверх того 195 рублей на шинель и прочее. При сем письмо Жуковского, который едет в сентябре или октябре за ученицей на год в прусские краи. Палку тогда же отправил. Булгакову тогда же письмо отдал, а он все верно доставил. Брат Николай кланяется. Он подал в отставку от Министерства финансов, но еще не имеет оной. Он хочет быть так же чист в службе, как я в дружбе, и так же, как я, подал в отставку. Прости! Известия твои о Неаполе были самые свежия, и я угостил ими дипломатов. Тургенев.
Никита Муравьев уезжает сегодня в Одессу. Сообщил ли я тебе циркуляр губернаторам графа Кочубея по случаю екатеринославской мечты о свободе?
290. Тургенев князю Вяземскому.
11-го августа. [Петербург].
Я получил письмо твое от 30-го июля и решился продолжать переписку: от тебя зависеть будет, чтобы в тот день, когда душа на месте, душа слышна была в письме. Но если ты будешь писать стихи к Жуковскому, а ко мне строки с препровождением посылок, то и я буду только пересыльщиком оффициальных новостей и чужих стихов. Кстати, вот тебе присланные для «Сына» стихи Иванчина-Писарева. Право, недурно и лучшее, что было писано о Кат[алани], разумеется после твоей прозы. Каков комплимент?
На журналы подпишусь. Посылаю росписку в доставлении Безобразовой холста, список о книгах для Ивана Ивановича и письмо от Сергея, вчера полученное. Бедный брат разочарован после первых наших известий о добром начале или, лучше, о начале доброго дела. Он восхищался, а теперь в унынии, но не в отчаянии. Я надеюсь поддержать его бодрость разными известиями. Деньги для портного и 200 рублей не получал. Если пришлет Дружинин, то вычту. Скажи Северину, что Иван Иванович спрашивает меня, был ли он точно в Петербурге и получил ли письмо его? Я разрешил его сомнение о пребывании в Петербурге, но не б письме. Я читаю теперь рукопись, единственную для биографии, особливо для внутренней жизни Екатерины. Храповицкий описывал ежедневные происшествия и, будучи ежедневно и беспрестанно при ней и пользуясь её доверенностью, а что еще важнее и доверенностью её Захара, записывал ipsissima verba все, что видел и слышал с рабскою и почти с лакейскою верностью. Но так как он был употреблен и в важных делах, то в записках его вижу я зародыши мыслей Ёватерины, из воихл после вышли трактаты, война, законы. Журнал ежедневный и nilla dies sine linea, и оттого есть связь в происшествиях; право, почти история, но конечно прекрасные материалы к оной: характеристики людей, ею начертанные; анекдоты, изображающие нравы века и двора того времени. Сколько живых еще подлецов, сколько подлецов уже мертвых, но бессмертных по милости сих записок. Есть и о Державине любопытная черта. Я нашел два раза имя отца моего в истории мартинистов. Это наслаждение для русского, особливо для меня, ибо я вчера читал рукопись с князем Голицыным, который много помнит, многого был свидетелем и поверяет свое тем, что читал; но писанное все верно. История любимца Мамонова или его падения вся тут. Многие скрыли стыд свой в гробе, но если дело истории изводить на свет правду, то они пожелали бы зарыть с собою эти записки. Хотел бы поговорить с тобою о подвигах Чернышева по возмущении и о новой книге Дидерота, но некогда. Пиши о себе и о ваших гостях.
291. Князь Вяземский Тургеневу.
[14-го августа. Варшава].
Что ты со мною лабзинствуешь? Хоть убей, ничего разгадать не могу. Какие слезки, какая мышка, какое слово мое, которое было размолвкою нашей? Какую подтвердил ты старую истину, которая служит в чести святой дружбе? Отчего мое письмо еще более простудило тебя, pourquoi cette chose (et quelle est cette chose) qui refroidit à jamais un sentiment bien prononcé??? Перекрестись, рассмейся, только объяснись или замолчи, не устами и не пером, но сердцем и рассудком, а не то такую ахинею заврешь, что способа нет: ведь ты не в Таврической зале. Опоминсь! Смешное дело, если дружба наша будет зависеть от того, что я люблю рюмку шампанского, «Die Resignation» Шиллера, «La placida Campagna» Каталани или какие-нибудь другие поэтические припасы. Не води ум за разум, а особливо же по брюху сердца; но более всего скажи себе, что ты меня не знаешь, что я не при тебе писан, что я дожил до тридцати лет, не сделавши публичного дурачества; что проповедывать рассудок – свойство мелкого ума, и потому что тебе не годится садиться в чужия сани; что я весь век свой изжил и изживу остальное не на столбовой дороге, на коей иссох бы я при второй версте, но что между тем и заблудиться мне не суждено, ибо я перенес все бури души, и вынес меня Бог невредимо; что тут, где идет дело о жизни, о корне жизни, не должно прикладывать холодного ножа нравоучения и проч., и проч. Более всего скажи себе, что тут между тобою и мною общего? Мне смешно и несносно долго толковать от этом. Ты с первого раза на этот счет объяснился и хорошо сделал, потому что повиновался первому побуждению. Ты в пикет не играешь: жаль! Я – охотник. В дружбе чем более частных связей, тем дружнее идет целый состав. Но ты думаешь, что карты – адское изобретение; что игра может занести меня далеко, и ты на это руки не подаешь. Прекрасно! За что же ссориться? Неужели эттого, что одна скобка не утвердилась, всем скобкам должно разлететься? Я того не вижу, и шуточный мой язык был толмачом моего сердца.
Государь не сегодня, а завтра будет; ночует в Пулавах. Здесь Каподистриа, Северин, Фредро, Меньшиков и, кажется, Чернышев. Пронесся было слух о смерти папы:
Апраксин. Правда ли, что папа умер?
– Говорят, так.
Апраксин. Кого назначат на его место?
– Неизвестно!
Апраксин. Верно, военного.
Сделай милость, пришли циркуляр губернаторам и все тому подобное. В. С. Новосильцов опять писал Николаю Николаевичу о губернаторском месте, уверяя, что Приест неминуемо будет проситься прочь: Николай Николаевич, который уже раз за него обжегся, неохотно попытается в другой; замолви стороною Кочубею или через племянника его, которого я видал у Карамзиных: Николай Николаевич будет тебе благодарен. Я ему сказал, что поручу тебе это дело партикулярно.
17-го августа.
Это письмо лежит у меня с отъезда эстафеты, которую, Бог весть как, прозевал. Государь приехал 15-го вечером; ничего еще не делается.
В Париже открыт заговор против королевской фамилии. Правительство уже с некоторого времени о нем знало и хотело ему дать созреть, чтобы нанести удар решительнейший и полнейший. Парижские войска в нем участвовали, даже частью и королевская гвардия. Ночью захватили 32 заговорщика, которые пришли в казармы и хотели вести полки овладеть замком Vincennes, а оттуда – Тюллерийским, все перерезать и провозгласить сына Наполеона, а Евгения Богарне правителем. Впрочем, по отъезде курьера, который прилетел сюда в восьмой день, в Париже все было покойно.
Каждый приезд государя наносит мне флюс, и я нынешнюю ночь страдал, как мученик. Вырванный зуб и пиявицы облегчили меня немного. прости, более сказать нечего, некогда и нет сил.
Скажи Гречу, что надеюсь доставлять ему журнал предстоящего сейма. Сколько мог бы он мне отделять листов на то в каждой своей книжке? Отвечай на это скорее.
292. Тургенев князю Вяземскому.
18-го августа. [Петербург].
Письмо твое от 6-го августа получил и другое, перелюстровав, к Жуковскому отправил. Доставлю мои замечания на прелестные «Воспоминания», но вперед прошу присылать ко мне, а не к нему, ибо кто старое помянет, тому глаз вон. Пиши вспоминания, но не помни то, что убивает поэзию души, следовательно и жизни.
Я получил от одного из моих чиновников известие с Кавказа о Пушкине. Он там с Раевским. Дело Скибицкого ко мне не поступало. Уведомь, где оно? Писать совершенно некогда. Помешал Закревский. Тургенев.
Булгаков уезжает в пятницу.
293. Князь Вяземский Тургеневу.
20-го августа. [Варшава].
То ли дело, как дурь с себя откинешь! И письмо, как письмо, и ты, как ты, и я, как я: говорю о одиннадцатом августа. Ничего. нового, кроме того, что еще один зуб я себе вырвал, а великий князь еще воевал какие-то белые шляпы краковских студентов: при себе велел их окроить и выслал за город. И это в присутствии царя, и это перед открытием сейма! Вчера должен был быть смотр войск, но дождь заставил отложить до завтра.
Я послал к тебе с курьером письмо из Царьграда при своем и благодарю за доставление другого. Мало по малу свита съехалась. Чернышев постарел, похудел и пожелтел чрезвычайно. Ожидаем с нетерпением встречи его с женою, которая здесь и намерена показываться. Я еще ничего не знаю о его подвигах и о возмущении казаков.
Нельзя ли как-нибудь взять список с записок Храповицкого или купить? Я охотно заплатил бы за них.
Едва ли не придется воротиться на старое: будущее как-то туго становится. Над нами носится какой-то дипломатический пар. Обстоятельства европейские важны, прямодушие дельцов несомненно, но сильны ли головы их? Ясны ли их взоры? Нет ли чего-то тут облачного? Изо всех концов мира съезжаются курьеры, канцелярия день и ночь работает. Что из всего этого будет? Конечно, насильственные меры народов нехороши, но что же делать, когда правительства кривят душою и путаются. Я говорю этим господам: «Ведь не бесовское же навождение ставит вверх дном Европу.» Смятение – людское: не ищите причин ему в мире метафизики заоблачной, а здесь, на земле. Человек мечется. Вы говорите: «Он испорчен», и начнете читать ему проповеди. Нет, он болен; он требует помощи. Пища, которую вы ему даете, нездорова; ноши, которые вы ему на плечи кладете, несносны и прочее, и прочее. Истребите причины неудовольствия его в самом корне, очистите душную атмосферу, которая тягчит больного, и тогда скажите больному: «Смирись!» Что вы сделали с падения Наполеона? Перекрошили Европу в угоду каких-то исторических преданий, отложивши все наличные требования до другого времени. Вот вам и пришлось за пожданье. Наполеон приучил людей к исполинским явлениям, к решительным и всеразрешающим последствиям. «Все или ничего» – вот девиз настоящего. Умеренность – не нашего поля ягода. А правители, между тем, справиться не могут с надлежащими орудиями, которых величина не по их силам. Оттого то они и стараются здесь подрезать, там поутончить, а Алкиды между тем бесятся, и того и смотри, что взбесятся, и Бог знает, чем это кончится. Войной? Какой войной? Кто против кого? Все общепринятые речения манифестов уже изверились. И сам Шишков не придумал бы теперь, как устроить предисловие войне против французов или гишпанцев, или итальянцев. Одно нам предстоит: запереть накрепко все европейские сообщения, поставить некоторые столбы, за которые запретить Европе перешагнуть под страхом нового северного наводнения, и засесть дома, но не с пустыми руками, а за работу. Иначе мы никогда ничего не сделаем. Станем все стеречь чужие дома; при первом крике метаться то в ту, то в другую сторону, а свой дом останется век недостроенным и развалится непокрытый. Что нам за слава быть страшилищем Европы и у всех сидеть, как муха на посу? Конечно, силачу всего легче протянуть кулак свой над головами; но что от того ему пользы, когда никто его не забижает! Нелепое хвастовство, неосновательное подражание! Наполеон держал свой кулак, но при случае и опускал его, куда следовало; но и ему эта жизнь вчуже не была впрок. Пришлось дела делать дома – все пошло к чорту. Его народ знал по газетам; он его знал на поле битвы. Столкнулись они дома – друг друга не поняли. Он торчит на скале, тот лежит под брюхом Бурбона, а мы за них должны отдуваться.
У нас здесь троица певиц: Campi, урожденная полька, в большой милости у здешнего патриотизма, но, впрочем, и с дарованием, хотя старым; Сесси, которую еще не слыхали, и её величество Каталани, которую еще не видал.
Обещают нам Потоцких. Государь обласкал их на дороге до крайности. Витт здесь, в Александровской; также и Чернышев.
С княгинею Łowicz государь по-братски: с самого приезда они каждый день обедают втроем – то у него, то у них. Впрочем, все так тихо, что прослышишь полет мухи, и царя как бы не было, кроме для нас, потому что он несколько раз в день мимо нас ездит; но еще ни разу не видал. Я себе, кажется, на время сейма работу пригрел: русский журнал о прениях палат. Подавал о том предложение, Ник[олаем] Ник[олаевичем] одобренное; но не будут ли перечить в исполнении? Мне здесь суше, чем когда-нибудь, то-есть, душевно. Жизни нет нигде: все это формы жизни.
21-го.
Не знаю, как делаю, а вечно прогуливаю эстафет. Скажи Карамзиным, что мы живы. Сбирался, было, писать к ним, но некогда.
Еще слово: граф Аракчеев приехал сегодня в ночь, и погода из красной сделалась пасмурной. Отошли письмо к Карамзиным. Прощай! Более сказать нечего.
294. Князь Вяземский Тургеневу.
[Конец августа. Варшава].
Спасибо за строки 18-го августа. Погода пасмурная и дождливая. Вчера было затмение светлое на земле.
Кто и говорил тебе, что дело Скибицкого у тебя? Дело в том, чтобы узнать, не поступило ли оно куда-нибудь, и в таком случае – за что и за кого приняться. Вероятно, если от тех будет просьба, то в Сенат или Министерство юстиции.
Приближается день великий открытия сейма, а в Александров день будет бал у Заиончека в новых покоях, убранных с роскошью, удивившею Париж, который ходил смотреть мёбли, обои и украшения. Французские листы говорили о том: всего около на тридцать тысяч червонных. Левые морщатся на эти издержки и, может быть, заговорят на сейме. По крайней мере заказать было бы в Петербурге. Но здесь этого не понимают и говорят, начиная с княгини Заиончековой: «Не все ли равно для нас, если деньгам не оставаться в Варшаве, что в Париж, что в Петербург им пойти». Все еще как-то народное братство не клеится: разве родство запечатлеется кровью на поле битвы, общею системою свободы политической или общею невзгодою, а иначе Ник[олай] Ник[олаевич] и великий князь худые крестные отцы и сваты. Связь их с нами – оковы железные для них: мы не имеем иного союза.
Из Парижа после того ничего не слышно; в Лондоне продолжается постыдный суд. Свидетели уже доносили, как любовника видели, выходящего из спальной королевы в рубашке и с подушкою под мышкою. По последнему известию, не знаю в какое-то число, когда королева пришла в залу судилища и начали перекличку свидетелей-обвинителей, она, при имени одного, вскричала: «И ты тоже против меня», вскочила со стула и убежала, в большому удивлению и неудовольствию приверженцев своих. В «Монитере» есть уже повеление короля, определяющее сознание перов и предание суду лиц, задержанных по заговору.
Что ты мне не говоришь о размолвке Плещеева с Тюфякиным? Правда ли, что он опять ссорился с St.-Félix? С курьером, отправленным в Неаполь, писал я к Пипиньке-Пепе. Он, говорят, скучает и глупою работою замучен. Вот газетный вызов: где русские начальники, умеющие ценить своих подчиненных? Право, без хвастовства сказать, мы все, сколько нас ни есть, – бисер в ногах свиней. Когда все поставится у нас вверх дном? Стихии все, как надобно быть, но разбери только: вода под грязью, огонь в гнилушке. Скажи, владыко, великое слово: «Да будет свет», и будет.
Дождь, сырость так с неба и падает, а вся кавалерия мочится на учении. Разумеется, и государь тут. Вот что они называют царствовать. Глупость пуще неволи. Кто сказывал Гречу, что и обещал украшать их журнал своими превосходными стихотворениями. Сказал ли ты ему мое поручение? Писать более некогда. Аминь! Целую от души.







