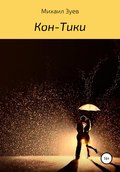Михаил Зуев
Белладонна
– Ты чего, Вить? – ласково тронул его за плечо Драбкин. – Устал? Ложись, давай.
– Не устал… – глухо, отсутствующе простонал Лось. – Заёбся. Нет меня. Это не я.
– Ну, как же не ты? – обращаясь, словно к маленькому, сел рядом Драбкин, обнимая Лося за плечи. – Ты́ это. Чего несёшь всякое?
– Не я, не я! – сдавленно воскликнул Лось и залпом опрокинул в себя половину стакана Гаврилиного яда. – Не я! Санька, понимаешь, я эту не люблю. Заебала уже – заботой, банками этими-закрутками, разговорами тупыми! Не знаю, куда мне из дому деваться! Иногда сижу, слушаю, так одна мечта – вот чтоб замолкла, чёртова кукла, и в тишине посидеть, просто так, вот посидеть, без разговоров, и чтобы её не видеть…
– Вить, ты опять за своё…
– Сань, я… я что могу поделать? Наталья перед глазами… Я не знаю… Сань, брат, давай выпьем!..
– Давай, Витюша, давай, по последней, и на боковую…
– А ларчик просто открывался, – безжалостно хлестанул Джинн. Ну да, потусторонний. Вот ты и прав. Возьми с полки пирожок… Только кому легче от такой правды?
Утром следующего дня искупались в речке за бараком. Поели, – кто смог. Похмелились все. Приехал совхозный бригадир. Добрели до луга. Отбили косы. Помахали часа два. Ничего себе не отрезали. Трезвый Мамед обращался с косой ловчее всех. Опять тяжело пили. Говорили зачем-то и о чём-то. Спали без сновидений. Утром проснулись. Приехал шофер на «зилке». Загрузились. Спирт – чуток, что остался, да съестное – подарили Гавриле. Тот расплакался, совал нам живых курей. Куры кудахтали и срали вокруг себя веером.
Как доехали до больницы, Драбкин на прощание пожал каждому руку.
– Мужики! Раскидайте там между собой, как хотите, и по одному каждый день ко мне, после семнадцати часов. Проверим все ваши дупла, кариесы, поставим пломбы, сделаем профессиональную чистку.
Кто б дупла да кариесы в моей душе починил.
Глава 5
Было около полудня. Я только-только, не особо напрягшись, вышел из операционной, как меня сходу отловила Раиса из регистратуры.
– Михаил Владимирович, к вам пришли!
– Кто?
– Мужчина. Солидный.
– Что хочет?
– С вами переговорить.
– Давно пришёл?
– Да с полчаса уж. Я ему – мол, вы на операции, а он не уходит, говорит, подожду.
В непонятках, кто бы там мог быть, я спустился со второго этажа. В углу каморки регистратуры на маленьком стульчике ютился Колян-Никогайос. Я от неожиданности всплеснул руками.
– Коль, ну ты чего? Позвонил бы в отделение! А то я – ни сном ни духом, в операционной, а ты тут… Мне же неудобно!
– Да брос ти, Мишя, – обнял меня Никогайос, – ти чиловэк занятий, я подождаль нимнога, ничиво… – Колян замолк и как-то замялся.
– Чем могу, Коль?
– Тут такой дэл. Хачю пригласит в ристаран.
– Спасибо, Коль! Что, праздник какой?
– Ну… да… празнык, да…
– Какой?
– Ну… ниважна. Дэн раждэний пуст. Пригласит хачю! Тибя, всэ твой рибят тожэ. И… – он опять замялся, возможно, даже покраснел слегка, хотя под смуглой кожей румянец, если и был, то вряд ли был бы различим. – И Татиана пригласит!..
Неотразимый Лисёнок снёс джигиту крышу. Ну, да, уж кто-кто, а она-то – может. Я припомнил, сколько за ней страдальцев увивалось в институте и получило от ворот поворот. Таня выросла девушкой эффектной, строгой и своенравной.
– Женщина – пуля со смещённым центром: попадает в сердце, бьёт по карманам и выходит боком! – гыгыкнул избитой пошлостью Джинн. Мне стало обидно за Никогайоса. – Замолкни, бесполый! – не терпящим возражений тоном приказал я потустороннему.
– Хорошо, Коль. Когда?
– Зафтра вечор хачю.
– Слушай, посиди тут ещё пять минут, а? Я мигом!
Я забежал в ординаторскую, набрал номер терапии. Лисёнок оказалась недалеко от телефона.
– Таньк, нас Никогайос хочет завтра в ресторан пригласить!
– Нас – это кого?
– Нас – это всех.
– Вообще всех?
– Ага! Так и сказал. Но тебя в особенности.
– А что за праздник такой?
– Говорит – день рождения. Кукует у меня на стульчике в предбаннике. Ждёт твоего решения.
– Что, правда? На стульчике? Не врёшь?
– Тань, зуб даю! Ну?..
– Что «ну»?
– Ты идёшь? А то он сидит, сопит, мается.
– Ой, ну какие же вы все дураки! – озорно засмеялась Лисёнок. – Скажи ему, пусть слезает со своей жёрдочки. Иду!
Я вернулся в регистратуру.
– Коль, она придёт! И мы тоже!
Никогайос распрямил плечи, сбрасывая видимую невооружённым взглядом гору.
– Спасыба, Мишя!
– Тебе спасибо! Где завтра?
– В «горка», в шест, в сэм, как придьёте…
– Давай, Колян, давай, именинник!
День назавтра оказался ненапряжным, а потому коротким. Часа в четыре я подходил к общаге. Лёшка с Юркой уже были дома, и не одни.
* * *
Десять дней назад в соседнюю пятьдесят первую заселили двух улыбчивых дородных девиц, пищевых технологов, приехавших из какого-то дальнего техникума проходить практику на молокозаводе. Джинни, увидев их, только присвистнул:
– А ещё скажу вам, разлюбезная Катерина Матвеевна, что являетесь вы мне, будто чистая лебедь, будто плывёте себе…34 – но был мной бесцеремонно оборван.
Как раз в тот памятный вечер, когда они впервые появились в общаге, голодный Лёшка шёл из кухни по коридору в пятьдесят вторую с бадьей свежесваренных парящих пельменей. Дверь пятьдесят первой была трагически распахнута. За открытой взывающей о помощи дверью две девицы безуспешно пытались приладить к кровати безнадёжно отвалившееся изголовье.
Лёшка, ни слова не говоря, вошёл. Поставил на стол бадью. Вышел обратно, открыл дверь пятьдесят второй. Махнул Юрке. Опять же, в полной тишине, вдвоём они в пять минут пришпандорили изголовье к кровати – так, что теперь никакая сила при всём желании не смогла бы его оторвать. Для демонстрации надёжности Лёшка улегся на сетку починенного спального агрегата и несколько раз подпрыгнул, ухая по гудящей кровати стопятикилограммовой мускулистой красотой. Встал; взяв бадью со стола, сказал слегка оторопевшим девчонкам:
– К нам пошли. Пельмени есть будем.
– А-га-а… – протянули те на два голоса. Та, что пониже и потоньше, залезла в тумбочку, достала банку вынесенной с молокозавода сметаны. – Будем-будем!
Лёшке с Юркой надоело украдкой окучивать больничных медсестёр. Страсть как хотелось домашнего уюта. И уют пришёл: сам. Романы развивались стремительно.
– Са-а-лавей мой, са-а-лавей, с толсты-ым сись-кам са-а-а-а-ла-а-вей! – тихонько мурлыкал под нос Лёшка, едва завидя Василису. Та же, всецело поддавшись коварному внезапно взросшему средь общажной аскезы чувству, каждый вечер, запыхавшись и немного вспотев, спешила домой. Пухлую руку оттягивала сумочка, полнящаяся то сливками, то сметаной, а то – и недозрелым сыром.
– Хорошо тому живётся, кто с молочницей живёт, молочко он попивает и молочницу… – исходил во мне похабщиной Джинни. Не иначе, завидовал.
Юрастый, на свою беду, оказался деликатным. Он не мог вот так, просто: пельмени – сметана – «ты Рембрандта читала? – в койку!35». Ему надо было поговорить. А с разговорами у Василисиной подруги Эльвиры наблюдались проблемы. Слушать-то она могла что угодно и сколько угодно, а вот ответная речь давалась ей с трудом. Юрка соловьём заливался, рассказывал истории, травил анекдоты. Сам шутил, сам смеялся. Аутичная Эльвира молча замирала, сверля упёртым взглядом одну-единственную точку на Юркином лбу, что совсем не располагало к продолжению банкета. Клубилось это скорбное безобразие в пятьдесят первой – пятьдесят вторая сразу оказалась на постоянной основе оккупирована Лёхусом с Василисой. Меня, понятное дело, в расчёт давно не брали – я сто лет уже как пасся в Конфетиных хоромах; на всякий же резервный случай напротив у Толяна в каморке была свободная койка.
– Рождённый пить ебать не может! – прошёлся по Юркиной беде Джинни. Он и тут не преминул обнажить скабрезную, гнилую, но справедливую сущность.
Видя, как Юрастый мается целибатом с окаменевшей сфинксом Эльвирой, я отловил его в коридоре:
– Слышь, научу, что делать!
– А сам-то откуда знаешь?
– Знаю.
– Ну, допустим. И чего?
– Подходишь к кровати.
– Ну…
– Садишься на пол.
– Зачем?
– Так надо! Снимаешь с неё туфли…
– И?..
– Щекочешь ступни, балда!
– И чего?
– Увидишь чего.
Через час Юрка жал мне руку:
– С меня стакан.
– Рад составить скромное счастье товарища, – поклонился я в ответ. Джинн скептически хмыкнул.
* * *
Сегодня все четверо были в сборе, и, как понятно, оккупировали пятьдесят вторую – она тупо больше. Лёха с Василисой сонно валялись на кровати. Лежбище, принявшее ответственность за двести кило живого веса, едва слышно поскрипывало. Юрка с Эльвирой за столом двигали фигуры по шахматной доске.
– Лошадью ходи! – подколол я Юрастого с подачи Джинна. Юрка пропустил совет мимо ушей. Эльвира издала звук, средний между смешком и мычанием.
Рядом с доской стояли две открытые бутылки венгерского вермута, красного и белого. Один взгляд – и вот, на́ тебе, сразу, без спроса, без предупреждения: карьер, бульдозер, смех… Рядом с ними, поглощёнными друг другом, моё одиночество ощущалось безграничным.
– Пить будешь?
– Не, Юр. Не буду. Ещё ресторан впереди.
Часов в шесть мы в полном составе двинулись по главной улице в сторону «Красной горки». Идти было порядком, километра три. Я брёл последним, уставившись в спину Маши, шедшей под руку с Леной Бабочкиной. Мысли мои были далеки от политеса. В голову, не переставая, лезла всякая гадость. Вот, например: подойти внезапно, сзади, как снег на голову: «Лен, погуляй немножко», внаглую отцепить растерянную Ленку от Машуни, и самому занять её место. Бараньим взглядом я пробуравил всю Машкину спину. Безрезультатно. Вот это сила воли! Знает, что за ней след в след прусь я, слюни вожжой, и ни одним движением – даже намёка не подаст, что знает!
Происходившие со мной перемены пугали. Пугали по-настоящему. Хрупкая, скупая на эмоции, бесцветная почти невзрачная девчонка, податливо ставшая женщиной в моих руках, занимала во мне всё больше и больше места, – ничего для этого не делая, со мной не общаясь и, видно, не особо и желая!
На дверях «Красной горки» висел рукописный листок:

Будто ждали: двери пивного ресторана широко отворились, внутри заиграла живая музыка. На улицу выскочил Никогайос, элегантный, в костюме-тройке, окружённый пятью или шестью приятелями.
– Добро пожа-а-а-а-ловать! – заорали их лужёные глотки, а руки тут же принялись раздавать нашим девчонкам свежесрезанные алые розы.
Свет по краям огромного зала был погашен. В центре, под яркими люстрами, – составлен длинный стол, персон на семьдесят, а, может, и больше. Мы сели; за столом уже было человек тридцать. Приглашённые всё прибывали и прибывали. Ансамбль играл чисто, не давя громкостью. Официанты носились без остановки, заваливая всё новыми и новыми яствами и без того ломящийся стол, с ловкостью цирковых жонглёров ликвидируя запустевающие бутылки и заменяя полными. Артур сидел напротив меня. Я привстал, наклонился, через стол протянул ему обе руки – он, улыбаясь всем лицом, подался вперёд, ответил на мое пожатие.
После нескольких тостов в честь присутствующих дам и отсутствующих родителей к микрофону вышел Колян.
– Дарагии маи, я прашу аркэстр сыграт этот пэсня для фсех маих дарагых лубымых гастей и хачю пригласит адну из гастей на танэц. Надеус, ана мнэ нэ откажэт!
И пошёл, высоко подняв голову, к Лисёнку. Танька, вместо того чтобы, потупив глазёнки, сидеть и ждать своей участи, – вскочила, чётким модельным шагом вышла навстречу, взяла Никогайоса за руку и увлекла в танец. Солист прокуренным надтреснутым голосом выводил:
Ов сирун сирун…
Инчу мотецар?
Сртис гахникэ,
Инчу имацар?
Ми анмех сиров,
Ес кез сиреци…
Байц ду анирав давачанецир36…
Мелодия была хороша, – так чиста, так искренна, – что я, против воли, заслушался. Кто-то невесомо коснулся плеча. Я обернулся. За спиной стояла Маша. Молча кивнула в сторону двери, повернулась; не дожидаясь, постучала каблучками к выходу. На ходу доставая из кармана сигареты, ускоряя шаг, я поспешил следом.
На улице опускались кисельные бесцветные сумерки. Мы переглянулись, и не сговариваясь двинулись к спрятавшейся в зарослях кустарника лавочке. Я сел. Маша осталась стоять. Размял сигарету, чиркнул спичкой, поджёг, растягивая сыроватый табак. Маша лёгким точным движением выхватила из моего рта сигарету, бросила оземь и растоптала. Я как был, так и остался – сидеть с приоткрытым, как у имбецила, ртом.
– Ну что, Дёмин… – мой рот открылся ещё шире. Маша ни разу за четыре года не назвала меня по фамилии. – Настало время охуительных историй!
Мне было впору сверзнуться со скамейки. Маша никогда в жизни не произнесла при мне ни одного грубого слова, не то чтоб – матерного! Нет, конечно, я догадывался, что принцессы тоже какают, но чтобы вот так… Проделки алкоголя? – даже думать глупо. На всех наших пьянках Маша всегда сидела, весь вечер смакуя полбокала сухого. За это ей дали прозвище, впрочем, совсем не обидное – «Маша-неналиваша».
Она насмешливо, с превосходством, смотрела на меня.
– А теперь – поговорим. Говорить буду я, ты будешь слушать. Сейчас восемьдесят второй. Тебе двадцать, мне двадцать один. Через сорок лет, в две тысячи двадцать втором, нам будет… – ну, сам подсчитаешь, ума хватит. Согласен? – Я кивнул. Меня забрало, как кролика перед удавом. – Для чего человеку дана голова? Чтобы ду-у-у-мать… – она легонько постучала пальцем по моему пошедшему испариной лбу. – Дорогой товарищ Леонид Ильич доживает последние деньки. Его свезут на лафете к кремлёвской стене, в стране начнётся чехарда. И уже через лет десять – все, и мы с тобой не исключение, будут жить в другой стране.
– Чего ты пизди́шь? – хрипло выдавил я пересохшей глоткой.
– Не пиздю́, или, как там правильнее, – ах, да, не пизжу́. Просто располагаю информацией. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Знаешь, кто сказал?
Я отрицательно покачал головой.
– Натан Ротшильд. Так вот. Изменится всё. Общественный строй. Экономические отношения. Политика. Вообще всё.
– Допустим.
– Допустим – штаны спустим!.. – Нет, определённо, такой я её ещё никогда не видел… – …так вот, Миша… – Уже не Дёмин, уже лучше… – … каждому придётся решать за себя, куда он. В патриции или в плебеи. И не просто решать, а действовать…
Мои глаза были возле её ажурной талии. Маленькая аккуратная грудь, однажды узнавшая тепло моих ладоней, вздымалась под тонким шёлком красной блузки. В голове застучало. Нестерпимо захотелось её – грубо, прямо здесь, прямо сейчас. Так сильно захотелось, что я засунул руку в карман брюк и, что было силы, ущипнул себя за ногу. Я понимал: физически я могу сделать это в следующий момент. Откуда-то был уверен: она не станет сопротивляться. Но ещё глубже во мне сидело неизвестно откуда возникшее знание: стоп! Стоп, иначе ты всё испортишь. Это – стрелка, здесь – направо или налево. Третьего не дано. И я остался недвижим.
– … не просто решать, а действовать. Пора выбирать попутчиков – навсегда. Я выбрала тебя. В мужья. Отцом детям. Главой семьи. Ты – голова, я – шея. – Я вскочил, как тогда, в комнате. – Сядь… – Я сел. – Хей, Джонни, ты сел! – тявкнул Джинн.
– Вместе, Миша, я и ты, мы порвём этот мир. Мы дадим ему такого пинка, что сначала он полетит кубарем, а потом будет молиться на нас! У тебя и у меня, у нас будет всё. И даже больше.
– Но я…
– Ах, ты об этом? О твоих бабах?
Я промолчал.
– «Войну и мир» читал?
– Нет. Длинно и занудно.
– Согласна. Кто написал, знаешь?
– Ты меня совсем за идиота…
– Это я так, издеваюсь немного. Прости, пожалуйста. Как жену его звали, помнишь?
– Софья Андреевна.
– Молодец. Так вот, думаешь, Софья Андреевна не была в курсе, как глыба и матёрый человечище с девками в бане кувыркается? Совсем была овца?!
Я молчал.
– Семья, Миш, это не вздохи под луной. Не скрип лежанки и не страсти-мордасти. Семья – это машина. Заезд на дальнюю дистанцию. Танк! Это один за всех и все за одного. Это клан. Это статус. Это деньги. Это дети и внуки. Вот что такое семья.
– Согласен, Маш. Но я не Лев Толстой.
– Так и я – не Софья Андреевна. И вот что я знаю: ты не будешь куролесить по баням с девками.
– Почему ты так решила?
– Потому что знаю. Вижу. Не слепая. Потому что тебе будет некогда и незачем. Ты определённо умнее писучего графа. Тот думал не головой, а головкой. А твоя дурь скоро пройдёт. Я подожду. Дождусь тебя.
* * *
Шумной весёлой гурьбой возвращались мы в общагу. Никогайос бережно вёл под руку Таню. Артур, Маша и я неторопливо шли рядом. Автомобили Коляна и Артура с черепашьей скоростью следовали за нами в отдалении.
– Артур, – попросил я, – давай поедем, а? Натрёшь ведь.
– Ничего, пройдемся. Хорошо сегодня, спокойно. Ты не представил спутницу. Я – Артур.
– А я – Маша, – сказала Маша, беря меня за руку. – Сегодня, и правда, спокойно и хорошо.
– Это вы про день рождения?
– Не только. У меня тоже особый день.
– Какой?
Маша посмотрела сначала на Артура, потом на меня.
– Я сегодня примерила на себя его фамилию.
– Вот как! – рассмеялся Артур. – Понравилось?
– Я осталась довольна.
– А он?
– Не возражал! – ответила за меня Маша.
Расходиться не хотелось. Кагалом набились в пятьдесят вторую. Танцевать было уже негде, стол с магнитофоном вытащили в коридор. Коляну принесли из багажника волшебный коньяк. Лёшка с Артуром, как и в первый раз, опять сидели обнявшись. Только теперь рядом была внимательно слушавшая их беседу Василиса. Гремела музыка. Народ пошёл танцевать.
С лестничной площадки в коридор на четвереньках вполз Толяныч. Лицо разбито, из носа – две тонкие струйки крови. Бедняга полз, оставляя по полу дорожку из багровых густых застывающих капель. Я оказался первым, кто это увидел:
– Тань, Вер, уложите, затампонируйте, чем есть! Лен, Маш, бегом вниз, скорую вызывайте!
Артур подскочил к лежащему на полу Толюне.
– Кто?!
Тот махнул рукой – куда-то туда, вниз, на улицу. Мы сорвались и побежали. Лёха, подхватив Артура на спину, бросился догонять нас позади.
Недалеко от входа на корточках сидела какая-то урла, человек десять, может, двенадцать. Разговаривать было не с кем и не о чем. Пришлось месить. Краем глаза я заметил, как из стоявших неподалеку машин Артура и Коляна нам на подмогу выскочили ещё двое – те, кто были за рулем. В следующий момент я отхватил прямой в челюсть и сходу – колом плашмя по спине. Качнуло, во рту кровануло, но боли не почувствовал – взлетела адреналиновая анестезия. Сознание накрылось серой пеленой. Во мне не осталось ничего кроме нанесённых и пропущенных ударов.
У Артура не было ноги, но была клюка. Она ломала носы и выбрасывала изо ртов зубы. Лёшка молча «обходил» всех, гася с ноги. Юрка помогал. Впрочем, наши усилия были уже лишними: бойцы Артура подошли к делу профессионально. Те, кто был способен приподняться на четыре кости, расползались. Остальные лежали.
Спохватившись, Артур запрыгал страшной одноногой цаплей – до машины. Завёлся, подъехал. Открыл дверь, ухватил одного из лежащих за шиворот, дал газу на первой. Уродец, завывая от боли, поволочился за машиной. Артур тормознул.
– Твои?! – орал Артур. – Твои, с-с-сука?!
– А-а-а!.. – хрипя, выло тело.
– Совсем страх потеряли, сосунки! Мальчишке, музыканту, лицо разбили! Ты на кого наехал?! Я наеду, вы костей не соберёте, твари! Я щас газану! – орал Артур. – Газану, бля, проеду по тебе, падла! – Артур рывком бросил скота, тот глухо стукнулся башкой об асфальт. Ноги его были затянуты под машину.
– Не надо, Артур! – истошно заорал я. – Сядем из-за уёбка! – и без промедления кинулся вытаскивать воющую тварь из-под «москвича».
Артур опомнился. Повисла тишина. Улочку осветили сполохи мигалки – подъехала «скорая».
– Туда, на четвёртый! – махнул я рукой старому фельдшеру, не раз уже привозившему мне рожениц. Этому мусору, – я махнул в сторону побитой шпаны, – помощь не требуется.
– Понял, – оценив ситуацию, фельдшер подхватил чемодан и бодрым шагом направился к входу.
На крыльце, под лампой дневного света, стояла Машуня.
– Сюда иди.
Внимательно осмотрела лицо, руки.
– Больно?
– Нет.
– Ты был прекрасен.
– Да?
– Да. Я в тебе не ошиблась. Спокойной ночи, Лев Толстой.
Тыльной стороной прохладной ладони, живой Жи́вой коснулась горячей потной побитой щеки. Повернулась и ушла мимо пустого вахтёрского пенала на лестницу.
* * *
Должен был дежурить Берзин, но его всё ещё не было. Уже минут пятнадцать.
– Не звонил? – спросила Громилина. Я лишь пожал плечами. Ничего о причинах отсутствия доктора Берзина мне известно не было. Мария Дементьевна, ожидавшая появления Аристарха Андреевича и следующего за этим окончания дневной смены, тихо вздохнула и зачем-то полезла в сто раз виденные сегодня истории болезни.
Дверь ординаторской распахнулась. Влетела раскрасневшаяся Талова.
– Здравствуйте, Мария Дементьевна! Привет, Мишутка! – после того, как я стал в коллективе своим, она называла меня Мишуткой. – Мы поменялись. Я сегодня в ночь. Простите, ради бога, за опоздание.
Громилина упёрлась в Наталу-Талу взглядом поверх приспущенной роговой очёчной оправы:
– Скажете тоже, Наталья Васильевна! За что прощать? Ну, опоздали на пересдачу, с кем не бывает, – и уже тише, после паузы, – свои люди, сочтемся.
Не успели мы с Таловой допить чай со свежим мёдом, как одна из патоложных «девулечек», с раннего утра собиравшаяся, решила, наконец, безотлагательно приступить к процессу. Поскольку лежала она давно, знали мы её досконально, как облупленную, – то парой часов спустя дело было сделано. Новоиспеченная мамочка расслаблялась в послеродовой, а получивший первую оценку в жизни – девятку по Апгару – малыш мирно посапывал в «молодёжке».
– Какой богатырь! – довольно щурилась Натала-Тала. – Четыре кило с хвостиком. А мамаша, сама-то – маленькая как мышка. Но вёрткая. Умудрилась не порваться!
– Наталья Васильевна, а вообще, есть корреляция между размерами матери и весом плода?
– Дело тёмное, Мишутка, – Натала-Тала призадумалась. – Здесь у нас налицо макросомия37, ты отрицать не будешь? – Я помотал головой. – Но вот что странно: у мамаши никаких нарушений метаболизма нет. И не было. Сахара́ на месте всю беременность. А родила слонёнка. И лежала у нас исключительно по формальному признаку: высота стояния дна матки выше стандартного на три сантиметра.
– Так вроде же четыре критично? – спросил я.
– А как ты нормально померишь-то без ультразвука? – грустно усмехнулась она. – Я вот возьму, четыре намеряю, а ты тут же подойдешь с пальпацией – у тебя три получится. Или пять. Короче, видишь торчащее дно матки – ставь диагноз, не ошибёшься. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Будешь? – она протянула мне открытую пачку «Мо» с ментолом. Я мотнул головой и полез в стол за берзинскими «любительскими». – А так, если вообще, всё просто. Видишь у плода макросомию, ищи у мамаши гестационный диабет38. Почти с гарантией найдёшь, он даже прятаться не будет. – Натала-Тала рассмеялась.
Я исподволь любовался ей. Не было во мне больше похотливых мыслей. Не раздевал я её, не лапал, не вертел в разных позах, не мечтал похабно. Всё просто: я прозрел. Она перестала быть для меня самкой. Она стала женщиной. Оказалось, женской красотой можно любоваться, не рискуя схватить неконтролируемую спонтанную эрекцию. И от созерцания живой женщины может захватывать дух как от «Рождения Венеры» Сандро Боттичелли. Ей тридцать. Может, тридцать два. А когда будет шестьдесят? Что будет с ней?
– Ничего не будет, – ответил Джинни, – краса не блёкнет.
В ординаторскую, громыхнув дверью, влетела акушерка из приёмного. Растрёпанная, бледная. Губы её подрагивали.
– Там… там… Наталья Васильевна… Только что… Там…
– Ну, говори! – вскинулась на неё Талова.
– От… отслойку привезли!
Я вскочил – стул отлетел, с грохотом опрокинулся. Вернусь – подниму. В несколько прыжков мы с Наталой-Талой оказались в приёмном. Молодая. Сознание спутанное. Черты лица заострившиеся, кожа восковая, губы синие. Живот торчит, недели на тридцать две – тридцать три. Между ног – пелёнка, промокшая свежей кровью. Хоть отжимай.
Тала повернулась ко мне: – Иди, мойся. Потом к акушерке: – Берзина вызывай. Быстро.
И следом за мной кинулась на лестницу. Мы бежали наверх, а за стеной гудел лифт, поднимавший в оперблок роженицу. Я стал мыться, в висках стучало. В операционной звенел инструмент – анестезиологиня и операционная сестра начали работу.
Брюшную стенку прошли быстро. Кровило мало. Это плохо. Значит, нет давления. И кровить, похоже, нечем. Такой матки я не видел никогда. Даже на картинках. То была не матка, – пропитанный тёмной кровью мешок. Только Талова собралась рассекать стенку страшного мешка, дверь распахнулась, в операционную вбежал намытый Берзин.
– Миша, стой, где стоишь! Наташ, ты иди, разбирайся с клиникой. Кровь заказывай экстренно, пусть везут!
Мы достали малыша. Он был плох, но закричал. Даже не закричал, – натужно запищал. Талова вернулась.
– Говори!
– Двадцать восемь. Первые роды. Тридцать четыре недели. Весь срок без патологии. Два часа – нарастающая клиника массивной отслойки плаценты.
– Ой-ё-ёй… – в ужасе простонал Джинн.
– Да уж, видели, – усмехнулся Берзин. – Там имбибиция стенки.39 Мы с гарантией влетели в ДВС.40 Кровь где?
– Нет. И не привезут. Только одна ампула, и та тухлая. Завтра срок выходит.
– Какая группа?
– Первая, резус-отрицательная.
– Чёрт! Пусть доноров найдут, пусть сдают!..
– Сейчас полночь, Аристарх Андреевич, – у анестезиологини оказался приятный низкий голос, – раньше десяти утра ничего не получим. Пока утро, пока телефонограммы по предприятиям, пока люди дойдут, пока сдадут. Без крови мы, коллеги. Что вы решили?
– А что решать? – бессильно выдохнул Берзин. – Идём на экстирпацию41.
– Пойти можно, – медленно протянула анестезиологиня. – Дойти проблематично. Давления нет. Адреналин у меня почти струёй. На водичке и десяти минут не протянем. Ну что? Будем иногруппную кровь переливать? – и тихо добавила: – Хотя, без толку. Тут и своя группа, – если консервированная, – уже бесполезна.
– У меня!.. – рявкнул я. – Первая резус-отрицательная – у меня!
– Вот орёл! – зрачки Берзина над марлевой маской сверкнули надеждой. – Сифилис есть?
– С утра не было! А надо? – в том же тоне прикололся я.
– Гепатит?
– Только в учебнике.
– Наташа, мойся!
– Уже! – проорала Натала-Тала из предоперационной.
* * *
Я лежал на жёсткой каталке. Вспотевшему затылку холодно и больно. Надо мной стояли трое в масках – Берзин, Талова, анестезиологиня.
– Чистый, чистый лежу я в наплывах рассветных, перед самым рождением нового дня… Три сестры, три судьи, три жены милосердных открывают последний кредит для меня… – как безногий инвалид в электричке, заокуджавил Джинни. Это было очень забавно, и я рассмеялся.
– Вот что. Смотри, – упёрся в меня взглядом нависший сверху Берзин. – У бабы ситуация швах. Одной ногой уже там…
– У Харона? – нагло перебил я.
– Именно. Вторую ногу задрала, осталось наступить. Стандартными твоими законными тремястами пятьюдесятью кубиками цельной не обойдёмся. Считай, при такой кровопотере, – слону дробина. Нужно больше. Давай с тобой договоримся так. Если сможешь, – если не испугаешься, – очень быстро сто пятьдесят. Это восемь шприцов, не шутки. Будет плохо. Потом пауза, и до пятисот, медленно; это легче – но всё равно без восполнения. Совсем без восполнения. Только на твоём собственном объёме. Сам понимаешь, не шутки. Ну а после полулитра сразу начинаем тебя доливать. Одной глюкозой с физраствором, никаких заменителей, и никаких, боже упаси, декстранов42. Если будет нужно, вдобавок отдашь ещё сто пятьдесят, уже после доливания. Какие мысли?
– А никаких. Другого выхода нет, правильно?
– Нет, – подтвердила Натала-Тала.
– Тогда вперёд, вампиры, что время теряем… – глупо осклабился я. – Подключичку поставьте для скорости.
– Может, тебе сразу бедренные воткнуть с обеих сторон, гонщик?! – рассмеялся Берзин.
Оба локтевых сгиба были заняты иглами с трубками инфузионных систем. Не повернуться, не пошевелиться. В поле зрения остался лишь потолок. В левом дальнем углу, ближе к окну, расплылось неправильной формы грязное пятно. Крыша протекает. А у меня сейчас крыша, похоже, съедет. За пределами зрения звякали шприцами о столик и приглушённо разговаривали.
– Так, – ну, это анестезиологиня, – первые пять шприцов прогнали цитратную43, не тромбанула, слава богу.
– А теперь сколько? – спросил я после длиной паузы.
– Уже двести, – доложила анестезиологиня. – В ушах шумит?
– Со стакана в ушах не шумит! А должно?
– Ты юморун. Вообще-то, может.
– Не-е, не шумит. Только дышать странно – будто пощипывает. Не в трахее, а вообще, по коже под нижней челюстью, по шее вниз. По всей воротниковой зоне.
– Это нормально. Сейчас маску дам.
– Зачем?
– Для успокоения совести. Кислород. Будешь?
Я пожал плечами. На меня наделась маска, будто откуда-то свалился осьминог и сидел теперь на моей пылающей морде. Маска благоухала резиной и чем-то острым. В голове загудело, как от шампанского с коньяком.
– Шумит, – промычал я в маску.
– Потерпи, – попросила анестезиологиня, – скоро уберу.
– Голова… голова едет, – сказал я, освободившись от осьминога.
– Не бойся, ты лежишь, уже не упадёшь, – ласково ответила анестезиологиня и погладила меня по лбу. Её рука была горячая и приятная.
– Сколько?
– Четыреста. Мы теперь медленно.
– Знаю, – сказал я. – Она как?
– Она стабильна, – изрёк с небес ангел голосом Берзина. – Мы работаем.
– Давление восемьдесят на сорок, – прозвучала анестезиологиня. – И порозовела девулечка.
– Во, уже заебись!.. – тупо промычал я. – Можно я стихи вслух почитаю?
– Можно, – согласилась анестезиологиня, – даже нужно.
– Правда, я не Левитан. И не Лановой. Но вы поте́рпите. Я же терплю. Итак! Стих! Хороший!.. Жил-был я. Стоит ли об этом? Шторм бил в мол…44 – Я замолчал.
– Что? – спросила анестезиологиня.
– Забыл слова.
– Молод был и мил… – откуда-то сверху, со стороны, прозвенел колокольчиком родной голос Наталы-Талы.
– Точно. Спасибо, коллега! Молод был и мил. В порт плыл флот. С выигрышным билетом. Жил-был я. Помнится, что жил…
* * *
Талова пришла навестить меня утром. Села рядом.
– Чего с ней? – я расклеил веки, пытаясь оторвать голову от подушки.
– Жива. Глазами хлопает. Почти побороли ДВС.
– Наташ, а если у меня сифилис?! Меня чё, по сто пятьдесят пятой упекут?45
– Ой, ну какой же ты дурачок! – наклонилась, поцеловала в щёку. Несмотря на кровопотерю, целованная щека тут же зарделась. – Ты на брата моего похож!
– А у тебя есть брат? – Она замолчала и отвернулась. По щеке поползла слеза. Я видел слёзы Наталы-Талы второй раз. Первый случился, когда стоял со спущенными штанами перед Машей.
– Его больше нет.
– Почему?
– Его убили… – сдавленное рыдание перехватило ей горло, но она справилась. – Убили. В армии. В чужих горах. Год назад.