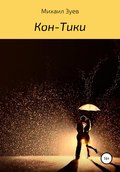Михаил Зуев
Белладонна
– Нет, баб Клава!
– Нет, баб Клава! – эхом зарефренил я вслед за Толяном.
– Ну, тогда чё… тогда проходи, давай…
Я пожал Толяну лапу.
– …давай, не задерживайся в проходе! – прокаркала окаянная бабка мне вслед.
– В заднем проходе! – тихохонько прыснул Джинни.
– Я акушер, а не проктолог! – гордо парировал я очередную неудачную потустороннюю шутку.
Лёшка с Юркой восседали за покосившимся столом. В качестве ортопедической коррекции нарушений столово́й осанки под одну ножку был заботливо подсунут деревянный брусок. На столе громоздились алюминиевый чайник с кипятком, – судя по виду, времён гражданской войны, – и пузатый, весь в намалёванных розочках, фарфоровый заварняк. Дразня слюнные железы, пахло цейлонским. Но не это поразило меня, – прямо посреди стола, на мокрой марлевой тряпке возлежала увесистая четверть головки свежайшего ноздреватого «российского» сыра. По соседству с сыром притулилась открытая пачка масла, а весь стол был усыпан крошевом от недавно порезанного толстыми ломтями ещё тёплого белого хлеба.
– Не, ну н-надо! – присвистнул я. – Не было ни гроша, да вдруг алтын! Откуда дровишки?
– За бабки, вестимо, – прошамкал с туго набитым ртом Лёшка; наконец, прожевав, членораздельно закончил, – Лось телефон директора центрального гастронома сосватал. Теперь проблем не будет.
– Ага, – насмешливо протянул Юрка, – проблем нет, когда деньги есть. А с деньгами у нас пока если не швах, то уже близко.
– Коро-о-ову заведем, молочко попивать бу-у-удем… – Котом Матроскиным промурлыкал Лёшка.
Я не сдержался:
– Лёх, да где тебе корову! Тебе бы с тёлками разобраться!
Лёшка взглянул на меня словно инженю из «Небесных ласточек»; потупив взор, отвернулся, прошептал обиженно:
– Про-о-о-ти-и-и-вный, фу-у-у, как тебе не стыдно…
Юрка, забулькав, чуть не навернулся со стула с куском сыра во рту.
– В лесу настал голодный год; ворона, ёбаная в рот, у хахаля кусочек сыра спизданула… – начал декламацию Джинни. Тут уже заржал я.
– Садись, наворачивай, дежурант! – Лёшка пинком подвинул ко мне стул. – А то ведь сожрём всё, пока ты клювом щёлкаешь!
Минуты две сосредоточенно ели-жевали молча.
– У вас сегодня чего? – спросил я.
– У Лося на шабад сутки. Сказал, поутряни нам делать нечего, а часам к одиннадцати – чтоб подошли. Так что мы скоро сваливаем до завтрашнего утра. – Юрка налил себе ещё заварки.
– Да-а-а, – расстроился я, – попали мы в противофазу.
– А у тебя как?
– Нормально. В ночном был, с Таловой. Это жена Берзина.
– Жена? – ухмыльнулся Юрастый.
– Ну да, жена, замзав роддомом. А Берзин – зав.
– Эт-та мы знаем, – гадкая ухмылка не покидала Юркиного лица. – Только она не жена.
– А кто? – не понял я.
– Пэ-пэ-жэ.
– Что?
– Пэ-пэ-жэ. Походная полевая жена.
– А тебе откуда известно?
– Да дырёнка-то крошечная, все про всех знают. Сдали вчера в отделении постовые девки…
– А что там за история? – спросил Лёшка.
– История как история, – ответил Юрка. – С географией. Берзин сам из Красноярска. У него там жена, дети. Отделение своё было, практика частная нехилая. Только вот хо́дя он знатный. Какую-то там высоко подвешенную дамочку на четыре кости поставил, а у той муж начальник был, видать. Муж ему рогами-то палок в колёса насовал. Кислород перекрыл. А Берзин нажрался, да не стерпел, рожу мужу поправил. Ну, его выпиздили отовсюду. Он сюда и приехал.
– А Талова тут причём? – стало доходить до меня.
– А Талова твоя у него ординатором была. Когда Берзина из Кырска выставили, его здешний главврач приютил, они в институте вместе учились, кирюхи. Он сюда сбежал, а Талова за ним следом. Декабристка. – Юрка замолк. Так вот оно в чём дело, – стала складываться у меня картинка.
– А дети у них есть? – спросил я.
– Какие дети… ты о чём!.. И так на ниточке всё подвешено.
Я молча пережевывал толстый бутерброд. Пэ-пэ-жэ, говоришь. Ни Лёшка, ни Юрка не знали: я родился у такой же декабристки, поехавшей из Ленинграда, от освещённого асфальтированного Невского и премьер в БДТ за своим непутёвым инженером Дёминым на край света, в казахскую промёрзлую степь. Там я и родился, с прочерком вместо папы в свидетельстве. Чтоб отдать меня в школу на отцовской фамилии, знакомый отца, нотариус, подделал копию свидетельства о рождении. И лишь когда мне стукнуло четырнадцать, отец развёлся с «бумажной» женой, женился на матери и официально меня… усыновил. Мне выдали новое свидетельство. Там отец уже присутствовал, но на второй странице разворота стоял жирный штамп «повторное», который понимающие люди замечали ещё до того, как собирались прочитать в свидетельстве мою фамилию.
– Тебе сигарет оставить? – заботливо поинтересовался Лёшка.
– Вам на дежурстве нужнее. Схожу, если что. Или, вон, Толяна сгоняю.
– Ладно, Михалыч, не скучай. Давай петушка…
Я закрыл за мужиками дверь, скинул штаны с майкой и с размаху плюхнулся в койку.
– А зиппер флай-флай-флай, герла мне «ай-ай-ай»!15 – долетел с лестницы удаляющийся мелодичный Лёшкин баритон.
Пэ-пэ-жэ. Натала-Тала – пэ-пэ-жэ. Женщина, за полногтя которой жизни не жалко – пэ-пэ-жэ?!
Глава 3
…Тала, опёршись о подоконник, стояла у открытого окна. Не в халате, почему-то в синем ситцевом платье. Я лежал, не смея пошевелиться. Повернулась. Какая ты ослепительная! Сделала три шага – раз, два, три – от окна к кровати, присела на краешек, обвила меня. Твёрдые коричневые соски обожгли мне кожу даже через ситец. В ноги вступила судорога.
– На-та-а-а-ла-а-а…
Прикоснулась губами к моим, я почему-то размежил веки: прямо в меня бьют бездонные прожектора. Но не зелёные, – чёрные.
– Проснулся? Просну-у-у-улса-а-а… – мелодично пропела Конфета, кончиком языка жаля мою шею. Меня ударил крупный озноб. Я снова закрыл глаза.
– Ты голову-то свою – отпусти. Она тебе сейчас без надобности, – по-дружески присоветовал Джинни.
– Я мигом, – прошептала Конфета. Щёлкнули два оборота дверного замка, зашелестели по линолеуму лёгкие девчоночьи ступни. Между её сосками и моей кожей не стало ситца. Не открывая глаз, я подхватил её, лёгкую, беззащитную перед моим натиском, податливую, и рывком перевернул на спину…
…По белому в мелких трещинках потолку паслись солнечные зайчики. Её острое шоколадное плечо утыкалось прямо в мои губы.
– Если бы ты была эскимо, я бы укусил.
– Да кусай, не жалко. Отравишься! – она резко оттолкнулась; села, прислонившись спиной к стене, острыми ножницами забросив стройные щиколотки мне на грудь.
– Конфета, как тебя зовут?
– Так же как и тебя.
– Э-э-э… это как?
– Микаэла. Тот, кто ляжет между нами, может загадывать желание. Обязательно сбудется!
– Так я и пустил тут кого-то! Сам буду загадывать! – с напускной строгостью огрызнулся я. – Конфета, а ты откуда такая?
– Какая?
– Шоколадная!
– Мать говорит, отец был из Занзибара…
– If you need a little rest, I advise you for the best, take a plane and be my guest, Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar, is not far…16 – красоткой Сандрой из «Арабесок» заголосил Джинни; мне исполнение определённо понравилось.
– …они с матерью вместе в Москве в «лумумбарии»17 учились.
– А потом что?
– А потом – шапито. Папаня растворился, мать со мной в животе обратно в Иваново. Так что вместо папы у меня одна фотка, материны сопливые воспоминания и прочерк.
– В свидетельстве?
– Какой догадливый…
Она соскочила с кровати.
– Бо-о-о-же, ну кака-а-ая фигура!.. – зацокал язычком Джинн. Я же был на нуле, и его восторги не произвели на меня впечатления. – Ибо всякий зверь после соития печален… – вздохнул он.
– Ты есть хочешь? – Конфета уже влезла в трусики и, вихляясь, натягивала через голову приталенный сарафан.
– Есть – нет. Жрать – да.
– Мужчина! Тогда пошли.
Конфета предусмотрительно отправила меня вниз по лестнице первым. Старая сколопендра так и сидела в своём спиртовом стакане. Интересно, хоть поссать-то она отходит?!
– Куда мы?
– Увидишь. Ну, вообще-то ко мне на работу. На одну из работ.
– А их несколько?
– Две. Я вожатой работаю в дневном пионерлагере. Это вместо педпрактики. А ещё в ресторане пою.
– Так мы что сейчас, к пионерам? Я без галстука.
– Нет. Сегодня суббота, лагерь закрыт, с детёнышами пусть родители разбираются.
– Значит, в ресторан?
– Ну!
Я залез в карман, – рубль, ещё рубль… пятьдесят копеек одной монетой, две пятнашки и одна трёхкопеечная.
– Это всё. У меня больше нет.
Конфета звонко рассмеялась.
– Ты серьёзно?
– Да, серьёзно.
– Мы же идём ко мне на работу!
– И что?
– Там коммунизм. Нам с тобой не понадобятся деньги.
Ресторан с табличкой «ресторан» на дубовых дверях раскинулся на первом этаже гостиницы на центральной площади. Ленин указывал на роддом, а вход в гастрономический рай открывался прямо напротив его монументальной задницы. У входа на мраморном полу лежал маленький деревянный помост, место для швейцара, – чтоб зимой лапки не мерзли, пока он грудью, словно амбразуру, защищает вожделённую дверь. Но это – в пору аншлагов, они по вечерам. А сейчас день.
В гулком предбаннике прописался гардероб с длинной столешницей и пустыми рядами вешалок. Напротив – полутёмный коридорчик, тайное назначение его раскрывали зеркальные литеры «М» и «Ж». Мы прошли в пустынный зал. Вдалеке, на сцене, в беспорядке навален обесточенный музыкальный аппарат – орган, ударная установка, усилители, колонки. В углу, как цапли, застыли микрофонные стойки. Посреди сцены одиноко торчал стул. На нём магнитофон, из маленьких колоночек пиликал «Чингис Хан».
– Москау, Москау, забросаем бомбами, будет вам олимпиада, уа-ха-ха-ха-ха! – оживился Джинни.
– Тёть Вер, а покорми нас!
– По меню будете или так? – полная приветливая официантка лет сорока улыбалась нам. Улыбка та светилась на её круглом добром лице совсем без принуждения.
– «Или так», тёть Вер.
– Ну, ребята, тогда это быстро! – скрываясь в недрах кухни, крикнула тёть-Вер.
– Ты работаешь сегодня? – прикоснулся я к Микаэлиной руке.
– Сегодня – нет, – сказала Конфета. – Сегодня у меня выходной от всех.
– Кроме меня?
– Ты – не все! – Конфета ласково дотронулась кончиками пальцев до моего предплечья. Мы сидели рядом за маленьким столиком в углу, недалеко от сцены.
Тёть Вер вышла с кухни с подносом. На нём уместились две глубокие тарелки с борщом, и ещё две такие же, с котлетами и гречневой кашей.
– Компот не остыл ещё, горячий будете?
– Не, – сказал я, – спасибо.
– Ну ладно, тогда минералочки принесу.
– Откуда вся эта роскошь? – спросил я Конфету.
– Это у нас повара каждый день домашнее для своих готовят.
– Зачем?
– А чтобы не есть всякую ресторанную дрянь. Желудок можно испортить.
– А как же без денег?
– Так вечером с нас спишут – с ансамбля. И с официантов. И с поваров. К одиннадцати вечера все деньги будут в кассе. Ни одна ревизия не подкопается.
Покончив с котлетами, мы, прилично отяжелев, выползли на площадь. Стойкий бетонный маршал революции всё так же буравил рукой горизонт.
– Вот думаю, ему не впадлу так стоять?
– Как? – Конфета прищурилась на ярком солнце.
– Да неподвижно, истуканом. Всегда на посту. Вон, Каменный Гость – и тот на прогулку однажды вышел…
– Так то – Каменный Гость! – рассмеялась моя Конфета, – у него была веская причина: донна Анна. Расшалилась, курица такая, с доном Хуаном… А этому-то зачем с пьедестала сходить? Слезть слезет, а обратно залезть-то и не сможет. Что делать тогда?
– Тогда ничего. Слушай… Микаэла… – я вновь с трепетом погрузился в чёрные дыры её зрачков.
– Что?
– Я… я тебя хочу.
– Зачем ты это сказал? Тебе нужно дополнительное разрешение?! – она привстала на цыпочки и укусила мочку моего левого уха. Я крепко-накрепко схватил её узкую ладошку и мы, невольно убыстряя шаг, понеслись в сторону общаги.
Нас разбудил Джинни:
– Но пронзительный мотив начинается, – вниманье, – спят, друг друга обхватив, молодые – как в нирване…
– Который час?.. – зевнул я.
– Почти… – через мою голову она потянулась к тумбочке за часиками; пульс её застучал в моём ухе, заставив моё сердце замереть между систолой и диастолой, задохнуться острой волной нежности, – … восемь. Ты выспался?
– Я выспался за всю предшествующую жизнь!
– Тогда – веселиться! Одевайся!
Теперь мы шли в другую сторону. Где-то через километр вечерний воздух задрожал ритмичными раскатистыми басами.
– Дискач в ПТУ каждую субботу и воскресенье, даже в каникулы. Летом во внутреннем дворе, зимой в спортзале.
– А кто крутит?
– Хорошие ребята. Пойдём, увидишь.
На входе стояли рослые парни из комсомольского оперотряда с красными повязками на рукавах. Завидев Конфету, заулыбались и расступились. Конфета чмокнула одного в щеку.
– Это Тёма, брат моей соседки по комнате.
Двор училища оказался забит народом под завязку. На сцене колдовали трое – два диджея на магнитофонах и пультах, плюс «технарь» на самопальной световой установке. Прокашлявшись, один из диск-жокеев – невысокий, широкий, в светлых джинсах и тельняшке, на которой что-то поблёскивало, – объявил:
– Наша следующая песня имеет давнюю историю. Написанная в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году солистом «Флитвуд Мэк» Питером Грином, она получила второе рождение благодаря прекрасному американцу с мексиканскими корнями – Карлосу Сантане… – зал, не дослушав, заорал… – итак, «Блэк мэджик вуман»18! Медляк! Дамы приглашают кавалеров!
– Кавалер! – крикнула мне в ухо Конфета, – ну-ка не отлынивать!
– Микки, – проорал я, – а что у него на тельняшке?
– Медаль «За отвагу»! Афганская!
Следом зарядили «Хауз оф зе райзинг сан»19 в версии «Санты Эсмеральды». И тут из Конфеты полез тот самый настоящий дикий Занзибар. Покачивая крутыми бёдрами, она летала по площадке, задевая толкущиеся пары и отрывающихся одиночек. Несколько раз её пытались схватить за руки смурного вида парни, – но я был неподалёку, и пресекал попытки, оттесняя от неё придурков не особо широкой, но вполне себе прямой спиной. К концу песни ко мне подгрёб один из них:
– Пойдём, выйдем.
Я прикинул – пятеро на одного. Неслабо. Убить не убьют, больно рожи дегенеративные, не умеют, поди, ничего, но проблем доставят. Тем более, если я махну как-то не так и кого-то из них не так уроню, добавятся проблемы другого рода – с ментами.
Конфета исчезла. Я повернулся влево-вправо – её нигде не было. Спустя несколько мгновений я увидел её – она пробиралась к нам через толпу, а за ней, в кильватере, поспешали двое оперотрядовцев. Но они не пригодились.
В зал решительно вошли трое и направились к сцене. Двоих я не знал, а третьим был Артур. Я оказался как раз на их пути. На автомате я протянул Артуру руку. Он недоумённо взглянул, узнал, остановился, молча пожал протянутую руку, – а потом железным хватом притянул к себе, коротко обнял, хлопнул по спине и пошёл на сцену. Там коротко обменялся парой фраз с диджеем-«афганцем». Тот что-то сказал товарищу, товарищ кивнул. «Афганец» вышел из-за пультов и вместе с Артуром и его спутниками покинул зал. Я обернулся в поисках жаждавших моей крови местных: безрезультатно. Они куда-то растворились – как и не было.
Тёмными аллеями, раз за разом замирая для долгих поцелуев, мы возвращались в общежитие.
– Ну, ты и выступил… – мурлыкнула Конфета. – Упасть и не встать.
– Ты о чём? – не понял я.
– Не знала, что ты с ним знаком.
– Ты про Артура?
– Да.
– Позавчера познакомились. Он к нам заходил, Толяна искал. – Про разгульное продолжение знакомства я из приличия решил умолчать.
– Теперь ты тут на особом положении, – прижалась ко мне Конфета. – Можешь хоть возле твоего любимого каменного истукана средь бела дня срать сесть. Никто не тронет.
– Почему?
– А потому что слухи распространяются быстрее звука. Завтра весь город знать будет, что ты неприкосновенный.
– Почему?
– Потому что Артур – из «серьёзных».
– Это кто такие?
– Да город они держат, Миш.
* * *
Утро началось в половине седьмого дробным топотом копыт диких мустангов.
– Что? – оторвал я голову от подушки.
Конфета фейерверочной шутихой носилась по комнате – одновременно красясь, прихлёбывая растворимый кофе, жуя рогалик, гладя платье, причёсываясь и одеваясь.
– Я убегаю!
– Куда?
– Съезжу к маме.
– В Иваново?
Тут же сотни две километров с лишним, это если на машине, а если по железке, так вариантов нет – только через Москву. Все триста с хвостиком, а то и четыреста набежит, прикинул я.
– Нет, ой… – она запнулась – …я же забыла тебе сказать! Мама сто лет как не живёт в Иваново. Она тут недалеко, на электричке чуть больше часа.
– Ну и дела… – протянул я.
– Мамочка восемь лет назад вышла замуж. У меня теперь два младших брата, близнецы.
– Понятно.
– Что тебе понятно? – Конфета, одетая, накрашенная, вкусно пахнущая кофе и рогаликом, плюхнулась на кровать, облокотившись на меня как на спинку кресла.
– Понятно, что я сегодня один. Ничей, – тихо вздохнул я. – Ты к вечеру вернёшься?
– Вечером я работаю. – Увидев мою гримасу, обняла за шею. – Ну, не плачь, не плачь! Я сразу же после работы, в полдвенадцатого, немедля – сюда. Ага? Ну… на крайняк, в двенадцать! Как штык! – вскочила, с высоты высоченных венгерских шпилек и длиннющих занзибарских ног согнулась пополам, поцеловала в губы.
– Будешь уходить, просто захлопни! И помаду мою сотри!
– Я её съем! – запальчиво крикнул я вслед. – А ночью съем и тебя!
Пощёчиной захлопнулась дверь, гильотиной щёлкнул замок. Вот и остались мы вдвоём: недопитая кружка и я, верно хранящие алый неповторимый аромат её губ.
* * *
Я вынес себя в коридор и понуро побрёл в пятьдесят вторую. Там гулко, пусто и грустно – мужики ещё не вернулись. Сел за стол, развернул высохшую марлю, скрывавшую скудные остатки некогда сырной четвертушки. Сыр слегка вспотел, но был ещё в кондиции. Съел кусок со вчерашним хлебом. Из горла́ запил тепловатой противной водой из чайника. Встал и вышел вон.
Я шёл, куда глаза глядят. Глаза глядели по сторонам, а вот ноги сами несли в роддом, хоть сегодня у меня был выходной. Повесив уличную одежду в шкафчик, переоделся в оперформу, поднялся на первый этаж – там было пусто. Со второго, из патоложки, слышались голоса. На них я и двинулся. В палате «девулечек» я увидел троих – Берзина, Машу и грузную пожилую женщину с волевым лицом, изборождённым глубокими морщинами. Пострижена она была словно мальчишка. Только мальчик вышел какой-то усталый, недобрый и совсем седой. Маша обернулась, улыбнувшись мне одними глазами. «Мальчик» заметила меня, уставилась в упор и властно спросила:
– Вы кто?
– Я… я Миша… Михаил Дёмин, на практике у вас.
– Миша – это в песочнице! – пророкотала «мальчик». – Зовут как?
– Михаил Владимирович, – немедленно исправился я.
– Уже лучше, – констатировала «мальчик». – Вы дежурите сегодня?
– Нет.
– Зачем пришли?
– Истории посмотреть и вот Ма… – я осёкся – … коллегу доктора Сапожникову спросить, как прошло дежурство.
Берзин наблюдал за бесплатным цирком со снисходительной улыбкой.
– Мария Дементьевна, вы меня отпускаете?
«Мальчик» сразу потеплела, её голос покинули стальные нотки.
– Шалун вы, Аристарх Андреевич! Вы же здесь заведующий, не я.
– Мария Дементьевна, – неотразимый Берзин подкатился к «мальчику», взял её под ручку, – для вас я просто уходящий домой дежурант и молодой, надеюсь… – он заговорщицки подмигнул – … молодой человек.
– Идите уж, Аристарх Андреевич! Жена-то заждалась, поди!
Берзин склонился, поцеловал руку Марии Дементьевны, улыбнулся нам с Машей и ретировался.
– Машунь, дай мне пять минут, в две истории заглянуть, и пойдём отсюда. Это кто?
– Громилина. Старейший доктор больницы. Я буду в раздевалке.
Я быстро влез в интересующие меня истории. Вернулся в палату.
– Хвостикова, выйдите, пожалуйста, в коридор. – Хвостикова подошла неуклюжей утиной походкой. – Вы питьевой режим нарушаете? – Та молчала. Потом помотала головой: нет. – Давайте ваш питьевой дневник!
Женщина протянула мне тощую свёрнутую трубочкой школьную тетрадку. Я открыл, пробежал писульку глазами, пристально посмотрел в лицо.
– Татьяна Филипповна! – она подняла взгляд. – Татьяна Филипповна! Я не могу жить у вас под кроватью и контролировать каждый ваш шаг. Если вы будете превышать объём жидкости и совсем не откажетесь от соли, мы не сможем помочь так, как поможем, если вы будете оставаться в пределах. Вы меня поняли?
Постовая уже донесла: вчера Хвостикова схрумала четверть, если не половину солёного огурца, контрабандой принесённого соседке по палате. Но соседка-то без видимых отёков, хрен бы с ней, а для Хвостиковой каждый выкрутас смертельно опасен.
Кивнула – «поняла». Ни хрена ты не поняла. Тебе плохо. Тебе хочется пить. У тебя язык прилипает к нёбу. Но тебе нельзя пить столько, сколько хочется. Тем более нельзя ничего солёного. Потому что преэклампсия. Будешь пить без меры, будешь жрать соль – убьёшь и себя, и ребёнка.
Я вздохнул.
– Идите в палату, Татьяна Филипповна. И не нарушайте. Вы же взрослая женщина. Вам тридцать девять. Вы мне в мамы годитесь! Ну, что же вы…
Потупилась, тихо ушла. Ладно, буду надеяться, что подействовало. Я пошёл на пост.
– Лариса, Борисову приведи мне в ординаторскую, только по-тихому. Скажи всем, на инъекцию.
Борисова с животом-«кораблём», в застиранном халатике «в лопухи» через три минуты вставилась в дверь ординаторской:
– Здравствуйте, Михаил Владимирович!
– Привет, Борисова! Прости, имя твоё забыл…
– Оксана…
– Как дела, Оксана?
– Нормально.
– Жалобы есть?
– Да нет, жалоб нет.
– Оксана, у меня к тебе личная просьба. Как к самой тут сознательной.
– Слушаю, Михаил Владимирович.
– Не спускай глаз с Хвостиковой. Чтобы не жрала всякую солёную гадость! Чуть что – сообщай на пост. Будем разбираться. Она, похоже, не соображает, что делает.
– Хорошо, Михаил Владимирович.
– Ну, иди. На лестнице не разгоняйся! А ходить тебе полезно.
– Я хожу…
Когда я уже спускался в раздевалку, сверху меня настиг громогласный рокот заступившей на сутки вездесущей Громилиной, распекавшей постовую сестру за «бардак в процедурной».
Машуня сидела в раздевалке, читала книжку.
– Тебе хоть что-то тут видно? – сочувственно спросил я.
– Пригляделась, – поблескивая стёклами очков, вздохнула она.
* * *
…С Машей мы с первого дня учились вместе. Но, если спросить, что я о ней знаю, то знал я немного – мы почти не общались. Это не означало, что ей неприятен я или она неприятна мне. Просто мы были на разных орбитах. За все четыре года я смог вспомнить лишь три эпизода, связанные с Машей.
Первый случился в конце сентября первого курса. В выходной нас повезли на один день – утром туда, вечером оттуда, – в ближнее Подмосковье в совхоз, на картошку. Дело было изначально безнадёжным: работать никто не хотел; да и не успели бы. На месте все просто напекли свежей картошки в кострах, сожрали её с привезёнными с собой бутербродами, тупо напились и в сыто-пьяном состоянии загрузились в автобусы, тащившие разнузданную малолетнюю орду домой. Маша оказалась соседкой по скамейке. От тёплой водки, горячей картошки и бортовой качки на разбитом просёлке она моментально уснула, положив голову мне на грудь. Так я и доехал до самой Москвы, обнимая её сначала за плечи, потом, осмелев, за талию, – не смея пошевелиться, боясь разбудить женщину, спящую на моей груди. Такое происходило в моей жизни впервые.
Во второй раз, и это был второй курс, Маша отчего-то пригласила меня на день рождения. Она жила в старом доме в старом центре Москвы, на улице имени старого большевика, соратника Ленина. У подъезда меня встретила мемориальная доска с профилем и именем, навсегда поселившимися в Большой советской энциклопедии и во всех учебниках по истории КПСС. А, поднявшись на третий по гулкой просторной лестнице, первое, что я увидел в коридоре огромной, то ли семи-, то ли восьмикомнатной квартиры, – портрет с мемориальной доски. – Ну да, – серьёзно кивнула Маша, – Сапожникова я по отцу, как и полагается. А мамина девичья фамилия – да, всё правильно. Это мой прадед.
В третий раз дело было уже на четвёртом, холодной зимой. Мы толпой пошли на дискотеку в общежитие института стали и сплавов возле метро «Ленинский проспект». Пока продолжались пляски, я Машу не видел. Ближе к концу – не рассчитал, сильно перебрал. Вышел – зачем-то один – и загремел в сугроб. Когда мне помогла подняться именно Маша – почему-то не удивился.
– О-о-о! Машу-у-уня! – ревел я, шатаясь, – гул-лять идём-м?! А пой-йдём-м в бас-с-сейн «Ма-а-а-с-с-скв-ва», ква-ква… – я ржал, икая, – …поп-пл-л-лаваем!
– Скоро полночь, – тихонько, как маленького, уговаривала на ушко Маша, ведя под руку, – закрыт бассейн. Осторожней, аккуратней, не скользи… – я успокоился и покорно шёл, следуя её твёрдой руке, словно так было всегда, и так и должно быть.
– Маш-ш-шунь, – пытался я шутить, надеясь, что это смешно, а я неотразим, – а дав-вай такс-с-систа остановим, в-в-одочки возь-зь-мём у него, вы-ы-ы-пь-пьем…
– Сейчас остановим таксиста, – кивала Маша, – вот столб, держись, не падай.
– Маш-ш-у-у-унь! – орал я, – с-с-сать хочу! Обос-с-сусь с-с-сичя-я-яс-с-с!
– Ну, расстегнись и давай.
Рванув зиппер джинсов как чеку от последней гранаты, я зафигачил струёй-дугой в зенит прямо под разглядывающим нас ярким фонарем. Маша терпеливо ждала. Потом вышла на Ленинский, поймала частника, усадила меня, села рядом сама и повезла домой. Возле моего дома выгрузила, подняла на лифте на двенадцатый, вставила в дверь, нажала на кнопку звонка. Я пузырясь соплями упал в прихожую на руки матери.
– Ольга Евгеньевна, вы не волнуйтесь, – спокойно попросила мою опешившую маму трезвая как стёклышко Маша. – Он нормальный был, я видела. Так случайно получилось. Пусть поспит. – И спустилась вниз, к ждавшей машине.
Наутро – было воскресенье – схавав тонну презрения от матери и насмешливую ухмылку отца, я позвонил Машуне. Она сама сняла трубку.
– Всё хорошо. Я быстро доехала. Голова болит?..
* * *
– Давно ждёшь? Прости, зарапортовался. Сейчас, я быстро, вот, уже… – докладывал я обстановку из-за шкафов. Маша неторопливо закрыла книжку, засунула её в сумку.
– Не торопись, никуда не опаздываем.
Мы поднялись из подвала.
– Слушай, мне домой позвонить надо. Как ты думаешь, где здесь переговорка? – Маша-сероглазка глядела на меня снизу вверх, словно Пятачок на Винни. Она же ниже меня на полголовы. И тоненькая какая! Как же она меня тогда тащила?! В стёклах Машиных очков отражалось небо.
– Переговорка на телеграфе. Должна работать круглосуточно. Я знаю, где это.
– Ну, пойдём?
– Пойдём.
Мы двинулись на переговорный пункт. Молча – не потому что говорить было не о чём. Просто молчать было очень уютно. Зачем говорить, если можно молчать. Время от времени я рефлекторно подавал ей руку – где ступенька или высокий бортовой камень. Она близорука, могла оступиться.
На переговорном пункте безлюдно.
– Иди, – кивнул я Маше.
– Ага, иду, только пятнашек наменяю. А ты?
– А я телеграмму отправлю.
Печатными буквами я начертал на бланке:


Тётка с высокой причёской-халой, похожая на снежную бабу с ведром на голове, лениво посчитала слова, взяла денег, в блюдечко насыпала сдачу, и телеграмма тотчас улетела к матери.
– Есть хочется, – пожаловалась Маша.
– Я недалеко видел «стекляшку». С виду вроде приличная, а так не знаю.
Павильончик не обрадовал ничем кроме блинчиков с мясом и растворимого кофе с молоком из большой бадьи.
– А блинчики свежие? – вежливо поинтересовалась у буфетчицы Маша.
– Сегодняшние, – презрительно, через губу, снизошла та.
– Пойдём отсюда.
По дороге мы купили картошки. Лисенко и Грязнова на дежурстве, Алеева, понятно, свалила домой. У Маши были тушёнка и копчёная колбаса. Я быстро почистил и пожарил на кухне картошку, и мы уселись в пустой комнате обедать.
– Ты против «Электрик Лайт Окестра»20 не возражаешь? – Маша, ко мне спиной, встав на цыпочки, потянулась к высокой полке за кассетой. Короткая блузка задралась, открыв безупречную линию обнажённой талии.
– Против «Оркестра Электрической Светы» – никогда! – сглупил я, пожирая глазами узкую бледную полоску спины и стройные тонкие бёдра. Их не могла скрыть даже юбка свободного покроя.
Ели молча. Она не смотрела в мою сторону. Только щёки зарделись и стали нестерпимо пунцовыми.
– Знаешь… – прошептала она тихо, не поднимая взгляда.
Шипы декабрьской розы снова рвали ладонь. Не мою: я теперь был Ласточкиной. Но – слабее. Не смог бы вот так, бесповоротно: «Маша, я не люблю тебя». У меня оставались пять секунд. Я знал. Через пять секунд она выпустит в мир три слова – они уже: почти наружу, почти здесь, комком застряли у неё в горле, но уж не остановить; они готовятся родиться и выпорхнуть…
Я должен успеть первым. По-хамски, жёстко, хлёстко, омерзительно, похабно! Чтобы в ту же секунду она возненавидела меня, чтобы поняла: я – мразь! И тогда ей сразу же станет легче. А вскоре она всё забудет, и всегда теперь будет глядеть в мою сторону с отвращением. Пять секунд. Нет, уже четыре.
– Знаешь, я вообще не понимаю… на хуя, блядь… всё это надо. За-а-чем-м?! Я алкаш. Я голодранец, в кармане вошь на аркане. Я хо́дя, блядь. Всё, на что я способен, всё, что смогу…– я с тоской и ненавистью к себе, слово за словом выблёвывал ей мерзкие гадости прямо в красивое пунцовое стремительно бледнеющее лицо, схватив за оба запястья, – … испоганить твою жизнь! Хули тебе? – от меня? – надо?! У меня с утра стояк, а ты!.. – от зашкаливающего хамства у меня перехватило дыхание, но я уже не мог тормознуть, – ты мне всё равно ни хуя не дашь!
– Дам, – сказала спокойно, не отводя взора, не дрожа голосом; высвободила руки из моих обезумевших клешней и-и-и… – расстегнула пуговичку блузки, одну, вторую, ещё… «Дам»: буднично, привычно, будто каждый божий день говорила так десятку вожделеющих её кобелей. Сказала – она! – Мария Сапожникова, девственница, Ленинская стипендиатка, английский в совершенстве, член комитета комсомола института, дочь зампреда Совмина СССР, наследница по прямой основателя Страны Советов.
В глазах потемнело. Я вскочил, опрокидывая стулья, и, не помня себя, выбежал в коридор.
* * *
Понедельник со вторником я безвылазно проторчал в родовой. Осложнённых не было, но обычных накидали мама-не-горюй – порой поссать было некогда отойти.
– Они всё крепятся, ждут чего-то, до последнего дома сидят, пока уж воды не отойдут, – недовольно ворчала Натала-Тала. – А тем более, если выходной. Мужья, дети, дела по хозяйству – вот девки и тянут. Приползают самотёком в последний момент – а нам что? Ни обследовать их толком, ни понаблюдать хотя бы день-два, ничего вообще не успеваем.
– А как же женская консультация, разные курсы там молодых мамаш? – удивился я. Нам в роддоме Грауэрмана их показывали. Мы даже дважды присутствовали на занятиях, наблюдая, как доктор-инструктор разбирается с будущими мамочками, учит правильно себя держать в родах.
– Наивный ты, – улыбнулась Тала. – Ты думаешь, они туда ходят?