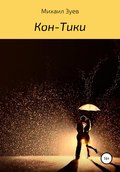Михаил Зуев
Белладонна
– Ну, так обязаны же – дородовой патронаж.
– Те, кто с головой, те да – ходят. Их заставлять не надо. А в основной массе – такой контингент… мычат же! Что с них взять?! Тужиться – не умеют, диафрагмой работать – не умеют, – следовательно, дышать не могут. Орут, ножками сучат, слезами своими тупыми брызгают по сторонам, ребёнку и нам мешают. Вот и рвутся как дырявые шарики. Эпизиотомии21 – часто делаем, надо же избежать разрывов. Да не всегда до эпизиотомий дело доходит – операция хоть и маленькая, но ведь калечащая! Жалко! Тебе-то что? Ты разрезал, ребёнка принял, зашил. А ей жить с этим. Если зашито неудачно, она потом всю оставшуюся жизнь от мужского члена бегать будет! Иногда думаешь – ладно, продышится, проскочим. А она рвётся. Значит, не проскочили. Всё равно шить, только не разрез, а разрыв.
– На дворе кол, на колу мочало, начинай, дружок, маету сначала! – вздохнул Джинни.
Под присмотром Наталы-Талы я делал эпизиотомии; потом шил рожениц. Талова садилась на табуретку рядом – и спокойно, комментируя мои действия, подбадривала:
– Молодец, хорошо! Не торопись. Так… так… стой, слишком много забрал в стежок. Как заживёт, будет в этом месте морщить. Ага… Хорошо. Видишь, как гладко получилось. Так… повторяем стежок, не длиннее предыдущего.
– Была я белошвейкой и шила гладью… – поднимал Джинни мой приспустившийся боевой дух.
Запах свежей крови, стоны рожениц, крики новорождённых, вывороченные прямо в лицо женские промежности седатировали меня очень быстро, напрочь лишив чувства полового самоопределения. Я стал просто бесстрастным швейным роботом. И это было хорошо и правильно. Иначе – как бы я смог выносить постоянную муку от чуть ли не касающегося меня лица Наталы-Талы? Я кожей ощущал тепло её щеки, ноздрями втягивал запах свежего дыхания; давился щекочущими – щекочущими всё, что только можно пощекотать, – французскими духами. Она вставала со стула, уходила, снова приходила, садилась, придвигалась ко мне, заглядывая в операционное поле, острой твёрдой грудью касаясь спины под потной операционной рубашкой. А я шил. Как хорошо, – что шил, что мерил время длиной уложенного узлами внахлёст терпко пахнувшего спиртом кетгута. Как прекрасно, что существовала веская причина оставаться бесполым.
– Мы не знаем, как у вас, а у нас в Японии – два врача пизду смотрели, ни хуя не поняли! – желая вывести меня из транса, попискивал Джинн.
Периодически в родзале возникал Берзин. Тихо о чём-то шептался с женой, бросал небрежный взгляд на плоды моего труда, похлопывал по плечу, и снова исчезал.
* * *
Домой я приходил не поздно, к четырём-пяти дня – выжатый, практически никакой. Вскоре после операционной смены приползали Лёшка с Юркой – такие же, как и я, если не хуже. Кусок в горло не лез, и мы, немного потрепавшись, незаметно отрубались, как детсадовцы в группе продлённого дня. Часов в десять вечера я просыпался, приводил себя в порядок и отправлялся в ресторан, где пела Конфета. Ещё за сотню метров до входной двери меня уже ласкал её чистый сильный голос, – и вновь я превращался в человека, обретая пол и вспоминая, что мне всего-то двадцать.
– Снится мне такая весть, снится небылица, что не хочется мне есть, хочется учиться! – похохатывал Джинни, радуясь, что я наконец-то прихожу в себя.
Конфета украдкой махала мне со сцены, «тёть Вер» усаживала за служебный стол, приносила хорошей закуси и бутылку красной «Алазанской долины». Вскоре шоколадка Микаэла, допев программу, спрыгивала со сцены. Мы расправлялись с «Алазанью» и спешили домой, в маленькую комнатку. Там Конфете неотвратимо приходилось отдуваться за прегрешения и издевательства Наталы-Талы, о чём она, конечно, и не догадывалась. А я, выспавшийся, сытый и слегка пьяный, всё требовал и требовал продолжения банкета – и без промедления его получал. Когда разгромленная поверженная стонущая и молящая о пощаде Натала-Тала вновь оборачивалась Конфетой, я обнимал её в знак примирения и засыпал с чувством выполненного долга.
* * *
В среду после утреннего обхода со мной впервые заговорил Берзин.
– Мне доложили, вы делаете успехи, коллега! Отрадно, очень отрадно. Нравится вам у нас?
– Не то слово! – выпалил я, зардевшись от нежданной похвалы.
– Ну и отлично. Что ж, будем двигаться дальше.
Куда уж дальше, подумал я; мне ведь и так столько всего доверяют!
– С сегодняшнего дня и по пятницу включительно пойдёте на усиление профосмотра работниц ткацкой фабрики. Будете работать под руководством Марии Дементьевны Громилиной.
– Это в женской консультации?
– Вот хорошо, что спросили, а то ушли бы не туда, – ласково улыбнулся Аристарх Андреевич. – Это не в консультации, а в амбулатории, прямо в здании заводоуправления.
– Когда начинать?
– Да прямо сейчас.
– Иду на профосмотр с Громилиной, – похвастался я Натале-Тале.
– А, в поле… Ну, давай, набирайся опыта, получай боевое крещение. Потом расскажешь.
Какое-такое крещение, недоумевал я по дороге в заводоуправление. Неужели то, в чём я варюсь сейчас – это цветочки?
Блок медсанчасти с отдельным входом располагался на первом этаже. Зайдя, я стал читать таблички на дверях. «Терапевт». Ну, это мимо. «Стоматолог». Аналогично. «Процедурная». Опять не ко мне. У четвёртой, самой дальней, была очередь. Табличку можно было не читать, но я, всё же, прочёл: «Гинеколог».
– А, это вы… – блестя очками и прикрывая лицо, словно чадрой, марлевой маской, Громилина повернулась в мою сторону. – Таисия, выдай Михаилу Владимировичу – …ох, и ни фига себе память, – …одежду и напои для начала чаем.
Спешно переодевшись за ширмой и глотнув тёплого сладкого чая из гранёного стакана в подстаканнике с выштамповкой «МПС», я остановился в нерешительности. Выпроводив пациентку: «очереди скажите, перерыв, не беспокоить, не входить, следующую пригласим!», – Громилина сняла маску и жестом приказала мне садиться. Я в ожидании подвоха опустился на краешек стула.
– Для начала, Михаил Владимирович, поговорим не о медицине, а о жизни! – Многообещающее начало, прикинул я.
– Где мы с вами находимся? – Громилина, похоже, держала меня за идиота.
– В амбулатории ткацкой фабрики.
– Правильно. Дальше.
– Мы будем осуществлять профилактический осмотр работниц.
– Молодцом. Дальше.
– Осмотр мы будем проводить с целью выявления общей гинекологической и профессиональной патологии.
– Что-то вы загнули, Михаил Владимирович. Какая на ткацком производстве может быть профессиональная гинекологическая патология? Разве что веретено или челнок от станка по ошибке куда-то не туда присунут, – засмеялась Громилина.
– Простите, Мария Дементьевна. Никакая.
– Молодец. Признаёте ошибки, не упорствуете. Хотя, справедливости ради, поговаривают некоторые, что вибрация ткацких станков может в принципе вызывать альгодисменорею22. Впрочем, – не доказано, и потому до конца не ясно. А теперь последний вопрос. Скажите мне, зачем я задавала вам все предшествующие вопросы?
– Осмелюсь предположить, для того, чтобы я понимал, куда попал.
– Ответ зачтён, – удовлетворённо подытожила «экспресс-зачёт» Громилина. – Хорошо соображаете. Это отрадно. Тогда дам вам вводную. Мы действительно в амбулатории ткацкой фабрики. Там, наверху, тысяча человек женского пола. Человек, заметьте, не скотов. Каждая со своей судьбой, проблемами и болью. Половина – из Средней Азии. Эти по-русски не говорят, общаются через гауляйтеров.
– Через кого? – не понял я.
– Через гауляйтеров. Это мы так называем. Девчонки забитые донельзя, необразованные, другого языка кроме своего не знающие. Разбиты на десятки или двадцатки. В каждой десятке-двадцатке – одна говорящая по-русски. Вот она и есть гауляйтер. Привезены сюда рекрутерами, недельные курсы – и к станку. Девочки только-только из селений. Всего боятся. Живут в трущобах, в скотских условиях. Когда первый страх спадает, начинают путаться с мужиками. Хватают триппер, сифилис, беременеют. Сами обратиться к врачу боятся. Беременности выявляются на поздних сроках, часто с тяжёлой патологией. Приходится абортировать по показаниям. – Громилина остановилась.
– Таисия, чаю наплесни. Вот вам, Михаил Владимирович, первая половина. А теперь… – она достала пачку «беломора», – будете? – я кивнул.
– А теперь вот и вторая. Местные: ткачихи, операторы гребнечесалок, прядильщицы, технологи, инженеры, бухгалтеры, да кого только нет! При детях, кому повезло – при мужьях. Забитые, несчастные, многие пьющие, с разной хронью. Почти у всех, у кого есть мужья – они алкаши да сидельцы. Тянут бабы лямку, и конца-краю лямке той не видно, – с полминуты Мария Дементьевна молча пыхала папиросой. Моя же давно погасла и забытая приклеилась в углу рта.
– И вот, дорогой Михаил Владимирович, так получается, так оно выходит, что на шести этажах над нашими головами – тысяча женских судеб. А присмотреть за ними, кроме нас двоих, некому. Некому, кроме нас, вовремя осмотреть, вовремя поставить диагноз, поймать беду. Некому отогнать на лечение и вовремя начатым лечением спасти жизнь. Понимаете, о чём я?
– Да, – хрипло выдохнул я.
– Так вот получается, Михаил Владимирович, что мы с вами уже через минуту не во влагалища будем гинекологические зеркала совать и не «пер ректум» пальцевое исследование малого таза делать. А будем вершить то, что нам Бог поручил, что он нам велел. Он же их всех любит – всю тысячу разных, святых и непутёвых. Только вот у него рук-то нет. Руки – они у нас. Мы от Бога тут рукоположены. Так выходит. Вы меня поняли?
– Да, Мария Дементьевна.
Я во все глаза смотрел на Громилину, и не узнавал. Вместо встреченной воскресным утром хамоватой стриженной под мальчика морщинистой старухи передо мной было одухотворённое лицо матери этого мира. Глаза, окрашенные печалью, покоились бездонными озёрами, а окружающее пространство незримо светилось, наполняясь любовью.
– Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится. – От услышанного я замер, потеряв дар речи, а Джинн без остановки нараспев всё читал и читал в моей окаянной голове бессмертный стих Первого послания к Коринфянам. – Не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражает, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине! Любовь никогда не перестанет!
– Тая, скажи там, пусть первая зайдёт…
* * *
Пасмурным непарадным пятничным утром я – не шёл, не бежал, – нет, трепеща невидимыми прозрачными крыльями, летел в амбулаторию! То, что ещё два дня назад вселяло суеверный ужас, оказалось иным, – светлым и добрым. Тучи надо мной стали рассеиваться уже в среду; вот и четверг с первой половиной пятницы пролетели незаметно.
– Таечка, – прогремела сидящая за спиной, внимательно контролирующая каждое моё движение Громилина, – давай, пойди, разберись там!
– Хорошо, Мария Дементьевна, – медсестра вышла в коридор.
– Вставайте, одевайтесь, – сказал я раскоряченной в кресле пожилой работнице. – Я сейчас вам направление в женскую консультацию выпишу. Придёте на следующей неделе, хорошо? – Женщина, застегивая синий рабочий халат, кивнула, поправила белую косынку, взяла мою писульку и вышла из кабинета. Я обернулся к Громилиной.
– Ну? – спросила та.
– Направление на биопсию выписал.
– А без биопсии тебе непонятно? – она уже давно говорила мне «ты».
– Боюсь, что понятно, Мария Дементьевна.
– А что теперь бояться, Миша. Поздно бояться. Мне вот тоже понятно. Я на такие понятки понасмотрелась – во! – она провела ребром ладони по шее.
– Успеют с операцией-то? – спросил я.
– Надеюсь, да. Ладно, вставай, пошли.
– Это пиздец, а пиздец у нас не лечат! – гадливо проверещал Джинн.
Мы собирались на обед. Накрывали нам в пищеблоке, в отдельной комнатке. Туда-то загодя и отправлялась Таисия, чтобы к нашему приходу всё было уже готово. Некогда рассиживаться за едой, если в полкоридора очередь сидит, и не уменьшается никогда.
Я сбросил в таз грязные перчатки, помыл руки, и мы вышли в коридор. Мария Дементьевна переваливалась молча рядом, тяжёлым шагом, – явный коксартроз слева, – погружённая в какие-то свои нелёгкие раздумья.
– Вот что с ними делать! Всё, – она внезапно заговорила и тут же задохнулась от возмущения, – всё, абсолютно всё бесполезно! Говоришь-говоришь, говоришь-говоришь, на языке уже не оскомина, мозоль ороговевшая от говорильни: женщины, предохраняйтесь! Изделие номер два! В каждой аптеке, четыре копейки, это два раза по телефону-автомату позвонить! Нет же! С мужиками – с тринадцати, а то и раньше, по сеновалам куролесят. Сегодня не помнят, кому вчера давали. Залетают как морские свинки, на выскабливания бегают, словно то же самое, что посрать сходить! – Я слушал молча. – А потом – вот, нате, специально для доктора-практиканта Михаила Владимировича! – как по мановению иллюзиониста Акопяна, нате вам, цервикальный рак! Рачок-с в гости, собственной персоной. Жрите его с кашей!
Мы пришли. Тая уже накрыла стол и ждала, стоя возле умывальника с двумя чистыми вафельными полотенцами. На столе громоздилась горка аппетитно нарезанного тёплого чёрного хлеба, призывно дымились глубокие миски с наваристым куриным супом, на плоских тарелках ждали своей очереди пухлые островки котлет, окружённые волнистыми озерцами картофельного пюре. Мы втроём уселись и принялись за еду.
– Проблема наша, Мишенька… – расправившись с обедом и закурив неизменный «беломор», вновь заговорила Мария Дементьевна. Здесь же нельзя курить, подумал я, хотя, кто ей тут указ? Кто ей на всей Земле – указ? – …проблема наша в том, что никто ни за что не отвечает. Что все наши достижения – на бумаге. Что не можем мы так сделать, чтобы всё по-настоящему было. Сил нам не хватает. Усидчивости не хватает. Таланта… – она задумалась. – Да, таланта. С талантом-то – единицы. Вон, Аристарх Андреевич, например.
Я невольно вспомнил фразу Наталы-Талы: «Кабы не он, тут до сих пор были бы разруха да дикое поле».
– Врачей много, а таких как он – малые единицы, – продолжала Громилина.
– Да, – кивнул головой я, – мне доктор Талова говорила.
Громилина улыбнулась.
– Талова? Она слишком юна, чтобы всё понимать. Хоть и красива до умопомрачения. Берзин – доктор от бога, так ведь этого мало.
– А что ещё? – спросил я.
– С людьми он умеет разговаривать. Убеждать умеет. Идеями своими зажигать. Ленин так с людьми умел – говорить, чтобы в людях этих самое лучшее отыскать, да от грязи оттереть и всем путь осветить. Да что там далеко ходить. Ты про новый корпус роддомовский слышал?
– Слышал, Мария Дементьевна.
– Знаешь, сколько лет его строить собирались? – Я недоумённо пожал плечами. – Восемь. А Берзин как сюда приехал, так за год всё с мертвой точки сдвинул. И деньги нашлись, и фонды по стройматериалам. Всё, как на блюдечке с каемочкой. Выходит, оно и раньше где-то было, да?! Только дела никому не было – ни главврачу, ни хер-исполкому, ни горкому-поёбкому, ни бывшей нашей роддомовской – прости-хосспади! – заведующей, алкашке…
В смотровом кабинете зазвонил телефон. Таисия сняла трубку.
– Алло… Да… Кто?.. Нет, он не может сейчас подойти, у них с Марией Дементьевной осмотр. Да… Хорошо… До свидания. Михаил Владимирович! – окликнула меня Тая.
– Ау-у-у! – прогудел я, спиной почувствовав, как Громилина улыбнулась.
– Звонил… – Тая замешкалась, глядя в бумажку, – …доктор Сюртуков из хирургии. Просил перезвонить.
Я закончил с пациенткой.
– Можно, Мария Дементьевна?
– Звони, конечно.
Посмотрел на часы – половина четвёртого. Набрал номер хирургической ординаторской.
– Алл-ё-ё… – пропела трубка.
– Лёшка, ты?
– Здоров, Дёма. Лось вечером на борщец приглашает, типа узким кругом.
– А кто пойдёт?
– Ну, я, Юрка и ты, если ты не против.
– Я только за! – их работа и моя Конфета разделили нас, и, признаюсь, я без них скучал. – Идти куда?
– Никуда. Сиди там у себя в амбулатории. Мы в пять мимо пойдём, зайдём за тобой.
– Чего там у тебя? – спросила Громилина.
– Нас вечером Виктор Семёнович Лосев домой приглашает. Борща наварил.
Громилина посмотрела на меня – тем неповторимым взглядом, каким бабушки награждают внуков.
– Борщ – это серьёзно. Тебе больше есть надо, а то уже невооружённым глазом дефицит массы… – Знали бы вы, милостивая государыня, с чего он взялся, – насмешливо пропищал Джинни.
* * *
Лось открыл дверь амбулаторного кабинета, по объёму оказавшись почти равным проёму.
– Вечер добрый, Мария Дементьевна!
– Ой, здравствуй, Витюша! – расцвела Громилина. Глаза её стали щелочками, по вискам заиграли тёплые лучики морщинок.
– За вашим доктором Дёминым! Можно мне его умыкнуть? – смеясь, сказал Лось.
– Умыкай, конечно! А то у нас, сам знаешь – любого Сивку укатают наши крутые горки.
Я, было, встал со стула, но тут же сел обратно.
– Мария Дементьевна! – Громилина вопросительно подняла взгляд. – Спасибо вам за всё!
– За что «за всё»?
– За всё! За науку! За отношение! В общем, за всё сразу… – я зарделся румянцем.
– Да не за что, милый мой. Не за что. Вот вынесут нас вперёд ногами, кто останется? Вы и останетесь. Беги, давай, с богом… Отъедайся!
Мы – д'Артаньяном с тремя мушкетерами – шли по узенькой струившейся под уклон уютной, совсем на вид деревенской, улочке. Ну, Лось – это Портос, вне всяческих сомнений, кто ж его перебьёт. Д'Артаньян? Конечно, Юрка! Холерик, каких поискать. Оставалось две роли, для меня и для Лёшки – Атос, граф де Ла Фер, и Арамис, аббат монастыря в Нуази. Кто из нас кто?
– Пар-р-ра!.. – пар-р-ра!.. – пар-р-радуемся на своём веку!.. – неизобретательно затянул Джинни. Меня передёрнуло. И было с чего.
На тринадцатом, прямо надо мной, жил дебил, студент института инженеров гражданской авиации, всё ходил в синей форме с нашивками. У него был мощный усилок, а из пластинок, похоже, присутствовала только эта. Когда с моего потолка Мишель с усами аденоидно гундосил «есть в старом парке чёрный пруд», то ещё можно было как-то пережить. Но вот «пар-р-ра!» по десять раз за вечер становилось явным перебором.
Самый крупный и самый мелкий – Лось и Юрастый – оказались впереди. Мы с Лёшкой шли в некотором отдалении.
– Ну, как у тебя?
– Не разгибаясь, – ответил я серьёзно. – А у вас?
– Из операционной выйдешь – смотришь в белый свет как в копеечку. А кофе хлебнёшь, с девками на посту побазаришь, посидишь чутка – и вот уже обратно тянет.
– Ну а Лось как?
– Да пиздец! Виртуоз…
Тем временем Лось с Юркой остановились возле крашеного в весёлый салатовый палисадного заборчика с игривыми узорчатыми воротцами и такой же, словно игрушечной, калиточкой.
– Пришли! – гордо сказал Лось.
Здоровенная мохнатая цепная зверюга, вихляя задом, тихо выбежала откуда-то из кустов и уткнулась мордой в пах хозяину.
– Найда, Найдочка! Она меня ещё с перекрёстка узнаёт, когда иду. Жена говорит, так-то она на всех прохожих орёт – голосина дай бог! – а как меня учует, молчит, как партизан на допросе. – Чёрная кабыздошина недоверчиво обнюхала нас троих и так же молча поплелась в конуру. – Щеночком крохотным принесли, а она давай помирать-то на второй день.
– Чего? – спросил Юрка.
– Глисты. Инвазия в материнской утробе. Ничего, выходил. Выгнал глистов. Козьим молоком отпоил. Под капельницей лежала у меня, отходила. Потом ещё неделю только ползала, на ноги подняться не могла. Да вы проходите, только обувь снимайте!
На застеклённой веранде, друг напротив друга, на двух высоких стульях для кормления восседали два совершенно одинаковых карапуза, на вид лет полутора. Их пухлые мордашки были измазаны кашей, которой их по очереди потчевала дородная вся изнутри светящаяся молодая мадонна.
– Кирилл и Мефодий! – гордо пояснил Лось.
– А как ты их различаешь? – я сообразил, что «выканье» Лосю давно уже бесповоротно в прошлом.
– Он? Он – путается! Это я различаю! – задорно рассмеялась мадонна.
– Ой, прости. Юра, Лёша, Миша. – Мы по очереди поклонились. – Ольга, жена моя. Дома сидит.
– Ага, посидишь здесь, с двумя-то. Да и ты – ещё один ребятёнок, как с работы придёшь. В магазин сходи, приготовь, накорми, напои, постирай, помой, убери, овощей на зиму закатай, того-другого по мелочам пошей… Это так я, ребята, дома рассиживаюсь. Витюш, вы руки помойте да в столовую проходите. У меня всё готово, я сейчас.
Взбудораженные несущимися из кухни запахами, мы пошли к рукомойнику.
– Борщец у Оленьки – такой, пальчики оближете! Да что там оближете – обглодаете!
– Витя, давай, неси! – пропела с кухни Ольга. Мы тем временем рассаживались за овальным обеденным столом. Лось появился в комнате, таща перед собой на вытянутых руках ведро с крышкой. Крякнул, ловким движением закинул на стоявшую на столе керамическую подставку:
– Разливай, Оль!
Ольга, ухватившись за подсунутую под скобу винную пробку, сняла крышку. Из ведра поднялось и поплыло над столом облачко пара.
– Так это ты не шутил про ведро? – ошеломлённо протянул Юрка.
– Какие уж тут шутки, – гордо зыркнул на нас Лось. – Будем есть борщ!
Ели сосредоточенно, молча, останавливаясь только на короткие тосты, опрокидывая в голодные глотки по маленькой из запотевшего пузатого графинчика. Графинчик быстро опустел, – вездесущая Ольга ловко подхватила и десятком секунд спустя возвратила его обратно полным и истекающим мелкой слезой по стеклянным бокам.
– После первой тарелки положен перекур! – сыто крякнул Лось. Мы отвалились на спинки стульев и с неземным удовольствием стали чиркать спичками, навалом лежавшими в большом коробке посреди стола.
– То не борщ, то – тала-а-ант, – тихо рыгнув, протянул Лёшка.
– Вот и я говорю – талант! – Лось, откинувшись, глубоко затянулся и выпустил дым в потолок. – Она же моей пациенткой была.
– Да ну?! – оживился Юрка.
– Ага. Я в семьдесят пятом саратовский закончил, ещё год интернатуры – семьдесят шестой. Распределяться надо. В Саратове тырк туда, тырк сюда – что-то как-то не туда. В больницах везде укомплектовано, предлагают поликлиническим хирургом.
– Весело, – встрял я.
– Не то слово! Это, значит, всё, чему научился, забудь, и добро пожаловать в амбулаторию – панариции вскрывай, ушибы по пьянке лечи, да с чужими нагноившимися послеоперационными рубцами разбирайся. Я в облздрав – так, мол, и так, нельзя ли узнать, есть ли где работа за пределами губернии. Они мне через две недели говорят: вот, на выбор тебе, Лосев, – Александров, Саров и Григорьевск. Ну, Саров я сразу как-то не очень возжаловал…
– Почему? – спросил Юрка.
– Радиация там. Стрёмно. Мало ли что – пукнет двести тридцать восьмым23, потом волосы вылезут, а то и костей не соберёшь.
– Понятно.
– Остались Александров, ну и наш городок. Это он теперь «наш», а тогда я и название-то всего раз или два слышал. На крыльцо вышел, пятак на «орёл – решку» крутанул, выпал орёл. Значит, в Григорьевск. Чемоданчик куцый собрал, приехал. Прихожу к главврачу, он – к Гройсману, говорит, иди…
– Гройсман – это кто? – наклонился я к Лёшке.
– Главный хирург.
– … ну, я пришёл. Гройсман мне: садись. Я сел. Он документы мои посмотрел. «Пошли!». Пришли в оперблок. Говорит: мойся. Помылись. Заходим в операционную – а я ни сном, ни духом: больного не видел, историю тоже. Говорит: гнойный аппендицит. Встанешь ассистентом. После ревизии, если сочту возможным – меняемся. Счёл.
– И как? – спросил я.
– Да нормально всё прошло, без эксцессов. Пришли потом к нему в кабинет. Он налил. Выпили по чуть-чуть. Руку пожал: принят. Вот так я здесь и очутился.
– А Ольга? – не успокаивался Юрастый.
– А с Ольгой вообще история весёлая. Она на комбинате работала. Оль!.. – Ольга зашла в комнату.
– Оль, по второй тарелке наливай!
– Вечер перестаёт быть томным… – задумчиво протянул Джинни. Только бы не лопнуть, подумал я.
– Ну и вот. Она на комбинате работала. Просквозило её. Температура, кашель – бронхит, в общем. Антибиотики назначили. Наверное, медсестра напортачила, грязной иглой уколола. Жопочный абсцесс. К нам в отделение, по скорой. Я осмотрел, говорю: на стол барышню. И тут, грешен, каюсь – использовал служебное положение в личных целях.
– Это как? – Лёшка взялся за ложку, приступая ко второй тарелке.
– Да дёрнуло меня забежать в операционную за чем-то, ещё не помывшись. Её только-только с каталки переложили, ещё не успели простыней накрыть. Ну, я смотрю – бат-т-тюшки-светы, красота-то какая.
– А так, что, при осмотре в приёмном не разглядел? – подколол я.
– Не-а, – заулыбался Лось. – Там-то я на жопочный абсцесс смотрел. А тут – на столе целая женщина оказалась.
– А он ещё губной помадой на зеркале голую женщину нарисовал! – хохотнул Джинни.
– Но я был на высоте! – продолжил Лось. – Пошёл к заведующему, взял шовный материал «нулёвочку», и вместо того, чтоб как обычно, по-мясницки, – наложил косметический шовчик, тонюсенький, едва заметный…
– Ну, точняк, под себя делал! – заржал Юрка.
– Угадал! – Лось доел последнюю ложку второй порции борща. – Кому добавки?
– Издеваешься? – утробно чревовещнул Лёшка.
– Тогда пошли в сад. Охолонуться не мешает! – пригласил хозяин.
Лёшка сразу запрыгнул в болтающийся между яблонями гамак и закрыл глаза. Мы же рассосались по плетёным креслам.
– Ну, про друзей твоих я всё знаю. Ты теперь расскажи, как дела идут. – Мы с Лосем сидели плечом к плечу, как Ёжик с Медвежонком.
– Очень всё хорошо, Вить. В отделении мной Талова руководит…
– Она-то – да, опытная… – протянул Лось, и взгляд его, как мне показалось, стал глубоким и грустным.
– Не ты тут один такой страдалец, – шепнул Джинни.
– …а в амбулатории, ты сам видел, Громилина.
– Мария Дементьевна, да-а-а, человек-легенда.
– Вить, ты про неё что-нибудь знаешь?
– Знаю.
– А расскажи.
– Семьдесят в прошлом году отмечали. Ленинградка она, коренная. Закончила Павловский, в ординатуру поступила в хирургию, в институт Джанелидзе, он тогда год или два как открылся. Сочетанной травмой занималась. В тридцать восьмом по призыву ушла в армию.
– А разве женщин призывали?
– Хирургов-то? Ещё как! Да она ведь сама заявление написала. А в тридцать девятом – на фронт.
– На какой? – не понял я.
– Так финская же, – пояснил Лось. – Потом – по госпиталям. А в июне сорок первого её в санпоезд. Слышал про такие?
– Слышал. Госпиталя на колёсах. Про них ещё кино сняли. А после войны?
– А после войны стала акушером.
– Почему?
– Она всего раз об этом говорила. Когда призвали, у неё в Ленинграде оставались мама, младший брат и сестрёнка. Брат с сестрой погибли при бомбежке. А мать – от голода. И вот – рассказала мне как-то, по дежурству. Сидели с ней, чай пили. Говорит: осталась я одна-одинешенька. Парень был до войны, пожениться собирались. Да тоже не вернулся. Убили. И семья – вся, подчистую, даже могил-то не сыскать. И вот рассказывает – сон был под стук колёс. Пришла дева Мария. Говорит – ты Мария, и я Мария. Дело наше на Земле – новую жизнь растить. Помоги мне. И исчезла.
– Что, так и было? – не поверил я ушам.
– Мне-то откуда знать, – вздохнул Лось. – Она один раз мне это рассказала. Мужчина у неё появился, ненадолго. Потом сын родился.
– А чего же она не с ним?
– Как раз с ним. Громилин – у него фамилия по матери, не по отцу – главный инженер ткацкого комбината. Она с ними живёт: с ним, с женой его, и ещё там две девочки. Внучки её. Только без работы не может.
– Это-то я уже понял.
– Она у нас в больнице как талисман. Словом лечит.
– Кого?
– Да своих же, врачей да сестер. Если плохо, выслушает. Никогда насмехаться не станет. Ещё и дельное что посоветует. Люди не раз замечали – поговорит с тобой, глядишь, а беда стороной прошла. Она как мама тут всем.
Мы выпили ещё. И ещё. Завтра суббота, на работу не идти. Вернулись в общагу.
Я подергал Конфетину дверь – заперто. Вышел на улицу. Час сидел на лавочке под липами, курил. Посмотрел на часы: половина второго. Лёшка с Юркой спали, умаявшись от операций, борща и водки. Я разделся, лёг на кровать. Сон не шёл. Тихо поднялся, подошёл к шкафу, нащупал куртяшку, расстегнул тугую молнию, залез во внутренний карман. На моей ладони, словно в колыбели, парил хрупкий невесомый деревянный чукчонок.
Положил рядом с собой на подушку. И полночи с ним разговаривал.
* * *
Разметав руки-ноги, пришпиленной куколкой вуду я лежал на траве возле речки-вонючки, обречённо смотря в закатное небо, будто надеясь что-то там узреть. Видеть мне было нечего. Голова гулка и пуста. Я трезв как стекло и сам себе противен. Противен, – не потому что трезв, а – потому что противен.
Я так и не извинился. За неделю – не нашёл смелости подойти, два слова сказать, четыре слога: «прости, Маша». Утром, когда мы ордой сарацинов брали штурмом автобус, что собирался везти нас в Воздвиженск, даже не взглянула в мою сторону. Просто тихо прошла мимо. Не потому что не заметила, нет. Потому что не сочла нужным.
А потом, после недолгой дороги, когда ребята, стоя возле автобусной двери, помогали девчонкам выйти, я, не глядя, протянул руку, а она – не отвергла, не обожглась; опёрлась на мою дрогнувшую ладонь тонюсенькой ажурной ладошкой. Спрыгнула легко-легко с подножки, и не забрала руки́, нет! Это я, испугавшись, выпустил, – а она только тогда выпорхнула. Словно ждала: что дальше? А какого «дальше» ждать от того, кто не смог – вот даже «прости», и того не смог.
С дальней лужайки, из другой реальности, настойчиво потянуло шашлыком. Ирка с Егором ещё вчера, до нашего приезда, замариновали – «а чего там мелочиться!» – здоровенное ведро свежайшего мяса. Мне бы теперь: встать, отряхнуть сено-траву, пойти к ним, к своим, к родным, табором звенящим гитарами у высокого – до неба – костра; сесть подле. Под водочку с самогоночкой сожрать столько, чтоб лопнуть. Чтобы привычно загудела смурная пьяная голова, чтобы сами собой забулькали похабные шутки, чтобы снова стать царём горы. Купаясь в мерзости и самолюбовании: залить, заглушить, потушить в себе насовсем – то странное, непонятное, звенящее, не отпускающее чувство.
– Прости.
Неслышно подошла, села рядом на траву. Это ты, ты сказала – мне? «Прости»?!
– Прости. Прости меня.
А я – что я? Язык чужой, не слушается. В висках стучит. Салют, Ласточкина!
– Ты на меня… не сердишься?
Я? На тебя?! Что ты такое говоришь, маленькая хрупкая девочка?! И тут – словно пробило. Всё понял. Это я – мальчик! А она – нет, не девочка. Она женщина.
Двое. Двое на берегу. Женщина и мальчик.
– …би квайт, биг бойз донт край, биг бойз донт край, биг бойз донт край…24
И ты туда же, Джинни.
– Пойдём купаться, – она сбросила платье.
– У-у…
– Одежду сними, глупый! Намокнешь!..
Только плеск воды. Только стук сердец. Только тишина.
– Вылезай, замёрзнем. Руку… Мишка, руку дай, скользко.
Почему мне так спокойно?
– Я хочу, чтобы им стал ты.
И я стал. Сумбурно. Осознанно. Прекрасно.
Двое. Двое теперь на берегу. Мужчина и женщина.
* * *
Наступившая неделя оказалась размеренной как щелчки метронома и тягучей словно мёд Таловой. Каждое утро я на автомате приходил в роддом. Обход, потом – палата. Вот тут я и понял, что раньше, на самом деле, Натала-Тала меня берегла. Запускала только в родильный зал, – где всё динамично, остро, интересно, как аттракционы в парке культуры имени отдыха. А теперь на меня как на палатного лечащего врача повесили всю «патоложку» в полном объёме.