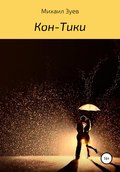Михаил Зуев
Белладонна
Двенадцать коек. Свободны одна-две, и то изредка. Все женщины разные, и все требовали от меня постоянно включённой головы. Одно дело – роды принимать, руками работать. Принял, ребёнка сдал педиатру; мамашу, если надо, подштопал, и в послеродовую на отходняк. Вот ты и герой. А тут, в патоложке, тихо. Ходят «вскорости мамочки», животами-аэростатами покачивают, тапочками шуршат. Снаряды вроде как не рвутся: здесь невидимый фронт. Диагнозы разные – ни одного простого. Оно и понятно: палата патологии беременности. Все с осложнениями. По сопутствующим заболеваниям – такие букеты, что диву даёшься. Пришлось, вместо былого геройствования, тихо лезть в учебники, освежать в памяти терапевтические дисциплины. Если недавно я был швейным роботом, то теперь дорога мне лежала прямиком в роботы-аускультаторы и роботы-пальпаторы25. Ну и, понятно, кроме фонендоскопа на шее, в левом кармане халата поселился акушерский стетоскоп, – а торопливый цокающий звук сердцебиения плода стал для меня самой чудесной музыкой.
Однако выматывало всё страшно. После завершения утреннего обхода и почти вплоть до вечернего я курсировал по маршруту «патоложка – ординаторская – кабинет зава – лаборатория – ординаторская – патоложка» во всех возможных направлениях многовершинного графа. Осмотры, назначения, анализы, кардиограммы, рентгенограммы, беседы с родственниками пациенток… Присел за стол? Заполняй истории и бумаги – до писчего спазма. А, самое главное, ещё и подумать надо. Разработать план ведения. Учесть все привходящие. Скорректировать назначения. Одна больная на сегодня готова? Молодец, доктор! Переходи к следующей! Их у тебя – дюжина, как на подбор! И всех нужно держать в голове, иначе швах.
– Таскать вам, не перетаскать! – измывался надо мной Джинни.
Маша в понедельник утром ушла в терапию в главный корпус, ненавязчиво освободив меня от своего присутствия. То, что произошло между нами, мы не обсуждали. Я старался её избегать. Подвига не вышло: я не мог быть Ласточкиной, а не быть ей – не мог тоже.
Талова мне больше не помогала. Половину времени сидела в родзале, другую проводила на приёме в женской консультации. То, что она исчезла с орбиты, облегчило мою участь. Активная коррекция избытков тестостерона, неутомимо еженощно проводимая Конфетой, шла на пользу. Морок потихоньку спадал. Теперь при виде Наталы-Талы у меня не скребли спину холодные мурашки, не колбасило угрозой приапизма низ живота, – и больше не лезли в голову всякие глупости.
Совершенно неожиданно я влюбился. Мою любовь звали Аристарх Андреевич Берзин. В его кабинете я бывал по многу раз на дню. И каждый раз летел туда на крыльях. Вместо того чтобы поиздеваться над невеждой, Берзин усаживал меня за стол в своё кресло, сам перемещался на диван, доставал фирменные «любительские» – и начинались чудеса. Он внимательно выслушивал меня по каждой больной. Очень внимательно, не перебивая. Потом закуривал, и:
– Ты допустил ошибки: здесь, здесь и вот здесь! – его рука парила, выделывая чудны́е кульбиты, как будто принадлежала виртуозному Стравинскому, развлекающемуся с палочкой за дирижёрским пультом. – А теперь я расскажу тебе, почему ты прокололся.
Стройно, логично, шаг за шагом излагал мне весь ход моих собственных мыслей. Откуда же ему известно, как именно и что именно я думал? Поначалу я удивлялся, но вскоре перестал. Проницательность Берзина, похоже, родилась вперёд него. А, когда он рассказывал, я сразу понимал, почему именно – я допустил ошибку, где именно – я сбился с пути.
– Вот видишь, – улыбался Аристарх, – ты ошибся вовсе не по глупости и, боже упаси, не по лености. Это не твои варианты. Ты ошибся, – он загибал пальцы, – из-за торопливости, из-за невнимательности и… – он делал паузу – … из-за поверхностности суждений. К счастью, в отличие от глупости и лени, эти недостатки можно вылечить.
– В нашем деле, – продолжал Берзин, – само акушерство иногда отступает на второй план. Ведь, будем честны с собой, акушерство – профессия, в общем-то, не врачебная, а фельдшерская. Акушерство само по себе – это ловкость рук. Хорошо набив руку, врачом быть вовсе не обязательно. Это знаешь, – он мечтательно разглядывал потолок кабинета, – как в Америке. Там есть, допустим, хирурги, которые оперируют, а есть бригада, которая делает первичный разрез, а потом ушивает операционное поле. И все эти гаврики – без врачебных дипломов.
– Не может быть!
– Ещё как может. Просто они там за бугром в специализациях продвинулись гораздо дальше нас. И давно врубились, что есть вещи, на которых задействовать сверхспецов вовсе не обязательно.
– Тогда для чего нужны врачи в акушерстве?!
– А для того, чтобы вступать в действие, когда простой фельдшер-акушер не справится. Когда нужны не руки – голова. Когда требуются знания и навыки в сопредельных дисциплинах: в терапии, хирургии, гематологии, неврологии, токсикологии, аллергологии, эндокринологии, онкологии… Когда под маской, под видом чего-то простого и понятного прячется коварное, злое, опасное, агрессивное, угрожающее жизни матери и жизни собирающегося появиться на свет ребёнка. Ну, пошли в палату!
Он тушил «любительскую» в забитой вонючими окурками сто лет немытой пепельнице, и мы отправлялись. Наблюдая в палате за собой и за ним словно со стороны, я в который раз поражался, каким понятным и лёгким становилось всё происходящее после его «разборов». Я заворожённо слушал и во все глаза смотрел на действо по имени доктор Берзин, мечтая лишь об одном – когда-нибудь ну хоть на треть, ну хотя бы наполовину стать таким как несравненный кудесник.
– Пойдём, кофейку! – заглядывал он ко мне в «патоложку». Я подхватывался, и бестолковым вихлястым щенком телепался за ним. – Ты представь, есть такой метод, экстракорпоральное оплодотворение.
– Да, нам рассказывали… – а что ещё мог я ответить?! Он смеялся:
– В Европе уже делают, в Штатах, в Австралии… да и у нас скоро начнут. Понимаешь, какие перспективы? А то корабли на орбиту запускаем, равных нам нет, а тут отстаём.
Я нагло с умным видом кивал, хотя ничего не понимал, да и понимать не мог.
– Представляешь, на сколько типов женского и мужского бесплодия можно будет с высокой колокольни наплевать?! Ещё вчера – приговор, а завтра – тьфу! Сколько бесплодных пар вернуть к жизни?! Дать им ими же самими рождённых детей, а не заставлять по десять лет стоять под дождём и снегом возле детдома в очереди на усыновление! – Я сидел, чуть ли не с открытым ртом. – Попомни мои слова, год-другой остался, и у нас здесь будет всё то же самое! А ещё – ультразвук…
– Да, нам рассказывали, – опять включался мой попка-дурак.
– …такие чудеса можно будет делать! Пол ребёнка определять. Просто – брюхо гелем намазал, датчиком поводил, и вот вам: «мэ» или «жо», шейте, дорогие будущие родители, приданое без ошибки в цветах. А пороки развития плода видеть, как на ладони?! К одиннадцатой неделе – р-р-раз, экспертное исследование и веское заключение, а не вилами по воде, – Берзин буквально молотил кулаком по боковине кабинетного дивана, – сохранять беременность или прервать, во избежание?.. И всё это – прямо на месте, в глуши, никуда женщину везти не надо, по просёлкам растрясать, ни в какую область, ни в какие клиники-шминики!..
Я любовался им в его актёрском, ощутимо патетическом запале, – понимая, что он, конечно же, рисуется. Но, при всём том – ни на йоту не лжёт. Что всё будущее, о котором он так жарко, распаляясь, говорит, – оно уже живёт в нем, внутри него. Только дай волю – он жизнь без раздумий положит, «чтоб сказку сделать былью».
Громилина не бросала слов на ветер. Теперь-то я сообразил, откуда взялось: «врачей много, а таких как он – малые единицы». И конечно, уже понимал, почему его так любят женщины. Господи, да родись я сам женщиной, бежал бы за ним сломя голову – куда угодно, позабыв обо всём, лишь бы рядом, лишь бы с ним, лишь бы…
* * *
Пятничным вечером я собрался в хирургию. Ещё вчера мы с Лёшкой и Юркой решили после работы пойти по пивку. Григорьевск гордился пивзаводом, и в магазинах проблем со свежим пивом не наблюдалось.
– Они в перевязочной! – улыбнулась постовая медсестра. Я принял халат, снял кроссовки, навернул чистые слегка влажные бахилы прямо на носки и зашёл. Перевязочный стол обступили Лось, Юрка и Лёшка. На полу валялся протез, чуть поодаль – клюка. Свесив правую ногу и сиротливо положив на стерильную простынь культю левой, на столе сидел Артур.
– Добрый вечер, коллеги! Здравствуй, Артур! – поклонился я честной компании, не отрывая взгляда от обезображенной келоидным рубцом, сочившейся свежим отделяемым, культи. Инфекция ампутационной культи. Час от часу не легче.
– Артур, – Лось покидал использованный инструмент и перевязочный материал в таз под столом, – я, конечно, всё понимаю, но с подвигами Маресьева нужно завязывать.
– Что ты предлагаешь? – жёстко спросил Артур.
– Госпитализацию, – так же жёстко ответил Лось.
– Зачем?
– Тебе зеркало дать?
– Не надо. Я каждый день дома её в зеркало вижу.
В повисшей звенящей физически осязаемой тишине передо мной явилось лицо Громилиной. «С людьми он умеет разговаривать. Убеждать умеет. Идеями своими зажигать. Ленин так с людьми умел».
– Виктор Семёнович! – повернулся я к Лосю. – Можно мне с Артуром переговорить тет-а-тет?
Лось удивлённо вскинул брови: какие у вас могут быть разговоры? – но препятствовать не стал. Повернулся и пошёл к двери. Лёшка и Юрка двинулись за ним.
– Чего? – спросил Артур.
– Примочки, растирания, мази и прочая хуйня не помогут. – Артур поднял взгляд. – Это несостоятельность культи. Плохо. Она «поехала». Я вот не хирург ни разу, и то вижу, что нужна повторная операция.
– Твои то же самое сказали, – безразлично выдавил Артур.
– Тебя в госпитале упустили. Слишком рано выписали. Нужно было ещё минимум три-четыре недели.
– Я домой хотел! – Артур смотрел мне прямо в глаза. Я сел на стол рядом с ним: – В ногах правды нет!
Он еле заметно улыбнулся.
– Артур, дело прошлое. Ты быстро хотел домой. Ошибка. Они проебали адаптацию рабочей поверхности культи и притирку к протезу. Ошибка. Теперь имеем, что имеем. Но всё можно переделать. И больше ужас не повторится. Ляжешь в отделение, когда захочешь. Тебе же никто не говорит, что это должно быть завтра. – Я обнял его за плечи. – Ты даже не представляешь себе, Артур, какой ты молодец. Я вот не знаю, смог бы…
Мы просто сидели плечом к плечу и молчали. Лось вернулся.
– Ну, поговорили?
Я кивнул.
– Тогда завершим перевязку.
Я встал с перевязочного стола.
– Мишка, подай протез, – попросил Артур, когда всё закончилось; помолчал и добавил: – пожалуйста.
Мы вышли впятером.
– Поедем в «Красную горку», – не предполагающим возражений тоном объявил Артур.
– Жена не поймет, – смущённо улыбнулся Лось.
– Тогда сейчас к тебе заедем и всё объясним.
– Ладно, не надо, я позвоню.
В «Красной горке», фирменном пивном зале Григорьевского пивзавода, стоял полумрак. Остро пахло солёной рыбой и терпким свежесваренным пивом. На дощатой сцене музыканты потихоньку бренчали вхолостую, подключая и настраивая аппарат. Метрдотель, пожилой, худой, сутулый, едва завидев медленно идущего впереди прихрамывающего Артура, как чёртик из табакерки выскочил из-за столика с настольной лампой, приглашая нас в кабинет.
– На твоё усмотрение, – бросил ему на ходу Артур.
Не успели мы бросить наши усталые кости на деревянные скамейки с высокими спинками, как в кабинет гуськом влетели четверо официантов. Первые двое тут же со стуком приземлили на липкую влажную грубую столешницу десяток бурлящих высокими пенными шапками кружек, не расплескав ни капли. Вторая двойка завершила заселение стола, уставив его всяческими хлебами и лавашами, мясными и рыбными нарезками, тарелками с воблой и креветками, овощами, шашлыками и двумя бутылками водки.
Мне так захотелось жрать, что, позабыв о приличиях, я залпом втянул в себя полкружки, и, не обращая внимания на закуску, принялся за горку дымившегося на блюде поодаль шашлыка. Когда первый приступ жадности и голода был преодолён, отвалился на спинку скамейки, ища взглядом на столе сигаретную пачку.
– Водочки? Ерша? – обратился ко мне незамедлительно оказавшийся рядом официант.
– Не, пасиба. Ну его на хуй.
– Руссиш культуриш! – заржал Джинн.
– И чё? – парировал я. Джинн не нашёл, что мне ответить.
– Какы-ые лю-у-ди, и всэ ф сборэ!.. – в полутьме кабинета возник брюнетистый коренастый, поблескивающий золотыми зубами, смуглокожий мужик.
– Привет, Колян! – салютнул поднятой рукой Артур. – Присаживайся. Мишка, как у вас там говорится?
– В ногах правды нет! – выпалил я.
– О-о-о, тач-чнак! – рассмеялся Колян, протискиваясь на свободное место на скамье напротив меня.
– Вот, ребята, это Коля. Мой друг и товарищ, – представил гостя Артур. – А это, Коля, наши лучшие во всем мире доктора: Виктор Семёнович, Лёша, Миша и Юра!
– Чито ви пиоти? – скривился Коля, с деланным отвращением рассматривая водочную этикетку.
– Сам видишь, – хмыкнул Лось.
– Каничяйти эта нимедыленна! – Коля дважды хлопнул в ладоши, протянул подошедшему официанту брелок с ключами: – У мэня в багажник сумка. Прынесы, буд другам, дыве бутилька.
Официант вернулся, прозрачные бутылки без этикеток коричневато-золотисто блеснули под лампой.
– С родин! Мой дяда делат! Ви такой конияка нэ пробоваль!
Коньяк, и правда, оказался улётным.
– Веселие Руси есть пити, не может без того быти! – констатировал Джинни. Мне его констатации были до лампы, которой у него к тому же не было. Тем не менее, я понял: нужно выбирать что-то одно, либо пиво, либо коньяк. Идти «на понижение» было опасно, поэтому остановился на коньяке. Увы, тот был обманчиво мягок, но притом необманчиво заборист.
Мужики же, существенно превосходящие меня питейными способностями, отважно налегали и на то, и на другое. Наконец, трапеза подошла к концу.
– Теперь в баньку! – с интонацией патриция провозгласил Артур.
– Да ну на хуй! – плебейски отозвался Лось. – Я к жене. Пусть мне черти такси вызовут.
– Я отвезу! – закричал Артур. – А, может, с нами, Вить?! Мы, ведь, того, без девок, без развратов, чисто помыться, всё…
– В другой раз, родной! – Лось крепко расцеловался с Артуром, попрощался с нами и неожиданно твёрдой походкой покинул кабинет.
– Бл-л-лять, у нас «трёхсотый»! – заржал вслед ему Артур.
– Харошь, нэ «двухсотый»26, – тихо промолвил внезапно посерьёзневший Коля.
Старые городские бани располагались в самом центре. Окна были темны. Посмотрел на часы – половина двенадцатого. Колян – я ехал в его машине – свернул в переулок, обогнул здание и заехал с обратной стороны. Там неярко светилась приоткрытая дверь. Мы вышли, Колян закрыл авто, Артур с мужиками подъехали следом. Возле входа стояли ещё две машины. Одна, чёрная «шестёрка», показалась мне знакомой. Обошёл с кормы – ну, точно, «прямоток». Вот это встреча!
Мы прошли внутрь, в маленькую прихожую. От неё отходил коридорчик, в нём было три или четыре двери – в полутьме я не разглядел. Банщик проводил нашу компанию в отсек, оставив дверь в коридор приоткрытой. Мы расселись по лавкам да диванам раздеваться.
В коридоре послышались шаги и голос. Конечно, я не ошибся с владельцем глубокого баритона, а заодно модного жигулёвского «прямотока». То был Аристарх Андреевич Берзин собственной персоной. Досадный факт, что штанов на мне – уже нет, а простыни – ещё нет, никак бы не остановил меня от выбегания в коридор и раскланивания с любимым доктором.
– Сиде-е-е-ть, бля! Ты, Выбега́лло забега́лло! – рявкнул в левое ухо Джинн.
Колокольчиком зазвенел второй голос. Женский. Не успев толком подняться, я рухнул голой тощей жопой на лавку. Тембр Конфеты я бы узнал среди миллиона других. Даже во сне. Но, то был не сон.
Глава 4
Первое утро новой недели началось отвратительно. Лишь я выбрался из сумрака раздевалки и настроился на обход, как из родильного зала махнул рукой Берзин: зайди, и показал на кабинет. Я проскользнул в его каморку, он ввалился следом и – опять жестом – садись на диван.
– Я понимаю, что тебе будет неприятно это услышать, – с места в карьер ломанул Аристарх Андреевич, – но вы тут на практике. Следовательно, люди подневольные, крепостные. Должны получить зачёт по всем трём специальностям, хирургии, акушерству и терапии. Так? – Я кивнул. – Ну, про акушерство я молчу, – он заулыбался, я тоже. – И по хирургии у тебя тоже проблем быть не должно. – Я вспомнил довольного Лося с кружкой пива в молотоподобном кулачище, и опять кивнул.
– Остается терапия. А это, Миша, беда, – подвижное лицо Берзина приобрело скорбное выражение.
– П-почему? – не справившись с волнением, с трудом выдавил я. В детстве заикался, потом прошло, но иногда, вот в такие скотские моменты, возвращалось.
– Потому что там – заведующая, с которой невозможно договориться. Так что сегодня придётся тебе шагать в терапию.
Я отвернул лицо – скрыть предательски набегающие слёзы.
– На сколько?
– Мне удалось максимально снизить ущерб.
– На сколько? – повторил я.
– Четыре дня. Вечером в четверг сдаёшь дела и возвращаешься к нам.
– Я… я… там новые анализы сегодня придут. И пятерых мне осмотреть нужно, я же планировал – на понедельник!..
– Не беспокойся. Я тебя подменю, – так и сказал, «подменю». Это он – он, гений! – меня, дурака, «подменять» собрался.
Я был уничтожен. Я не представлял себе, как прожить четыре – целых четыре дня! – без роддома, без Берзина, без Громилиной, без Таловой; наконец, без моих патоложных «девулечек». С меня будто взяли – и с живого содрали кожу. В разобранном состоянии спустился в раздевалку. Долго-долго стягивал оперформу, вешал в шкафчик, бесконечно долго натягивал майку с джинсами; привередливо ровняя концы шнурков, зашнуровывал кроссовки. Уловки не помогли. Всё равно я оказался полностью одетым и зашнурованным. Пришлось отшлюзовываться на улицу.
– Перед смертью не надышишься, – обрадовал Джинни. Спасибо, друг, вот и подбодрил.
Терапия была на третьем. На вопрос постовой сестры «куда?», я, не поворачивая головы, махнул рукой, промычал «туда», и как на расстрел побрёл вглубь отделения. На двери в самом конце тёмного коридора висела стеклянная чёрная табличка с белыми буквами:

– Не «о-о», а «о-го-го»! – прорезался верный Джинни. Я улыбнулся одними уголками губ. Стукнул два раза костяшками пальцев по гулко ухнувшей пустотой внутри двери из фанеры, и, не дождавшись ответа, шагнул в неизвестность.
Сразу за едва приоткрывшейся, упёршейся во что-то дверью узкой пеналообразной на гроб похожей комнаты начинался длиннющий стол, окруженный разнокалиберными стульями. Там, где он заканчивался у дальней стены, перпендикулярно стоял другой стол. На нём была навалена куча книг, бумаг; в отвратительном беспорядке, просто в сраче, валялись ручки, старые газеты, журналы; торчали немытые кружки и липкая даже на вид сахарница. По центру в веками не прибираемый бардак врос обсопливленный потёками телефон; ведущий к его трубке шнур недобрая потусторонняя сила с ненавистью закрутила варикозными узлами. Прямо по линии моего воображаемого прицела, прячась за телефонным аппаратом, восседало похожее на старого злого хомяка существо женского пола. То и была «Кумирова О.О.» собственной персоной. Какой же страшный пиздец, рефреном ухнуло в моём бедном мозгу.
– Пароход упёрся в берег, капитан кричит «Вперёд!», как такому разъeбаю доверяют пароход?! – испуганно заверещал несчастный Джинн.
Телефон ожил. Хриплый звук звонка заметался в узком гробообразном пенале от стенки к стенке, срезонировал, давая стоячую волну с тошнотворными обертонами. Отвратительный звонохрип давил истязал мои уши, рождая ощущение физической боли. «Кумирова О.О.», сцапав трубку, низко наклонилась над столешницей, – комковатый провод не давал ей поднести трубку к уху нормальным путём.
– Да-а-а!.. – проорала она точь-в-точь в тональности пыточного звонка телефона, – да-а-а, знаю. Да-а-а, всё остальное потом, я занята, не отвлекайте меня!.. – швырнула трубку, промазала; трубка, болтающаяся на закрученном проводе, долбанулась об стол. Выругавшись под нос, «Кумирова О.О.» водрузила несчастную трубку на рычаги.
– Да-а-а!.. – не меняя интонации, проорала она мне…
Вскоре я вместе с назначенным мне «куратором», миловидной устало выглядящей неопределённых лет докторшей по имени Валентина Ивановна, шёл по коридору отделения.
– Вы надолго?
– На четыре дня. Я, вообще-то, в роддоме работаю.
– Ах, у Аристарха Андреевича? Интересно вам там? – Я кивнул. – Через полчаса введу вас в курс дела. А пока посидите в ординаторской, хорошо? Чаю вот попейте, если хотите.
В ординаторской штук пять шумных голосистых матрон, шурша свёртками со жратвой и гремя чайными бадьями, как раз готовились приступить к ритуалу, составлявшему, очевидно, смысл их жизни в предлагаемых обстоятельствах. За двумя самыми дальними столами, склонившись над историями болезни, скорбно корпели Таня Лисенко и Вера Грязнова. Не обращая внимания на остекленело вылупившихся на меня тёток, я, словно монтировка солидол, пропорол комнату, нацеливаясь прямо на Лисёнка:
– Выйти можешь? – Она кивнула.
– Тань, – взял я её под руку в коридоре, – пойдём, покурим.
– Пойдём.
Мы вышли из корпуса и медленно двинулись по асфальтированной тенистой дорожке в сторону домика главного врача. Дойдя, уселись на «масонскую» лавочку.
– Я не буду, – покачала головой Таня, – а ты кури. – Я кивнул и чиркнул спичкой. Спичка сломалась, горящая головка прилетела мне прямо на штаны. Я хлопнул по ней ладонью, обжёгся. Чиркнул второй.
– Тань, это что за кромешный пиздец такой?
– Это отделение терапии, Миш.
– Нет, Тань, это не отделение, это пиздец.
– Ладно, тогда пусть будет пиздец.
– Лисёнок, как вы тут выживаете?
– Зря ты так. Доктора хорошие… в основном. Помогают.
– А это… – я замялся, подбирая выражение, всё-таки Танька женщина, – …чудовище?
– Ольга Олеговна? – «Говна!.. говна!.. говна!..», взвыл мелкомстительный Джинни. – Ну, какая есть.
– Ладно. Прости, если чего не того сказал. Что-то я Машу не видел.
– Так она с сегодняшнего дня в хирургии.
– Понял, – понуро вздохнул я. – А вы с Грязновой застряли, что ли?
– Ну, мы ж в терапевты собираемся. Нам по профилю.
Из административного корпуса вышел, весь с головы до пят облаченный в свежую, видать, ещё ни разу не стиранную джинсовую пару «леви стросс», мой новый знакомец – золотозубый Колян. Увидев меня, радостно замахал и двинулся в нашу сторону. Я с улыбкой поднялся навстречу. Таня, как и положено даме, осталась сидеть, с интересом разглядывая незнакомого фигуранта.
– Миша, прывэ-э-эт! – признаться, крепкое искреннее рукопожатие меня порядком взбодрило. И правильно, не всё же на свете – дерьмо. «Говна, говна, говна!», на бис включился Джинни. – Как дила, Миша?
– Коля, отлично!
– Ну и харашё-ё-ё, – обрадовался Колян. – Здра-а-а-стуйтэ! – поклонился он Лисёнку.
– Ой, простите, – спохватился я. – Николай. Татьяна.
Колян галантно раскланялся. Таня, едва заметно улыбнувшись, потупила взор. – Не верю! – возопил мой «карманный Станиславский».
– Ваап-шэ-та я нэ Николай…
– А как правильно? – стрельнула неотразимыми глазёнками с поволокой Таня Лисенко.
– Никогайос, – серьёзно пробасил Колян, неожиданно нежно глядя на Лисёнка. – Эта тожа Николай, но па-армянскы.
– Поня-ятно! – снова улыбнувшись, протянула Лисёнок. – Приятно было познакомиться, Николай, – и протянула изящную тонкую ладошку.
Колян бережно заграбастал ладошку с тонкими наманикюренными пальчиками сразу всеми двумя здоровенными волосатыми лапищами; внезапно смутился, отпустил и сделал шаг назад.
– Ну, так мы пошли, Никогайос? – добила и так неспособную к сопротивлению жертву красотка Танька.
– Да…да…да сывыданийа! – только-то и смог выдохнуть Колян.
В палате воняло сыростью, старостью, мочой и скорой смертью. Входящие-выходящие бабушки то и дело хлопали никому не нужной дверью, сидели-лежали на скрипучих кроватях с продавленными сетками, облезлыми мышками сновали в межкроватных проходах, протирали бесполезные очочки, завязывали-развязывали ветхие застиранные косынки, читали старые газеты, сосредоточено жевали пряники, мыли под умывальным краном вставные зубные агрегаты, украдкой доставали спрятанные в тумбочках иконки… Я же почти окаменел подле стены, слился с ней, погрузившись в картины отчаянного безнадёжного последнего дня уходящего Вавилона.
– Ну вот, Михаил Владимирович, – выведшая меня из забытья Валентина Ивановна смотрела выцветшими, некогда карими глазами, – вот наши с вами пациентки. Вы уже ознакомились с историями?
– Да, Валентина Ивановна. Вопрос можно?
– Давайте. – Я наклонился поближе и тихо произнёс: – А почему медикаментозные назначения такие… – я замялся, – … скудные?.. – Она тоже наклонилась и в тон мне, едва слышно: – Да потому что препаратов в больничной аптеке никаких нет. Это жизнь, а не учебники. – Отстранилась, и уже обычным голосом добавила: – Ну, вникайте в курс дела. Будут вопросы, задавайте.
– Кукушкина! Ку-куш-ш-ш-кина27! – как полоумный заорал Джинни. Успокойся, друг, подумал я, – в этой комнате примусов точно не зажигали. Ладно, где наша не пропадала, – я, снова обратив взор к броуновскому движению бабулек, сорвал с шеи и взял наизготовку фонендоскоп, словно ковбой – лассо…
Как только ежеминутно клацающие затвором винтовки электрочасы на стене ординаторской возвестили четыре, я сорвался с цепи и бегом побежал в роддом. Дежурила Громилина.
– Мишенька, ты откуда такой запыхавшийся?
– Из терапии, Мария Дементьевна.
– Это где Кумирова?.. – Я обречённо кивнул. – Вот уж, господи прости, угораздило тебя. Надолго?
– В четверг на волю.
– Ну, держись, что ещё тебе сказать.
– Мария Дементьевна, можно мне сейчас в патоложку?
– Так ты же весь день работал в терапии?
– Мне там дышать нечем.
– Понимаю. Иди, конечно. Тут твой дом родной…
И я через две ступеньки помчался наверх. «Девулечки» приободрились, обрадовались – а уж как я им был рад! Осмотрев всех, кого собирался, я, сев на посту, влез в истории. Всё было в идеальном порядке. Ай да Берзин, ай да сукин сын! Украденная у меня Кумировой жизнь возвращалась с утроенной силой. Привезли двоих по «скорой» – одну в патоложку, одну сразу в родовую. Только мы с Громилиной приняли в жизнь отличного карапуза, как самотёком в приёмное прижурчали ещё две мамочки. Мы разобрались с делами, и в два ночи Громилина отправила меня спать: «давай, Боткин, тебе пора». В семь, лишь только-только я проснулся и успел умыться, заявился Берзин.
– Хочешь хорошую новость? – его смеющаяся физиономия приблизилась к моей. – Вечером в консультации смотрел дочку Кумировой. Она беременна!
– И что? – не понял я.
– Да уж, богадельня повлияла на твои когнитивные способности! – опять рассмеялся Аристарх. – Что?! А то, что теперь – мы банкуем. Ты свободен. Выкупил я тебя! Можешь не возвращаться!
У меня перехватило дыхание.
– Значит, могу никуда не уходить?! – заорал я срывающимся фальцетом.
– А куда тебе идти? У тебя рабочий день! Я не отпускал!
А Громилина ничего не сказала: просто подошла, пригнула мою голову, да потрепала по волосам.
Вечером я вернулся в общагу. Открыл пустую Конфетину комнату. Ждать её раньше полуночи было бесполезно, и я, вымотанный, да вдобавок ещё распаренный горячим душем после смены в роддоме, моментально отключился.
Мы не виделись четыре дня. После памятной бани я по-холостяцки заночевал дома. В воскресенье её не было весь день, и я, трезвый и злой, опять завалился спать в пятьдесят второй. А в понедельник-вторник – не было меня.
Я лежал на боку, лицом к стене. Было липко жарко, окно настежь. Вентилятор на стуле возле кровати басовито гудел, натужно холодя спину срывающейся турбулентностью. Она просто открыла дверь, вошла, не включая света, сбросила платье, прильнула, тихо обвила руками. У меня не было ни малейшего желания спрашивать, где и с кем она была.
– Никогда не думай о том, что ешь и кого любишь, – шепнул Джинн.
Не было ревности. Во мне просто запульсировал родник тёплой нежности. Когда она постанывала, покусывая меня за мочку уха, я думал – вот ведь как странно устроен мир! Я люблю Берзина; он ведёт себя, как если бы я был сыном. Я мечтаю о его женщине. Он же, способный обладать Наталой-Талой по щелчку пальца, предпочел её – моей женщине. Той самой, что сейчас со мной; той, от которой я в эту секунду без ума; той, кого совсем не ревную. Едва справляясь с распирающей меня крутящейся волной, прежде чем совсем потерять рассудок, я вдруг понял: если бы на месте Конфеты прямо сейчас оказалась Натала-Тала, для меня бы ничего не изменилось. Вообще ничего.
– Отпусти голову, – попросил Джинни.
Но я его уже не слышал.
* * *
Следующим утром после чудесного спасения из лап «Кумировой О.О.» судьба в лице Аристарха Андреевича Берзина снова приготовила мне царский подарок. В коридоре, после обхода подозвал к себе, приобнял за плечи, спокойно объявил:
– Держишься молодцом! Пора тебе дальше. С сегодняшнего дня – в операционную ходишь на «кесаря́» без ограничений! Но, смотри, станешь отлынивать от палаты «девулечек» – накажу лишением операционной.
Уговаривать меня было излишне. До этого я бывал в операционной урывками, заходил, как в театр – зрителем; вход на сцену был воспрещён. Теперь же всё изменилось; меня стали брать к столу. Сначала – просто «намытым» и одетым постоять рядом, в са́мом партере, а не на позорной галёрке. Потом – больше. Ассистент мог сказать: а теперь меняемся. Набрасывал на согнутые в локтях руки кусок стерильной марли, и превращался в наблюдателя. А я занимал его место.
Оперировали в роддоме все – и Натала-Тала, и Мария Дементьевна, и, конечно же, сам великий и ужасный. Берзин с Таловой были как те самые «двое из ларца, одинаковы с лица» – похоже, они решали, кто оперирует, а кто ассистирует только на пути от рукомойника к столу. Берзин, когда выпадала участь ассистента, нисколько не расстраивался. Тихим поставленным голосом он вкладывал в меня истину:
– Хирург должен работать на чистом, удобном для манипулирования операционном поле. Хирург отвечает за суть операции, то есть за основной этап. За всё остальное отвечает ассистент. Главных и неглавных у нас нет. Но, если ассистент бестолков, хирургу придётся несладко. Ты меня понял? Раз понял, тогда меняемся.
Берзин уходил в сторону, а я – надо отдать мне должное – без страха ассистировал Натале-Тале. Впрочем, не заблуждался, с чего это вдруг я такой бесстрашный. Причина была не во мне. Просто рядом был Аристарх Андреевич, а с ним любая проблема превращалась в несложное увлекательное приключение.
– Набьешь немного руку на кесаревых, пойдём с тобой изучать аборты, – объясняла Натала-Тала. – Тут у нас операционное поле большое, разрез длинный, контроль полный, света много, видно всё хорошо. А при аборте ты полагаешься лишь на своё мышечное чувство. Пробить острой кюреткой стенку рыхлой матки – плёвое дело. Поэтому, прежде чем переходить к прерыванию беременности хирургическим путём, следует иметь хороший оперативный опыт. А то ведь как бывает – пошли на аборт, сделали прободение, а в итоге нарвались на экстирпацию матки. Будь всегда предельно внимателен. Чем проще кажется манипуляция, тем она коварнее – потому что ты расслабляешься и хуже себя контролируешь. Вот и ляпаешь ошибки. А наши ошибки стоят жизни.