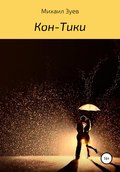Михаил Зуев
Белладонна
Мария Дементьевна относилась ко мне по-матерински. Обычно громкая и неделикатная, в операционной она преображалась – говорила тише всех и, работая со мной, всегда стремилась «подстелить соломку», понимая заранее, где я с гарантией могу напортачить.
– Спокойно, спокойно, не нервничай… – фраза, которую мне доводилось слышать от неё по многу раз за операцию. – Всё хорошо делаешь. Не зажимайся, не бойся. Ты не один. Я подскажу и помогу.
Каждый раз при выходе из оперблока меня охватывала розовая пузырящаяся щенячья эйфория. Хотелось петь, летать, прыгать, танцевать прямо тут, в коридоре. Жизнь, и без того полная, искрилась ещё бо́льшим смыслом. Не было во мне ни заносчивости, ни чванливости – откуда-то внутри начала расти спокойная уверенность: и я на этом свете точно для чего-то хорошего и важного обязательно сгожусь.
* * *
В субботу мы решили с Конфетой поехать к ней домой на два дня. Точнее, решила она.
– Смотри, я три дня подряд не работаю. В пятницу едем ко мне, я по маме и братьям соскучилась!
– Микки, я работаю всю пятницу, а потом ночь с пятницы на субботу.
– Ну вот, вечно ты!.. – Конфета шутливо поджала губки и тут же нарвалась на глубокий дразнящий поцелуй. – Ладно, прощаю. Так и быть. Поедем в субботу! Я за тобой зайду, и пойдём на вокзал.
Знать бы тогда, чем обернётся её «зайду», – сделал бы всё, чтоб субботним утром духу её не нашлось в радиусе километра от роддома! Но я ничего не знал, потому что – знать и не мог.
Ночь с пятницы на субботу проходила спокойно и вяло. Рожать, кроме одной, – нормальнее её трудно было и вообразить, – никто не хотел. Я под формальным ленивым приглядом Берзина около полуночи принял неосложнённые, хрестоматийные, как в учебнике по акушерству для четвёртого курса, роды. Зашёл к «девулечкам», – все безмятежно дрыхнут. Мы с Берзиным жахнули его фирменного кофе. Он пошёл спать, наказав разбудить в четыре. Я шлялся по роддому, придумывая себе работу, но придумать-то было особо нечего. Брала досада – вот ведь, в иные ночи до туалета дойти некогда, а тут столько времени уходит впустую. Меня зажрала совесть. Я уселся в ординаторской за стол – чтобы не было соблазна перейти в горизонтальное положение, – открыл потёртый заслуженный «Атлас оперативной гинекологии» и принялся за чтение с рассматриванием картинок. Ещё два месяца назад толстый солидный том казался жуткой китайской грамотой, а теперь сознание с удовлетворением отмечало то тут, то там знакомые понятные нотки. В четыре в кабинете Берзина прозвенел будильник. Аристарх, свежеумытый и невытертый, роняя с лица и рук на пол капли воды, пробежался по отделению, коротко бросил мне «иди спать», и я с чувством выполненного долга комфортно отрубился в ординаторской до половины восьмого.
В восемь – минута в минуту – нас сменила Мария Дементьевна. Берзин отправился к себе в кабинет переодеваться; общей раздевалкой он не пользовался. И там его, судя по всему, отловил какой-то телефонный звонок, заставив задержаться. Если бы он покинул роддом сразу, ничего бы не случилось.
В восемь часов пять минут за окнами загудел знакомый «прямоток» – то за мужем приехала Натала-Тала. Она заглушила мотор, выпорхнула с водительского сиденья; как наглая молодая девчонка, уселась на горячий капот и стала ждать своего Аристашу.
Я тем временем переодевался в подвале, и ни о чём знать не знал. Не знал я и о том, что в восемь десять к входу в роддом убийственной походкой «от бедра», мимо сидящей на чёрном капоте в чёрных джинсах Наталы-Талы, дефилировала Конфета. Печально: две «альфы» оказались в одной точке пространства в один момент времени. Это обещало проблему.
Проблема не заставила себя ждать. Я вышел из раздевалки и двинулся на улицу, огибая здание. Когда в поле моего зрения оказался главный вход, открылась дверь и на крыльце, потягиваясь ленивым львом, появился ни о чём не подозревающий Берзин. Конфета увидела нас обоих. Дальше случилось страшное.
– Здравствуйте, Аристарх Андреевич! – пропела Конфета, грациозно подскочила к Берзину и чмокнула того в щёку. Потом повернулась ко мне: «Пошли!», схватила под руку и потащила прочь от роддома. За моей спиной сухо треснула пощёчина, раздалось Натальино сдавленное: «Подлец!». Я против воли обернулся. Чёрная «шестёрка» с открытой дверью неподвижно стояла там, где и была. На дороге рядом валялся брелок с ключами. Натала-Тала, убыстряя шаг, на негнущихся красивых ногах брела под уклон улицы. За ней вдогонку, нелепо размахивая руками, бежал Берзин.
Мы с Конфетой шагали к железнодорожной станции. Она молчала. Я тоже. Так вот чем я отличаюсь от Берзина: у меня не было перед Конфетой никаких обязательств. А у него перед Таловой – были. Сначала поведение Конфеты показалось мне отвратительным. Но, включив голову, и осадив эмоции, я понял: да ничего подобного.
Просто она была естественна! Конфета вообще родилась дочерью природы. Дикой занзибарской природы. И вела себя так, как вела: как дышала. Ей всё было к лицу. Когда Берзин тащил её «в номера», должен был, если уж не знать, то хотя бы догадываться о последствиях. Ведь он – большой, мне в отцы годится. Он не догадался. Ошибка. Его ошибка, не её. И уж, тем более, не моя. Поэтому счесть Конфету «маленькой дрянью» я не смог.
Больше того: во-первых, мне было нечего ей предъявить. Во-вторых, мне и не хотелось ничего ей предъявлять. В-третьих, мне до колик её захотелось – так сильно и безрассудно, что сразу стало вообще на всё наплевать. Мы шли в обнимку по старой тенистой улице, застроенной дореволюционными мелкими домишками. Поравнявшись с одним из подъездов, я втолкнул её внутрь, подхватил на руки. Уже мало, что соображая, взбежав по ступенькам, усадил на высокий широкий подоконник последнего этажа.
В электричке Конфета дремала на моем плече. Я втягивал хищно раздувающимися ноздрями аромат волос, мускус духов, благоухание тёплой кожи, – и был счастлив. Не то чтобы благоговение моё перед Берзиным исчезло – нет, то было иное ощущение. Я слишком многое придумал себе, придумал внутри себя, обожествляя Аристарха – по поводу, и без. Но ведь жизнь за пределами роддома не заканчивается. Она там лишь начинается. И Берзин без царской короны оказался всего лишь человеком. Симпатичным. Человеком, которого хотелось пожалеть. А Натала-Тала из богини превратилась в обыкновенную женщину. Такую, какая мне не принадлежала. И её – тоже – очень хотелось пожалеть. И совсем не хотелось выебать.
Это означало: я выздоровел.
Мы высадились на пустынную платформу.
– Знаешь, как найти мой дом?
Я лишь глупо пожал плечами.
– Видишь заросшую железнодорожную ветку? – Я кивнул. – Нужно идти по ней, прямо по шпалам. Сначала будут наши дома, а потом фабрика. Ветка ведёт туда.
– А если нас поезд догонит?
– Какой там поезд! – повисла на моей шее Конфета. – Здесь всё движение – два вагона в неделю.
И мы пошли, дурачась. Конфета, сняв туфельки, голыми ступнями балансировала на раскалённой зенитным жаром рельсе. Я, страхуя её за руку, прыгал рядом по шпалам.
– Отпусти руку, отпусти, я не упаду! – кричала Конфета.
– Ну и что! – орал в ответ я. – А вдруг я упаду?! Так что держи меня, и без разговоров!
– Вот мой дом, – показала Конфета на серую кирпичную пятиэтажку.
– Нормально, – кивнул я.
– Ага, нормально. Нормальная такая сараю́шка. Но нам не сюда.
– А куда?
– В соседний.
– Зачем?
– Ты совсем дурак? У меня дома полый набор: мама, два брата, отчим и собака. Ещё я приехала. Где я тебя спать укладывать буду – с собой в гостиной?! Мы идём к подруге Лёльке. Её сегодня и завтра дома нет. Ты будешь жить у неё.
Перспектива оказаться в постели в одиночестве меня не вдохновила.
– Что ты такой смурной?
– Не хочу спать один.
– Вот глупый! Не хочешь – и не будешь. Я с тобой.
* * *
Два белобрысых семилетних Конфетиных брата-близнеца оказались улыбчивыми, приветливыми и опрятными. Мама тут же усадила нас за стол, налила борща; отчим, слазив в чулан, достал солёные помидоры и самогон. Но рассиживаться было некогда.
– Ма-а-ам, мы купаться!
– А нам, нам можно с Микаэлой?! – перебивая друг друга, затараторили братья.
– Конечно, птенчики вы мои!.. – растаяла Конфета, целуя их в соломенные макушки.
Мальчишки бежали впереди, мы с Конфетой, держась за руки, шли поодаль.
– Поедем на Дальние пруды! – крикнула Конфета. Братья закивали.
– Это где?
– Это две остановки на электричке. Такое место, его все тут любят. Соседей наших наверняка там сейчас навалом.
По пути мы зашли в магазин и взяли литровую бутылку венгерского вермута. Мальчишкам я догадался купить по бутылке «дюшеса». Не доходя с полкилометра до станции, Конфета внезапно остановилась как вкопанная.
– Не хочу на Дальние. Пойдём на карьер.
– Почему?
– Не хочу, и всё. Мальчишки, стойте! Идём на карьер.
В этом была вся Конфета. Её «хочу» внезапным образом сменялось «не хочу». Причины перемен она не понимала. И не хотела понимать. Её следовало принимать такой, какова она есть. Или не принимать вовсе, и тогда – отправляться вон. А что, разве есть другие варианты?!
Она была ненадёжной: я понимал. Она бывала несносной: я принимал. Привязанный обручальным кольцом, я не смог бы прожить с ней и недели: я знал. И что? Нет, не так; вот так – «и чё?!». А ничё! Мне просто было с ней хорошо.
– Ну, что ж такого, что – наводчица, – а мне ещё сильнее хочется!28 – ворчал Джинни.
На берегу безжизненного заброшенного песчаного карьера, бликующего сполохами зеркала коричневатой воды, одиноко подпирал пронзительно синее небо мёртвый ржавый бульдозер. Больше ничего – и никого. Малышня сходу плюхнулась осваивать купальню, а мы разлеглись в тени ненужной груды металла. Открыли бутылку. Стакана не было, пили из горла́.
Терпкий вермут быстро вломил по шарам. Вдобавок, захотелось пить – «розовый» оказался нестерпимо сладок. Но воды у нас не было, а то, что плескалось в карьере, не предназначено для питья.
Я откинулся на спину и рассмеялся.
– Ты чего?
– Ничего. Мне просто хорошо.
– Мне тоже.
– Слушай, – я повернулся на бок, – а ты о будущем когда-нибудь думаешь?
Два бездонных чёрных колодца недоумённо буравили мою щеку.
– Зачем?
– Что – «зачем»?
– Ну, зачем о будущем думать. Оно ведь так и так настанет, думаешь ты или нет…
– Микки, ты хочешь сказать, что вообще никогда не представляешь, ну вот, например, что будет, что произойдёт с тобой через год или через десять?
– Нет. Зачем напрягаться? Оно ведь ещё не произошло.
Жила одним днём. Может, не днём, а даже часом. Или – вообще минутой. И в эту самую минуту она была прекрасна, она была желанна. Всё остальное её не интересовало. Я положил ей руку между ног и закрыл глаза. Она крепко сжала руку бёдрами, прильнула, поцеловала в щеку. Мне не хотелось двигаться, и даже не хотелось жить: остановленное мгновение казалось самодостаточным.
Конфета – она как вермут. Её сладость невыносима. Она пьянит, а вскоре от неё возникает дикая жажда. Маша – она как прохладная вода. Она безнадежно трезва, пресна. Она безвкусна. От неё вскоре холодом ломит зубы. Если бы было можно – взять их двоих, соединить, замешать – дикий, безумный, обжигающий адский, ледяной райский – коктейль! И пить, пить… пить! – пить его, не останавливаясь даже чтоб вздохнуть! Увы…
– Слушай… – коснулся я губами душистой кожи шеи; она лишь ленивой тигрицей лизнула меня в щеку, – слушай, а какая у тебя группа крови?
– Чет-вёр-та-я… – прошептала.
– А резус?
– По-ло-жи-тель-ный… – продолжала она дурачиться, выпуская звуки по слогам.
– Значит, ты универсальный реципиент.
– Эт чё такое?
– Да так. Медицинское понятие.
– И что означает?
– Означает, что тебе можно переливать любую кровь. Тебе любая подойдёт.
– Прикольно… – протянула Конфета. – А у тебя?
– А у меня – первая, резус-отрицательная. Я универсальный донор.
– Это как?
– Ну, мою любому перелить можно. Не отравишься.
– А-а-а…
Вот же свели пути небесных колесниц. Универсальный реципиент и универсальный донор. А ведь так, в сущности, и есть. Упасть и не встать.
– И ещё… – прошептал я.
– А?..
– Ты долго там мою руку держать собираешься?
– А чего?
– А того… – мальчишки, звонко оря, плескались в карьере, – …пошли за бульдозер!
– Не пошли, – дыхнула она мне в ухо терпкой сладостью вермута, – а по-пол-зл-л-ли!..
В час ночи мы, наконец, утихли на сбившихся в ком простынях. По потолку плясали незнакомые тени. Конфета, лёжа на боку, отвернулась, отстранилась от меня, и я мог теперь сколько угодно, не скрываясь, наслаждаться видом её божественного стана. Стана, никогда не бывшего моим. Принадлежавшего всем – и никому.
Я выкурил на кухне половину плохой невкусной сигареты, выпил тепловатой воды из-под крана, и меня незаметно повело в сон. Тени на потолке стали светлей, прозрачней – будто там открылось окно или осветили невидимый до этого экран. Пошли сполохи, мерцания, блики. Постепенно стали складываться в картины.
Я никогда не был заграницей. Да и кто бы меня туда пустил? Вот и сейчас – на практику в Будапешт уехали «достойные», а мы, обычные, оказались в Григорьевске. Но я же постоянно смотрел «Международную панораму» и «Клуб кинопутешествий» по ЦТ. И телевизор у нас дома был цветной, за жуткие шестьсот пятьдесят рублей – отец оформил его три года назад в кредит; теперь кредит выплатили и гудящий пахнущий озоном ящик стал весь наш. И я стал узнавать картины на потолке. Вот «Золотые ворота». Значит, Сан-Франциско. Вот Сиднейская опера. Это Австралия. Вот Эмпайр-стейт: Нью-Йорк…
– Это – скоро – твоя жизнь… – шептал мне, засыпающему, балансирующему между «вчера» и «завтра» верный хранитель Джинни. – Найди её. Возьми её. Разреши ей быть. Не ошибись.
– В чём? – безразлично промолчал я.
– За окнами твоей нынешней реальности нет, и не будет Эмпайр-стейта…
* * *
С утра пораньше в понедельник в больницу прилетела депеша горисполкома: в порядке шефской помощи в кратчайший срок обеспечить, бля, сенокос в подшефном совхозе «сеноко́сцами»! Только не пауками, а человеками. Сенокосцев в штатном расписании медучреждения отродясь не было. Смекалистый главврач вызвал смекалистого Лося и твёрдо сказал: написано «обеспечить» – значит, будем обеспечивать! Лось подошёл к делу творчески: кинул клич «кто?!». Конечно же, в нас он не ошибся. Перспектива провести три дня в деревне, на заливном лугу, первый раз в жизни с настоящей косой в руках казалась экзотичной. Тем более, Лось, хитро усмехнувшись, выдал непонятную – в момент произнесения – фразу:
– Ну и вообще, мы все три дня – на самообеспечении.
Фраза ментально расшифровалась в среду утром, перед самым отъездом. Когда мы уже сидели на «масонских» лавочках перед корпусом главврача, свалив потёртые рюкзаки в кучу, а отправленный за нами из села потрёпанный «зилок», завывая чадливым мотором, уже въезжал на больничную территорию, Лось махнул нам с Лёшкой:
– Пойдём, поможете!
Мы зашли на хозсклад. Лось снял навесной замок с неприметной двери, и мы принялись перетаскивать в кузов грузовика всякие нужные вещи. Среди них были мешок с картошкой, мешок с перловой крупой, полмешка хлеба, три картонных коробки с тушёнкой, несколько котелков и кастрюль, алюминиевые миски, ложки, вилки, и ещё всякая мелочёвка.
Самую важную ношу Лось не доверил никому. В последнюю очередь он лично вынес со склада шестилитровую бутыль с чистейшим прозрачным содержимым – столь чистым и столь прозрачным, что залитая под горлышко ёмкость на солнце прикидывалась пустой.
– Ого, серьёзно ты выступил… – протянул я. – Зачем нам так много? – Я натужно считал в уме: Лось – раз, Драбкин – два, Юрка – три, Лёшка – четыре, я – пять, Азат – шесть, Мамед… Мамед – хуй с ним, он не пьёт. Шесть рыл, шесть кило спирта, это по кило на брата, пять бутылок водки на нос на три дня. Кони двинуть, что ли?
– Ты о чём? – хохотнул Лось.
– Про спирт.
– Ты не понимаешь. Это валюта. Местные маму за неё продадут!
– А если останется?
– Ну, тогда обратно привезём! – Лось хитро скривился, словно я спросил его об инопланетянах.
– А еда зачем? Мы же в деревню собрались? – Лось уставился на меня как на «УО»29.
– Ну да. В деревню. Так там жрать вообще нехуй!
Я не нашёлся что ответить. Раньше деревню мне доводилось видеть только в телевизоре.
Улыбаясь непонятно чему и сразу всему, я развалился на дощатом полу в кузове трёхосного грузовика системы «ЗИЛ-вездеход», подложив под голову руки и рюкзак. Пока особо не трясло – мы всё ещё ехали по шоссе. Лось, как самый значительный, и Юрка, как самый ажурный, оккупировали места в кабине. А нам – мне, Лёшке, Азату, Мамеду, и похожему на Пьера Ришара стоматологу Драбкину достался ничем, кроме низеньких кузовных бортиков, не ограниченный простор. Солнце, кочегарившее по макушкам из зенита, интенсивно изничтожало йодопсин в наших колбочках30, ветер же не охлаждал горячих голов, а лишь умудрялся трепать вызывающе короткие стрижки. Мы выдвигались в неведомую сказочную страну сенокоса.
– Ветер в харю, я хуярю! – и у Джинна тоже наблюдалось отличное настроение.
– Са-а-ань! – проорал я Драбкину, борясь со свистом ветра в ушах, – ладно мы, мелюзга, а тебя-то чего забрили?
– Меня не забривали! – заорал в ответ Саша Драбкин. – Я сам согласился!
– Заче-е-ем?
– Уста-а-ал! Перекантуюсь с вами пару-тройку дней на природе! Витька – друг, мне с ним никогда не скучно. Будешь?! – он протянул флягу.
– Что это?
– Коньячный спирт! Вторая перегонка, семьдесят «оборотов»!
– Чё, неразбавленный?
– Его разбавлять – всё равно что в чай ссать! Там дубильные вещества. Рот полоскать раз в день – никакой парадонтит тебя в жизнь не догонит!
Я немного влил из фляги под язык, погонял жидкость языком от щеки к щеке. Обожгло так, что тут же выплюнул.
– Первый раз пробуешь?! – Я кивнул Драбкину, часто, по-собачьи дыша открытым ртом. – На, запей! – Сашка пододвинул ко мне канистру с водой.
Тем временем «зилок» съехал с шоссе и, козля задними мостами, понёсся по пылящему сухому просёлку. Драбкин привстал на колени, замолотил кулаком по кабине. Машина приняла вправо и остановилась.
– Чего там? – высунулся из кабины Лось.
– Поссать бы, – спокойно предложил Драбкин.
– Понял, не дурак. Привал! Девочки налево, мальчики – на-пра-а-а…во!
Я неуклюже поднялся на ноги, пошатнулся от весёлого спирта, потирая слегка оббитую о пол кузова жопу. До кустов далеко, да и прятаться не от кого, – разве что от каких-то мелких птичек, кучей обсыпавших телеграфные провода. Облегчившийся Лёшка вдруг замер, глядя на птичью стаю.
– Ни хуя себе, сказал я себе…
– Чего, Лёх? – пробасил Лось.
– Ты смотри, как сидят!
– Как-как? Кучно сидят…
– Да не, я не про то! Ты на расположение смотри!..
– Смотрю… И чего?
– Вить, ты музыке учился?
– Нет.
– А-а-а, тогда понятно.
Тут Драбкин пригляделся к птицам и заорал:
– Точняк, Лёха, точняк! Как ты разглядел?!
– Да что вы там нашли, Штирлицы? – Лося начало подъедать любопытство.
– Ну, смотри, если провода представить как нотный стан…
– Какой стан? – переспросил Лось.
– …нотный, ну, то есть нотные линейки, а птиц как значки нот, то получится мелодия.
– Лёх, не томи, – попросил я. Тоже никогда не учился музыке и не знал никаких таких нот.
– Они битловской «Естэдэй»31 сели!
– А-а-а… – протянул Лось. – Бывает. Может, и не такое ещё бывает.
– Ну да, чётко «въезд в тоннель» получился, – прищурился Саня Драбкин.
– Причём тут тоннель? – опять не врубился Лось.
– Да шутка это. Я, когда учился, были у меня знакомые ребята, в кабаке нашей гостиницы «Москва» лабали. Так они слов не знали половины песен. Вот и гнали вместо «естэдэй» – «въезд в тоннель»! – Я заржал.
Мы расселись по прежним местам, машина тронулась.
– А ты где учился? – спросил я Драбкина.
– В калининградском. Это Восточная Пруссия, бывший Кёнигсберг. Десять лет как закончил.
– Понятно. Сань, у тебя ещё осталось?
– Осталось. Дать? – Я кивнул.
По неопытности микроскопическими глоточками смакуя огнеподобный коньячный спирт, я полировал взглядом, не отягощённым резкостью, убегавшую от меня дорогу. Можно было повернуться, опереться о крышу кабины и встречать дорогу лицом. Но было просто откровенно тупо лень. Меня быстро забрало. Чем меньше глотки́, тем больше попадает под язык; там и всасывается. А кровоснабжение под языком такое, что спирт сразу бомбой летит мимо печени в большой круг и немедля бьёт по мозгам. Отец рассказывал, у офицеров царской армии было соревнование, на двоих – называлось «аршин» или «напёрсток». Наливали водку в швейные напёрстки, ставили в две линии – кто кого перепьёт. Вроде ещё ничего не выпили, а уж оба под столом.
От коньячного спирта проснулся аппетит. Жрать было нечего. Я залез в хлебный мешок, отломил от белого батона ещё не успевшую зачерстветь хрустящую поджаристой корочкой горбушку, и стал жевать. В голову лезло всякое. Кто я, зачем я, куда… Это не ко мне, нет, нет, отстаньте, пусть Джинни отдувается, – он же как раз умный. Но Джинн сейчас был явно не при делах.
Кто я? Студент. Почти врач. Два года, и выпуск. Шеф на кафедре, весь на понтах, обещал аспирантуру и досрочную защиту через год. «Тебе – без проблем». Только глаза странным образом бегали. Я ведь ему уже для одной главы докторской материал собрал, за два-то года. За следующие два – ещё для двух наберу. И писами по воде вилано, дорогой товарищ Дёмин, что вы собираете – себе кандидатскую, или не совсем себе докторскую.
Вопрос два. Зачем я? Вот прямо сейчас – чтоб лежать на соломе, пить спирт, стучать молодым сильным сердцем и дышать, глотая ветер. Это так объемлюще: дышать; себя чувствовать, – налито́го силой, молодого, пышущего здоровьем. Ещё зачем? Любить. Я закрыл глаза. Три женщины, три мечты, три отрады, три мои надежды незримо сели вкруг меня.
– Абдулла, у тебя ласковые жёны, мне хорошо с ними!32 – охальник проснулся, насосавшись в моей голове свежей неразбавленной спиртягой.
Раньше знал: тепло – не для меня. Салют, Ласточкина! А теперь – нет! Дудки! Мир стал моим. Мир стал – для меня. Мир встал на мою сторону. Вы сделали это. Вы, трое. Даша, Микаэла, Маша. Никто другой. Только вы.
– Хорошая жена, хороший дом, что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?.. – да ты поэт, Джинни. Грузовик резко тормознул. Меня, проелозив по полу, приложило макушкой о перегородку между кабиной и кузовом. – Приехали, – подтвердил Лось, грузно спрыгивая на землю. Три женщины неохотно поднялись и скрылись в укромном уголке моего «я». Помахали на прощание: не грусти, мы тут.
Вездеход, чуть ли не по ступицы утопая в грязи после вчерашнего дождя, стоял враскоряку на подобии дороги посреди окраинной деревенской улочки. По обе стороны – садики, заборы, домики. Но то не для нас.
– Сюда, – махнул рукой низкорослый шофёр, похожий на шелудивого дворового кобеля. Я поднял взгляд и обомлел. Мы стояли перед покосившимся деревянным срубом чёрного цвета. Чёрным он стал, потому что правая часть когда-то горела и закоптила собой всё остальное. Стёклами в оконных рамах давно не пахнет. Ставнями тоже. Дом оказался неожиданно высоко посаженным, стоящим, словно на сваях. Крыльцо целое, но входная дверь болтается на одной петле. Гуськом, пока без поклажи, мы зашли внутрь.
Там было две комнаты. Одна сгорела: от четырёх стен осталось две. Вторая чудом сохранила все четыре. В ней гужевались восемь некогда никелированных кроватей с металлическими сетками. Ни матрасов, ни подушек, ни тем более одеял. В полу нет трети досок – очевидно, они просто сгнили и повылетали, как зубы из стариковской челюсти. Под полом, не боясь нас и вообще никого, медленно и степенно разгуливали куры.
– Бля, что за бомжатник! – с отвращением выдавил Юрастый. – Мы тут вшей не словим?
– Откуда вши? – отозвался Драбкин. – Для вшей бельё нужно, одеяла… А тут кроме металла и нет ничего.
Лось бросил взгляд на потолок:
– Ну да, не Монте-Карло. Однако крыша есть. Вроде не дырявая. Лежанки есть. Место для огня тоже есть. И жратва есть. И не только жратва. Это ведь ты спрашивал, Миха, зачем нам еда? – Я смущённо кивнул. – Личный состав, слушай мою команду! Раз-з-гружаться, рас-с-полагаться! Испол-л-нять!
Мы повеселели и в три минуты перетаскали в избушку припасы и рюкзаки.
– Так, – постулировал алю́мня33 Калининградского мединститута имени Иммануила Канта стоматолог Драбкин, – Вить, ты трёхлитровую банку не забыл?
– Не, – мотнул головой Лось, – не забыл.
– Тогда я за водой, – Саня взял ведро и вышел.
– Зачем банка? – спросил Лёха.
– А ты не понял? – улыбнулся Лось. – Сейчас поймёшь.
Драбкин вернулся с полным ведром:
– Приступим.
Саня аккуратно залил в банку чуть больше половины чистой воды. Лось открыл спиртовую бутыль.
– Лёха, – кивнул Драбкин в сторону спиртовой бутыли, – лей, только очень-очень медленно. Тонюсенькой струйкой. А я буду мешать. Миха, сходи, поищи кирпич.
«Зачем?» – подумал я. Но пошёл. Нашёл и принес. Когда мутноватая свежая смесь дошла до краёв, Драбкин, аккуратно подцепив за ободок, поставил банку на дно наполненного водой ведра. Не отпуская банку левой, протянул ко мне правую:
– Кирпич давай.
Я отдал кирпич, Саня положил его на горло банки.
– Спирт легче воды, банка выталкивается. Сама смесь после разведения горячая, реакция образования гидратов резко экзотермическая. А так у нас за счёт груза кирпича получается устойчивый холодильник, и банку наверх не выпихнет.
– Закон Архимеда! – догадался я.
– Именно! – рассмеялся довольный Драбкин. – Теперь надо за десять минут пару-тройку раз слить из ведра тёплую, доливая наш импровизированный холодильник студёной колодезной водой, и продукт готов.
– Ты шаман! – с уважением сказал я, похлопывая его по плечу.
Картошка в предусмотрительно привезённом Лосем котле сварилась быстро. Мы взрезали несколько банок тушёнки, предварительно немного нагрев их в углях, и быстро выпили по первой. Тут же налили по следующей.
– Ну, за «лося́»! – провозгласил Юрка, и приступил к процессу:
Хочешь – верь, хочешь – не верь,
Где-то рядом бродит зверь.
Не в лесу живёт дремучем,
В русском языке могучем.
Этот зверь зовётся «лось» —
Издавна так повелось.
Пусть с тобою будет «лось»,
Чтобы елось и спалось,
За троих чтобы пилось,
Чтоб хотелось и моглось,
Чтобы счастье не кончалось,
О хорошем чтоб мечталось,
Чтобы дело удавалось,
Чтобы всё всегда сбывалось.
Здесь мой тост закончился́,
Выпьем дружно за лося́!
После четвёртой мне захотелось облегчиться. Я вышел через отсутствующую дверь, спрыгнул с крыльца и сделал несколько шагов туда, где некогда был сад, а теперь стояли, моля небо о пощаде, остовы сгинувших в пожаре деревьев. На обратном пути в моём поле зрения возникли бродящие под избушкой куры. Разбуженный спиртом первобытный охотник вылез из подсознания, прицелился и прыгнул. Квохчущая топорщащаяся белыми перьями тушка билась под руками. Я поднялся и коротким движением свернул добыче шею. Она ещё пару раз дёрнулась и затихла. Из отсутствующей калитки за моей охотой наблюдал морщинистый хромой грязный с головы до ног мужик.
– Вы… таво… птицу мою… башку ей… ну… свернули. – Я приблизился к аборигену, бросил куру оземь и заорал: – Прости, мужик! Прости! Пойдём, выпьем! – подхватив одной рукой добычу, а второй мужика, двинулся в избу.
Короткое время спустя мужик по имени Гаврила расцвёл, порозовел и подобрел. После пятой – ему, как опоздавшему, наливали без пауз – Гаврила вертикализировался, схватил добытую мной курицу:
– Я… я домой… две минуты!.. бабе скажу, ощипала чтоб и супчику нам сварила!..
Суп очень пригодился утром. А пока гулянка набирала гусеничный ход. Поняв, что мне хватит, я скрытно выполз на улицу и сел на крыльцо. Через пару минут рядом со мной опустился Драбкин.
– Что, Мих, всё?
– По крайней мере, на сейчас, Саш.
Гаврила в хате орал-надрывался:
– Да я вам… да курей… да скок хо́чите!.. На-а-ливай!
– Чего задумчивый такой? – тихо спросил Саша Драбкин. Мои красавицы молча захлопали длинными пушистыми ресницами. Всё равно отвечать за всё должен был я.
– Не пойму, что я тут делаю.
– Вот ты о чём, – вздохнул Драбкин. – Серьёзно.
– А скажи, Сань! Что дальше?
– Понимаю тебя…
– Ты же десять лет как закончил. Мне ещё два года учиться. Значит, ты на двенадцать лет старше. На целую жизнь! Значит, знаешь, – что там?!
– За поворотом? – состроил Драбкин грустную Ришаровскую улыбку. – А ты точно хочешь, чтобы я сказал? Не испугаешься?
– Хочу, Сань! Очень хочу. И выпить хочу.
– Сейчас всё организую – и выпить, и рассказать. – Драбкин встал и исчез в пьяной избе. Вернулся с двумя до половины налитыми стаканами, отдал один мне; сел опять рядом. – Так вот. Дальше всё зависит от того, что у тебя есть.
– Ты о чём? – не врубился я.
– Сейчас поймёшь. У тебя родители кто?
– Люди…
– Я понимаю, что люди. Работают где? Занимаются чем?
– Мать… – я внезапно запнулся, но тут же исправился, – …мама учитель биологии в школе. А отец инженер на заводе.
– А как же тебя в первый мед-то занесло, в королевство кривых зеркал?
– Хотелось.
– С первого раза поступил?
– Ну да. Даже один балл набрал сверху над проходным.
– Ты случаем не отличник?
– Отличник.
– Понятно, – Драбкин замолчал, словно собираясь с мыслями. – Ясна твоя история. На мою похожа. Ничего хорошего тебе не скажу. Будет жизнь на общих основаниях. Понимаешь, – его тон изменился, стал жёстким, – все твои достижения ничего не стоят, если за тобой нет локомотива.
– Кого-кого?
– Локомотива. Того, кто будет тебя по жизни толкать. Будет выручать. Будет делать первым среди равных. Знаешь такую формулировку? – Я кивнул. – Это как в анекдоте: «Может ли сын полковника стать генералом? Нет, не может. У генерала есть свой сын». Самое обидное, Миш, что ты-то про себя знаешь: ты можешь. И ты действительно можешь, тебе не снится. Но потолок твой – низко над головой. На следующий этаж тебе не зайти. Хотя…
– Что «хотя»?
– Есть варианты подняться выше. И даже не одним этажом.
– Какие?
– Продать. Жопу или душу. А то и обе сразу. Но и тут без гарантий. Потому что на каждую хитрую жопу обязательно найдется хуй с винтом.
– Что же делать, Сань?!
– «Мне скучно, бес. – Что делать, Фауст…». Для себя я вопрос решил. Нашёл всё здесь. Там, где я. Здесь и сейчас. Тут меня никто не превзойдёт. Мне хватает.
– За окнами твоей нынешней реальности нет, и не будет Эмпайр-стейта… – вспомнил я приснившегося Джинна.
– А если не хватит, Саш?
– А если не хватит, я себе хваталки с хотелками поукорачиваю. Вот и все дела.
Начало смеркаться. Гаврила тем временем сбегал домой за самогоном. Когда мы вернулись в комнату, все уже лежали на железных сетках, кроме Лося и Мамеда. Загруженный Гаврила в несознанке свернулся калачиком на полу. Мамед сидел молча, сфинксом глядя в чёрную даль сквозь отсутствовавшие оконные стёкла. А Лось, со стаканом мути в лапище, ушёл в себя.