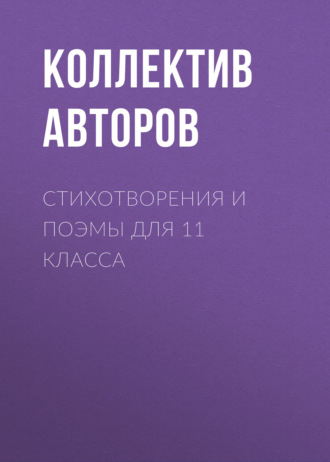
Владимир Высоцкий
Стихотворения и поэмы для 11 класса
НОBЫЕ СТИХИ
НОBЫЙ ПОЭТ
Старый корвет – самый юный и модный
тысячу лет.
Вышел на улицу без намордника
старый поэт.
В ужасе дети. Полыми флейтами
свищет скелет.
Вдруг проклянёт он наше столетие,
страшный поэт?
Мэтр партизанит хромой куртизанкою
под марафет.
Танки похожи на запонки
в грязном снегу манжет.
Ежесекундно рождается заново
новый поэт.
В жизни для женщин, в хохоте встречных
смерти ища,
старый поэт, ты бессмертен и вечен,
как человеческая душа!
Душа народа на предъявителя.
Возраста нет.
Где моя вера, шар из финифти?
Слово в зените через запрет?
Новые русские, извините,
я – старый поэт.
ОЗЕРО ЖАЛОСТИ
Твои очи – Женевское озеро.
Запрокинутая печаль.
Кто-то бросил? Сама ли бросила?
Жаль. На жизни написано: «ЖАЛЬ».
Вспышки чаек, как приступы боли,
что ко мне, задышав, спешат.
Точно пристальные магнолии,
украшающие ландшафт.
Сплющен озера лик монголоидный.
Вам в душе не летать уже…
Нелетающие магнолии,
или парусник в форме «Ж».
Упредивши мужские шалости,
пережив успех и позор,
мы спускаемся к озеру Жалости,
может, главному из озёр.
Жизнь истоптана, как сандалии.
В диафрагме люди несут
это чувство горизонтальное,
сообщающееся, как сосуд.
Вздёрни брючный манжет, точно жалюзи!
И летит, взяв тебя в полон,
персональное озеро Жалости,
перепончатое, как баллон.
Жаль, жалейка не повторится!
Жаль – Кустурица не Бежар,
жаль – что курица не жар-птица,
жаль.
Жаль прокладки, увы, не лампадки,
озаряющие алтарь.
А шарпея, смятого в складки,
что, не жаль?
Жальче, что моей боли схватки
тебя бросят в озноб и жар?
Почему это всё продолжается,
как элегия Балтрушайтиса?
Кто у чаши отбил эмаль?
Мы устали жалеть? Пожалуйста!
Нету озера! Нету жалости!
Опустите брючные жалюзи.
Проживём без жалости… Жаль.
Понимаю, есть женские козыри,
шулер некая, точка ru! —
шулер, некая точка рю,
чашу лермонтовскую допью…
Тебе фото Женевского озера,
точно зеркальце, подарю.
ОТКАТ
Благодарю тебя за святочный
певучий сад.
Мы заменили слово «взяточник»
на благозвучное «откат».
Мы в мировом правопорядке
живём фарцой.
С нас Бог берёт, как пчёлы взятки,
пыльцой.
Как хорошо в душе, и в лимфах,
и в голове.
Господь мне посылает рифмы,
себе взял – две.
Отказ от родовой фазенды.
Отказ от сдачи на лотках.
Откатывающиеся проценты.
В иные времена – откат.
А по ущельям и аркадам
акант цветёт.
Я научился жить откатом,
отказом от
экономических загадок,
пустых задач.
Ночь открывается закатом!
Люблю закат!
Откатываются тревоги,
от волн откат.
Откатывающиеся дороги
ведут назад.
Отряд ушёл беспрецедентно:
четверо ничком лежат.
Господь забрал себе проценты.
Откат…
* * *
Я хочу Тебя услыхать.
Я Тебя услыхать хочу.
Роза, ставшая усыхать,
шорох вечности обретя,
мне напомнит каракульчу.
Звук – пустышка, белиберда.
Стакан, звякнувший по кольцу.
Я хочу услыхать Тебя,
прядь, что нотным ключам под стать,
и кишку, что бурчит опять, —
я хочу Тебя услыхать —
блузки шелесты по плечу…
Всю Тебя хочу.
СОСКУЧИЛСЯ
Как скученно жить в толпе.
Соскучился по Тебе.
По нашему Сууксу.
Тоскую. Такой закрут.
По курточке из лоскут,
которую мы с Тобой
купили на Оксфорд-street.
Ты скажешь, что моросит…
Скучаю по моросьбе.
Весь саксаулочный Крым,
что скалит зубы в тепле,
не сравнится с теплом Твоим.
Соскучился по Тебе.
По взбалмошному леску
с шлагбаумовой каймой,
как по авиаписьму,
отосланному Тобой.
Соскучился по шажку,
запнувшемуся в дому.
Соскучился по соску,
напрягшемуся твоему.
Всю кучерскую Москву
ревную я потому,
что жили мы пять минут,
и снова опять во тьму!
И нас спасти не придут
ни Иешуа, ни Проку-…
Все яблочки из прейску-
червивые, точно Q.
Угу!
Я – совсем ку-ку!
Сейчас заскулю как су-
ка бескудниковская! Хочу
замученные жемчу-
жины серых Твоих глазищ!
Ты тоже не возразишь,
что хочешь на Оксфорд-street.
Гитара в небе летит.
При чём она? А при том!
Сказал мне Андре Бретон
о том,
что летит она,
похожая на биде!
Паскуды! Пошли все на!..
Соскучился по Тебе.
Соскучился и т. п…
ПРОЩАЙ, САЙГАЧОНОК!
Вертолётной охоты загадка —
тень, скакнувшая по холмам.
Как глазастый детёныш сайгака,
умерла Франсуаза Саган.
Нынче кажется несуразно —
когда мне, учащая пульс,
ты представилась: «Франсуаза»,
как сказала бы – «Здравствуй, грусть».
Стала горьким слоганом фраза.
Мне хотелось всего и сразу.
Я обидел тебя, Франсуаза.
С длинноногой ушёл, как хам.
Мы с тобой – скандальные профи,
персонажи для PAL/SECAM.
Виноватую чашечку кофе
не допью с Франсуазой Саган.
Кеды белые, как картофель
ежедневных телереклам.
Кто вмонтирован в современность —
Магомет или Иисус?
Нашей дезе: «Да здравствует ненависть!»
отвечаешь ты: «Здравствуй, грусть».
Нашим дням, ты сказала бы – полный,
не Великий пост, а постец.
Сайгачонку сломали крестец.
Абажур протрезвевший вспомнит
твою фразу: «Bonjour, tristesse».
Я теперь брожу по Парижу,
Грусть нелепа, как омнибус.
Всё прекрасно и не паршиво.
Наспех с кем-нибудь обнимусь.
Вдруг ты выглянешь, сайгачонок,
и в глазах твоих огорчённых —
Bonjour, грусть…
Там Гольбейн пьёт с Куртом Кобейном…
Тома Круза ждёт в гости Пруст.
Все обиды теперь – до фени…
Точно кайф мечты наизусть,
мне над чашечками кофейными
повторяешь ты: «Здравствуй, грусть».
Инакомыслие кокаина.
Ты простила. У ангелов стресс.
Мне прощаться с тобой наивно.
До тебя лишь один присест.
Груз души, что в тебе повинна,
тяготит. Абажур нетрезв.
Прощай, грусть. Твой «bonjour, tristesse!»
Как ты там? С кем шнуруешь кеды?
Я от ужаса отшучусь:
«Сайгачонок, бонжур, покедова!»
Прощай, грусть!
ПЛОХОЙ ПОЧЕРК
Портится почерк. Не разберёшь,
что накарябал.
Портится почерк. Стиль нехорош,
но не характер.
Солнце, напрягшись, как массажист,
дышит, как поршень.
У миллионов испорчена жизнь,
воздух испорчен.
Почки в порядке, но не понять
сердца каракуль.
Точно «Варяг» или буквочка «ять»,
тонет кораблик.
Я тороплюсь. Сквозь летящую дичь,
сквозь нескладуху —
скоропись духа успеть бы постичь,
скоропись духа!
Бешеным веером по февралю
чиркнули сани.
Я загогулину эту люблю
чистописанья!
Скоропись духа гуляет здесь
вне школьных правил.
«Надежды нету – надежда есть»
(Апостол Павел).
Почерк исчез, как в туннеле свет.
Незримый Боже!
Чем тебя больше на свете нет —
тем тебя больше!
СЕМИДЫРЬЕ
В день рожденья подарили
мне заморский дылбушир.
Сальвадорье. Семидырье.
Трёх вакханок чёрных дыр.
Что пророчат их проделки?
Чтобы вновь башку разбил?
Кабинет мой в Переделкино
свищет сквозняками дыр.
В каждой женщине – семь дыр:
уши, ноздри, рот и др.
Но иного счастья для
есть девятая дыра.
Автор в огненном тюрбане
продуцирует стриптиз —
гениальный Мастурбатор?
Фиолетовый флейтист?
Праздник – шумная Ходынка.
Но душа заштопана;
закупоренная дырка.
Кто бежит за штопором?
Ищет рай душа Яндырова,
потеряв ориентир.
Что в подарок мне вкодировал
гений, прародитель дыр?
Сбросьте иго истеричек!
Дар – возможность стать собой.
Супернеэгоцентричность —
быть дырой.
Радырадырадыра —
возрождаемся, даря.
Сталин – Дали семинарий.
Что же, Господи, нам делать?!
И какое семидарье
жить с звездою № 9!
* * *
Памяти Алексея Хвостенко
Пост-трупы звёзд.
Отрубился Хвост.
Прохвосты пишут про Хвоста.
Ворчит святая простота
из-под хвоста.
Звезда чиста.
Прошу Христа
понять Хвоста…
Бомж музыки над площадью Восста…
ты вроде пешеходного моста,
пылишь над нами, в дырках, как бигудь…
Забудь.
Прости короткой жизни муть.
Мети бородкой Млечный Путь.
BЕСЁЛЕНЬКИЕ СТРОЧКИ
И потом Тебя не будет.
Не со мной. А вообще.
Никто больше не осудит
мой воротничок в борще.
Прекратится белый холмик —
мой и твой ориентир.
Превратится в страшный холод
жизнь, что нам я посвятил.
Оказалось, что на деле
всё ушло на пустяки.
Мы с Тобою не успели
главного произнести.
Превратится в дырку бублик,
всё иное не стерпя.
А потом меня не будет.
Без меня. И без Тебя.
ПРЕМЬЕРА
Крик прорезал великолепие
смятых ужасов. Се ля ви.
Чехов умер от эпилепсии
на премьере фильма «Свои».
Умер парень с фамилией Чехов:
фильм – от ужасов жизни суд.
Не до смехов. Не до успехов.
Люди в саване тело несут.
Клочья пены эпилептической.
«Скорая» торопится, но без раболепия,
полицаю в пузо эпилептическое
тычет ножиком эпилепсия.
Вы скажите, актёр Евланов,
гениально сыграв простоту,
почему страшней всех экранов
смерть глядит в четвёртом ряду?
Кем он был? Ничего достоверного.
На фасаде лестница, как порез.
В день рождения Достоевского
вдруг прозреем через болезнь?
Он пришёл без друга, без женщины.
В небеса, как дуга троллейбуса.
Из процентщины, из прожженщины
вырывается эпилепсия!
Я стою, представитель плебса,
мну фуражечку очумело.
Продолжается эпилепсия.
Это ещё премьера.
ДОМ ОТДЫХА
Озеро отдыха возле Орехово.
Шахматно воткнуты в водную гладь
белые бюсты – кто только приехал,
бюсты из бронзы – кому уезжать.
Быть отдыхающим – это профессия.
Рядом летают тарелки борща.
Сушатся трусики фильдеперсовые —
всё сообща.
Утром журфиксы. Журчанье Вивальди.
А за стеной
слышно, как писает в умывальник
трижды герой.
В небо свинцовое запускаются
детям шары,
будто качают вишнёвые яйца
в небе слоны.
Не рокируется. Не киряется.
Скорби бабуль.
Ты – золотая, словно кираса.
Скоро – буль-буль…
* * *
Люблю неслышный почтальона,
вечерним солнцем полный напослед,
прозрачный, словно ломтики лимона,
пронзительный велосипед.
ИBАН-ЦАРЕBИЧ
Нагни позвоночник ликующий.
Когда, безоглядно и древне,
Тебя волшебной лягушкой
начну превращать в царевну.
Ю. Д.
Юрий Владимирович Давыдов.
Смущал он, получив «Триумф»,
блатною шапочкой ликвидов
наполеоновский треух.
Бывалый зэк, свистя Вертинского,
знал, что прогресс реакционен.
За пазухою с четвертинкою
был празднично эрекционен.
На сердце ссадины найдут его.
Стыдил он критика надутого:
мол, муж большого прилежания
и ма-алого дарования.
Бледнели брежневы и сусловы,
когда, загадочней хасидов,
за правду сексуальным сусликом
под свист выскакивал Давыдов.
Не залезал он в телеящики.
Мне нашу жизнь собой являл.
И клинышек его тельняшки
звенел, как клавиша цимбал.
Вне своры был, с билетом волчьим.
Он верил в жизни торжество.
Жизнь поступила с ним, как сволочь,
когда покинула его.
ДИРИЖЁРКА
Деклассированные вурдалаки
уподобились комарью.
Ты мне снишься во фраке,
дирижируешь жизнь мою!
Я чувствую переносицей
взгляд напряжённый твой.
Ко мне лицом повернёшься,
ко всем – другой стороной.
Волнуется смятый бархат.
Обёрнутое ко мне,
твоё дыхание пахнет
молодым каберне.
Музыкально-зеркальная зомби,
ты стоишь ко мне – боже мой! —
обернувшаяся лицом ты! —
а ко всем – другой стороной…
И какой-то восторженный трепет
говорит тебе: «Распахнись!»
Возникающий ветер треплет
взмахи крохотные ресниц.
Когда же лапы и руки
рукоплещут, как столб водяной,
ко мне повернёшься лучшей,
главной своей стороной!
И красные ушки в патлах
просвечивают, красны.
И, как фартук, болтаются фалды
как продолженье спины.
Те фалды, как скрытые крылья
у узниц страшной страны, —
как будто кузнечики Крыма,
что в чёрное облачены.
За тобою лиц анфилады
и беснующийся балкон.
Напрягаются обе фалды,
изгибающиеся в поклон.
И под фалдами треугольничек
проступает эмблемой треф.
Так бывает у горничных,
реже – у королев.
BИРТУАЛЬНОЕ BРУЧЕНИЕ
1
Я вручаю Пастернаковскую премию
мёртвому собрату своему,
Бог нас ввёл в одно стихотворение,
женщину любили мы – одну.
Пришло время говорить о Фельтринелли.
Против Партии пошёл мой побратим.
Люди от инстинкта офигели,
совесть к Фигнер послана фельдъегерем,
может, террор имитировал интим?
Как спагетти, уплетал он телеграммы,
профиль его к Джакометти ревновал,
я обложку книги coma amo
c именем Джакомо рифмовал.
В нём жила угрюмая отвага:
быть влюблённым в Пастернака, злить печать,
на свободу выпустить «Живаго»
и в дублёнки женщин наряжать!
Я вручаю Фельтринелли-сыну
золотой отцовский реквизит,
как когда-то ему, мальчику, посыльным,
Дилана автограф привозил.
Чтобы мы, убогие, имели,
если б Фельтринелли не помог?!
По спинному мозгу Фельтринелли
дьявола шёл с Богом диалог…
2
Усмехаясь, ус бикфордовый змеился,
шёл сомнамбулический роман…
Было явное самоубийство,
когда шёл взрывать опору под Милан!
Женщина, что нас объединяла,
режиссировала размах.
Точно астероид идеала
в нас присутствовал Пастернак.
Как поэт с чудовищною мукой,
никакой не красный бригадир,
он мою протянутую руку
каменной десницей прихватил.
Он стоит, вдев фонари, как запонки,
олигарх, поэт, бойскаут, шалопай.
Говорю ему: «Прости, Джан Джакомо!»
Умоляю: «Только не прощай!»
Разоржаться мировой жеребщине,
не поняв понятье «апельсин»!
Тайный смысл аппассионатной женщины,
тая, отлетит, необъясним…
На майдане апельсины опреснили,
нынче цвет оранжевый в ходу.
Апельсины, апельсины, апельсины
меня встретят головешками в аду.
3
Жизнь прошла. Но светятся из мрака,
в честь неё зажжённые в ночи,
общим пламенем на знаке Пастернака
две – мужских – горящие свечи.
ХОББИ
Неабстрактный скульптор,
бесспорный Поллок,
собираю скальпы
мыслящих бейсболок.
Мысли несовковые,
от которых падаю,
и гребут совковою
с козырьком лопатою.
Проступают мысли
вверх ногами скорби.
Это моя миссия,
это моё хобби.
Нету преступления —
в мыслях, но – ей-богу (!),
хорошо бы от Ленина
найти бейсболку!
ПЕСЕНКА
Спит месяц набекрень,
как козырёк на лбу.
Всё в мире дребедень,
но я тебя люблю!
Усадьба – а-ля Лувр.
Ус Чаплина – дабл’ю.
Вздохнут духи «Аллюр»,
а я тебя – люблю!
Купите ТераФлю,
кончайте terror, бля!
Курите коноплю!
А я люблю – тебя!
Как дятел, я долблю,
верблюдов веселя.
Цепочкой из дабл’ю
жужжжжитполётшмеля —
шмаляйте по шмелю!
И, вызывая смех
у нашего зверья,
ты скажешь: «Больше всех
люблю тебя!» А я?
МАРЛЯ BРЕМЕНИ
Я поздравляю Вас, Марлен Мартынович!
Изящный носитель крутых седин.
Я бы назвал Вас – Марлен Монтирович,
Марлен Картинович,
Антиминфинович,
друзьям – Мартелевич,
врагам – Мортирович.
Антимундирович такой один.
Нет Маркса, Ленина – есть Мэрилин.
Марлен, как «шмалер», незаменим.
Для нас Вы были Политехничевич,
хрычи хрущёвские Вам ленты резали,
аполитичный, не чечевичный,
Вы – очевидец новой поэзии!
Когда нас душат новые циники,
наследнички, нынешние ЦК,
мы посылаем их на Хуциева!
Пока работаем на века!
Марлен Мартынович, надежда малая
была когда-то, сейчас – не то.
Время – как рана с присохшей марлею
от Мэрилин к Марлон Брандо.
Марлен, Вы в инее, как Папа Карло.
Пой с Бобом Марли у красных стен,
когда ландшафтники Вашей марлей
Кремль запаковывают, Марлен.
В губерниях скука и троекуровщина.
Нет Маркса, Ленина, но есть Марлен!
Я бы назвал Вас – Марлен Триумфович.
Вы – марли времени феномен.
КЛАРНЕТ
По полю древней битвы,
где памятник Шкуро,
летит опасной бритвой
орлиное перо.
И мы предполагаем,
что где-то вознесён
орёл за облаками,
и белоснежный он.
Чтоб наш талант не скурвился
во Владике Монро,
светает белокурое
мэрлиное перо.
Пусть дрочит государство,
гоняется за ним…
Прицельный дротик дартса,
увы, неуловим!
Поэзия есть тайна
древней Политбюро.
Летает нелетально
транзитное перо.
Арина Родионовна,
платок повязан «Першингом»,
чтоб беды милой Родины
казались лёгким пёрышком.
Серебряной расчёской
летело НЛО,
но времени причёска
исходит от него.
Пьеро, в церкви не пукнувший,
увидит над метро
незримо в ручке пушкинской
дрожащее перо.
Холмы наши и овны
поэтому легки,
как будто нарисованы
поэтом от руки.
ЗАГАДКА ЛФИ
Засунув руки в брючные патрубы,
будто катая ядра возбуждения для,
Вы мне сказали про солдат Партии:
«Нужна в хозяйстве и грязная метла!»
Сейчас всё кажется сентиментальщиной,
чудно:
Вы были главным эпохи подметальщиком,
я – выметаемое дерьмо.
Опали крылышки махаонные.
Команда подметальщиков, увы, мертва.
Осталась самострельная, самоходная,
самоуправляемая метла.
Зачем Вы стали погромщиком маньяковским?
Стали демоном ненависти, любви?
Тайным собирателем картин Маковского?
Почти тёзка Ильфа – ЛФИ.
Зачем Вас вымели? Вывернули выдрою?
Сдали замминистром в Йошкар-Олу?
Может быть, за то, что мне тайну выдали
про государственную метлу?
В склепе запакованный в стиль нашего Капоне,
как гранит рокфоровский исчервлён,
кто расслышит стон ваш заупокойный,
Леонид Фёдорович Ильичёв?
ПАМЯТИ НАТАШИ ГОЛОBИНОЙ
Дружили как в кавалерии.
Врагов посылали на…
Учила меня акварелить
Наташа Головина.
«Что моет нам кисти? Разве
не женский эмансипат?
Андрюша, попробуй грязью
красивое написать!»
Называется нейтральтином
задумчивый смыв кистей.
Впоследствии Тарантино
использовал слив страстей.
Когда мы в Никольском-Урюпине
обнимались под сериал,
доцент Хрипунов, похрюкивая,
хрусть томную потирал.
Была ты скуласта, банзаиста.
Я гол и тощ, как горбыль.
Любил ли тебя? Не знаю.
Оказывается – любил.
Мы были с тобою в паре.
Потом я пошёл один.
Обмывки страстей создали
чудовищный нейтральтин.
Карданной церковной башней,
густой вызывая стыд,
рисунок твой карандашный
в моей мастерской висит.
Выходит шедевр тем краше,
чем больше в мире дерьма.
Оправдано кредо наше,
Наташа Головина.
* * *
Михаилу Жванецкому
Проктолог – отоларингологу:
«Сквозь лярву вижу вашу голову.
В дыру тоннеля бесконтрольного
я вижу божий свет и горлинку».
Проктолог – отоларингологу:
«Ночами и парторги голые!
Вглядитесь в глубину парторгову!
Отари Ларина потрогала».
Проктолог – отоларингологу:
«Не запивай пулярку колою!
Путь к воскрешенью зафрахтован
нам Франкенштейном и Фрадковым».
Проктолог – отоларингологу:
«Патрон наш срок не пролонгировал
С тротилом тачка припаркована.
С одной Тобою нет прокола».
Проктолог – отоларингологу:
«У Ларри Кинга prick с приколами.
Россия славится расколами.
Ахматова сгубила Горенко».
Ты, Миша, брутто-гениален
меж непробудных гениталий.
Стране, дежурящий, ты дорог
как практикующий проктолог!
Пускай другие врут с три короба:
«Шнур популярнее Киркорова».
СОМНАМБУЛА
Полемизировал с Магометом.
Как подсолнечник, жёлт прикидом.
Маяковский был первым скинхедом?
Может, скажете – первым шахидом?!
Но наивная боль кубиста
перехлёстывала сквозь это.
Сомнамбулическое самоубийство
возвратило его в поэта.
Он парит над Москвой лубочной,
над Лубянкою криминальной.
Гениальный он был любовник,
остальное – конгениально.
И в отличие от смоковницы
с саксаулами,
революция Маяковского —
сексуальная!
«Мяу-ковский» – вопили кошки.
«Мао-конский» – глас протодьякона.
Поэт играет в собственные кости.
Как в небе «Як» или совесть св. Якова.
Зазывая в глаза огромные,
Киберматерью была его Лили.
Убивались или любили.
Или – или.
Лилю Брик клеймили интриги:
«Чёрный пояс на ней с резинками».
Местечковый акцент меняли комбриги
на метерлинковской.
Не любил его критик в кофточке.
Наш народ так его и не понял.
Нацепив на лацкан морковку,
уходил Маяковский по небу.
Озарённая преступлением,
вся страна подымалась в гору.
Окровавленными ступенями
по шинелям шли «разговоры».
Рты заклеены, как конверты.
Не удерживаюсь от трюизма:
Маяковский – первая жертва
государственного терроризма.
ПАМЯТИ ЮРИЯ ЩЕКОЧИХИНА
По шляпам, по пням из велюра,
по зеркалу с рожей кривой,
под траурным солнцем июля —
отравленный сволотой,
блуждает улыбочкой Юра,
последний российский святой.
* * *
Суперстары. Супостаты.
Хрущёв круче Троцкого.
Он своих крестьян подставил
в эпицентре Тоцкого.
* * *
Используйте силу свою.
Мы гости со стороны.
Вы бьёте по острию.
Я гвоздь от иной стены.
Мне спину согнули дугой,
по шляпку вбили вовнутрь.
Я гвоздь от стены другой.
Слабо Вам перевернуть?!
Битый ноготь черней, чем дёготь, —
боязно глаз впереть.
Назад невозможно дёргать.
Невозможно – вперёд.
Вы сами в крови. Всё испортив,
ошибся конторский вождь.
Сияет стена напротив —
та, от которой я гвоздь.
Я выпрямлюсь. Я найду.
Мы гости иной страны.
По шляпку в тебя войду —
я гвоздь от Твоей стены.
* * *
Мост. Огни и лодки.
Речушки борозда.
Баржа с седеющей бородкой
ползла, как старая дыра.
АПЕЛЬСИНЫ, АПЕЛЬСИНЫ…
Нью-йоркский отель «Челси» – антибуржуазный, наверное, самый несуразный отель в мире. Он похож на огромный вокзал десятых годов, с чугунными решётками галерей – даже, кажется, угольной гарью попахивает. Впрочем, может, это тянет сладковатым запретным дымком из комнат.
Здесь умер от белой горячки Дилан Томас. Лидер рок-группы «Секс пистолс» здесь или зарезал, или был зарезан своей любовницей. Здесь вечно ломаются лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за это здесь платят деньги. Это стиль жизни целого общественного слоя людей, озабоченных социальным переустройством мира, по энергии тяготеющих к «белым дырам», носящих полувоенные сумки через плечо и швейцарские офицерские крестовые красные перочинные ножи. Здесь квартирует Вива, модель Энди Уорхола, подарившая мне, испугавшемуся СПИДа, спрей, чтобы обрызгать унитазы и ванную.
За телефонным коммутатором сидит хозяин Стенли Барт, похожий на затурканного дилетанта-скрипача не от мира сего. Он по рассеянности вечно подключает вас к неземным цивилизациям.
В лифте поднимаются к себе режиссёры подпольного кино, звёзды протеста, бритый под ноль бакунинец в мотоциклетной куртке, мулатки в брюках из золотого позумента и пиджаках, надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси.
Обитатели отеля помнили мою историю.
Для них это была история поэта, его мгновенной славы. Он приехал из медвежьей снежной страны, разорённой войной и строительством социализма.
Сюда приехал он на выступления. Известный драматург, уехав на месяц, поселил его в своём трёхкомнатном номере в «Челси». Крохотная прихожая вела в огромную гостиную с полом, застеленным серым войлоком. Далее следовала спальня.
Началась мода на него. Международный город закатывал ему приемы, первая дама страны приглашала на чай. Звезда андеграунда режиссер Ширли Кларк затеяла документальный фильм о его жизни. У него кружилась голова.
Эта европейка была одним из доказательств его головокружения.
Она была фоторепортёром. Порвав с буржуазной средой отца, кажется, австрийского лесовика, она стала люмпеном левой элиты, круга Кастро и Кортасара. Магниевая вспышка подчёркивала её близость к иным стихиям. Она была звёздна, стройна, иронична, остра на язык, по-западному одновременно энергична и беззаботна. Она влетала в судьбы, как маленький солнечный смерч восторженной и восторгающей энергии, заряжая напряжением не нашего поля. «Бабочка-буря» – мог бы повторить про неё поэт.
Едва она вбежала в моё повествование, как по страницам закружились солнечные зайчики, слова заволновались, замелькали. Быстрые и маленькие пальчики, забежав сзади, зажали мне глаза.
– Бабочка-буря! – безошибочно завопил я.
Это был небесный роман.
Взяв командировку в журнале, она прилетала на его выступления в любой край света. Хотя он и подозревал, что она не всегда пользуется услугами самолётов. Когда в сентябре из-за гроз аэропорт был закрыт, она как-то ухитрилась прилететь и полдня сушилась.
Её чёрная беспечная стрижка была удобна для аэродромов, раскосый взгляд вечно щурился от непостижимого света, скулы лукаво напоминали, что гунны действительно доходили до Европы. Её тонкий нос и нервные, как бусинки, раздутые ноздри говорили о таланте капризном и безрассудном, а чуть припухлые губы придавали лицу озадаченное выражение. Она носила шикарно скроенные одежды из дешёвых тканей. Ей шёл оранжевый. Он звал её подпольной кличкой Апельсин.
Для его суровой снежной страны апельсины были ввозной диковиной. Кроме того, в апельсинном горьком запахе ему чудилась какая-то катастрофа, срыв в её жизни, о котором она не говорила и от которого забывалась с ним. Он не давал ей расплачиваться, комплексуя с любой валютой.
Не зная языка, что она понимала в его славянских песнях? Но она чуяла за исступлённостью исполнения прорывы судьбы, за его романтическими эскападами, провинциальной неотёсанностью и развязностью поп-звезды ей чудилась птица иного полёта. В тот день он получил первый аванс за пластинку. «Прибарахлюсь, – тоскливо думал он, возвращаясь в отель. – Куплю тачку. Домой гостинцев привезу».
В отеле его ждала телеграмма: «Прилетаю ночью тчк Апельсин». У него бешено заколотилось сердце. Он лёг на диван, дремал. Потом пошёл во фруктовую лавку, которых много вокруг «Челси». Там при вас выжимали соки из моркови, репы, апельсинов, манго – новая блажь большого города. Буйвологлазый бармен прессовал апельсины.
– Мне надо с собой апельсинов.
– Сколько? – презрительно промычал буйвол.
– Четыре тыщи.
На Западе продающие ничему не удивляются. В лавке оказалось полторы тысячи. Он зашёл ещё в две.
Плавные негры в ковбойках, отдуваясь, возили в тележках тяжкие картонные ящики к лифту. Подымали на десятый этаж. Постояльцы «Челси», вздохнув, невозмутимо смекнули, что совершается выгодная фруктовая сделка. Он отключил телефон и заперся.
Она приехала в десять вечера. С мокрой от дождя головой, в чёрном клеенчатом проливном плаще. Она жмурилась.
Он открыл ей со спутанной причёской, в расстёгнутой полузаправленной рубахе. По его растерянному виду она поняла, что она не вовремя. Её лицо осунулось. Сразу стала видна паутинка усталости после полёта. У него кто-то есть! Она сейчас же развернётся и уйдёт.
Его сердце колотилось. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо и безразлично сказал:
– Проходи в комнату. Я сейчас. Не зажигай света – замыкание.
И замешкался с её вещами в полутёмном предбаннике.
Ах так! Она ещё не знала, что сейчас сделает, но чувствовала, что это будет что-то страшное. Она сейчас сразу всё обнаружит. Она с размаху отворила дверь в комнату. Она споткнулась. Она остолбенела. Пол пылал.
Тёмная пустынная комната была снизу озарена сплошным раскалённым булыжником пола.
Пол горел у неё под ногами. Она решила, что рехнулась. Она поплыла.
Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному, как огненная мостовая. Из некоторых вырывались язычки пламени. В центре подпрыгивал одинокий стул, будто ему поджаривали зад и жгли ноги. Потолок плыл алыми кругами.
С перехваченным дыханием он глядел из-за её плеча. Он сам не ожидал такого. Он и сам словно забыл, как четыре часа на карачках укладывал эти чёртовы скользкие апельсины, как через каждые двадцать укладывал шаровую свечку из оранжевого воска, как на одной ноге, теряя равновесие, длинной лучиной, чтобы не раздавить их, зажигал, свечи. Пламя озаряло пупырчатые верхушки, будто они и вправду раскалились. А может, это уже горели апельсины? И все они оранжево орали о тебе.
Они плясали в твоём обалденном чёрном проливном плаще, пощёчинами горели на щеках, отражались в слезах ужаса и раскаянья, в твоей пошатнувшейся жизни. Ты горишь с головы до ног. Тебя надо тушить из шланга! Мы горим, милая, мы горим! У тебя в жизни не было и не будет такого. Через пять, десять, через пятнадцать лет ты так же зажмуришь глаза – и под тобой поплывёт пылающий твой единственный неугасимый пол. Когда ты побежишь в другую комнату, он будет жечь тебе босые ступни. Мы горим, милая, мы горим. Мы дорвались до священного пламени. Уймись, мелочное тщеславие Нерона, пылай, гусарский розыгрыш в стиле поп-арта!
Это отмщение ограбленного эвакуационного детства, пылайте, напрасные годы запоздавшей жизни. Лети над метелями и парижами, наш пламенный плот! Сейчас будут давить их, кувыркаться, хохотать в их скользком, сочном, резко пахучем месиве, чтоб дальние свечки зашипели от сока…
В комнате стоял горький чадный зной нагретой кожуры.
Она коротко взглянула, стала оседать. Он едва успел подхватить её.
– Клинический тип, – успела сказать она. – Что ты творишь! Обожаю тебя…
Через пару дней невозмутимые рабочие перестилали войлок пола, похожий на абстрактный шедевр Поллока и Кандинского, беспечные обитатели «Челси» уплетали оставшиеся апельсины, а Ширли Кларк крутила камеру и сообщала с уважением к обычаям других народов: «Русский дизайн».
2006
* * *
Мой кулак снёс мне полчелюсти.
И мигает над губой
глаз на нитке. Зато в целости!
Вечный бой с самим собой.
Я мечтал владеть пекарней
где жаровни с выпечкой,
чтоб цедить слова шикарно
над губою выпяченной.
Чтобы делать беззаконий
обезьяны не могли,
мчитесь, сахарные кони,
в марципановой пыли!
ИНТЕРФЕРНАЛ
По-немецки gross,
а по-русски гроздь.
По-английски host,
а по-русски гость.
Граф с погоста был культурен.
Отрекомендовался: «Нулин».
«Граф Хулин?» – уточнили воспитатели.
Спасибо, Господи, за hospitality!
О КАЗАЛОСЬ
Казалось:
«Ружья в козлы!»
Оказалось:
«В ружьё, козлы-ы!»
Казалось:
«Афган!»
Оказалось:
«Off gun».
Казалось:
«Тарантино».
Оказалось:
«Скарлатина для взрослых».
Казалось:
«Тарантинэйджер».
Оказалось:
«Трахнул тёлку через пейджер!»
Казалось:
«Посол».
Оказалось:
«Пил рассол».
Казалось:
«Чайку бы и травки на дорогу…»
Оказалось:
«Чайка – плавки Бога».
Казалось:
«Порноистец против ТЭЦ».
Оказалось:
«Полный привет!»
НИЩИЙ ХРАМ
Бомжам с полуистёртой кожей
я, вместо Бога, на халяву,
воздвигну белый храм, похожий
на инвалидную коляску.
В нём прихожане нехорошие,
одни убогие и воры.
Их белоснежные колёса
станут колёсами обзора.
Шиповники бубенчиковые
сквозь ноты литургии лезли.
Я попрошу Гребенщикова
петь популярнее. Как Пресли.
И может, Бог хромую лярву
возьмёт к себе в свои пределы
из инвалидного футляра,
как балерину Рафаэлло.
А сам Господь в морях манивших
шёл с посохом, как будто по суху,
и храм стригущею машинкой
шёл, оставляя в рясах просеку.
В этой просеке паривший
стал ангелом не Элвис Пресли,
а Брэдбери, как папа римский,
катящий в инвалидном кресле.
* * *
Спас космический, Спас Медовый,
крестом вышитые рушники,
католический крестик Мадонны,
расстегнувшись, смущал Лужники.
«Грудь под поцелуи, как под рукомойник»
(Пастернак).
Как песенка в банкомате:
«Мадонной стала блондиночка с Лукоморья».
Кем станет московская Богоматерь?…
* * *
Ландышевый дом.
Пару лет спустя
я приеду днём,
когда нет тебя.
Я приду в сад,
сад взаправдашний.
На сушилках висят
чашки ландышей.
Хватит лаяться.
По полям ушла
«Шоколадница»
с чашкой ландыша.
За окошком в ряд
мини-лампочки.
Фонари горят
или ландыши?
У тебя от книг —
пополам душа.
Как закладки в них
листья ландыша.
Твоя жизнь – дневник,
вскрик карандаша.
В твою жизнь проник
запах ландыша.
Всё в судьбе твоей
полно таинства.
Приходи скорей —
зачитаемся!
ЁЛОЧНЫЕ ПАЛЬЧИКИ
Сегодняшнему ширпотребу
нельзя понять, зачем запальчиво
тысячи ёлок тычут в небо
указательными пальчиками?
Им видно то, что мы не видим.
Я не теолог.
Но в жизни никак не выйдем
на уровень понятия ёлок.
Кто право дал еловой нации
судить земные распорядки?
Как лампочки иллюминации,
не требующие подзарядки.
Зачем им рукава имбирные?
зигзагами по касательной?
Всё это фирменные ширмы
для этих пальцев указательных.
Снег кружится балетной пачкой
над ёлками. Знаем с горечью,
что ёлки состоят из пальчиков,
и эти пальчики игольчаты.
Но сколько в мире старых пальчиков:
им хоть налево, хоть направо.
Но сколько аппаратных пайщиков,
указывающих на неправду!
Так, в счастье новоселья женщина,
въезжая в новую квартиру, грустит.
И что ей померещено
в игрушке с вырванным ватином?…
Какая радость, не наперсничая,
понять иллюзию игрушки:
на пальчик нацепить напёрсточек,
шары оранжевые в лузе!
Повсюду новое топорщится.
А может, старое исправится?
Стремглав летим из-под топорища!
И, снова взвиваясь, новая избранница.
Вечно-зелёные надежды
на измененья новогодние.
Кругом валяется одежда —
домишки, стёганки с вагонкою.
А ты? Ты в этом вихре мнимом?!
Иль рот пирожными запачкала?
И тёплый свет струится нимбом
от указательного пальчика.
ОТ ТРЁХ ДО ЧЕТЫРЁХ
В окошках свет погас,
умолкнул пустобрёх.
Пошёл мой лучший час —
от трёх до четырёх.
Стих крепок, как и чай.
Вас посещает Бог.
Шла служба при свечах
от трёх до четырёх.
Как слышно далеко!
Как будто возле нас.
Разлили молоко…
Спустили унитаз…
Очередной мосхит?
Или поёт москит?
От трёх до четырёх
наш мир не так уж плох.
Люблю я в три проснуться,
в душе – переполох,
Конфуция коснуться
и спать без задних ног.
Кабина поперёк
и Хайдеггер, дымясь
камином кочерёг,
попросвещает Вас.
Пускай Вы в жизни лох,
и размазня-пирог,
но Вы сейчас – пророк,
и смысла поперёк!
Я сам не разумел
идею, что изрёк,
но милиционер
вдруг взял под козырёк.
Становимся у касс.
Обломы за отказ.
Но в небе только час,
отпущенный для нас.
Жизнь – полусонный бред.
«СТИЛНОКСА» пузырёк
прокладывает брешь
от трёх до четырёх!
Я без тебя опять.
Как мне найти предлог,
чтоб досуществовать
от четырёх до трёх?
Кто в дверь звонит? Мосгаз?
Не слушайте дурёх.
И не будите нас
от трёх до четырёх.
ОДА МОЕЙ ЛЕBОЙ РУКЕ
Рука, спасибо за науку!
Став мне рукой,
ты, точно сука, одноуха,
болтаешься вниз головой…
Собаки – это человечье,
плюс – animal.
Мы в церкви держим в левой свечки,
чтоб Бог нас лучше понимал.
А людям без стыда и чести
понять помог
мой аргумент мужского жеста,
напрягшегося, как курок.
Ты с женщинами непосредственно
вела себя.
Ты охраняешь область сердца, —
боль начинается с тебя.
Ты – это мой самоучитель,
ноты травы.
Сегодня все мои мучители —
это мучители твои!
Когда ж чудовищная сила
меня несла —
башку собою заслонила,
меня спасла…
Но устаёшь от пьедестала.
Моя ж рука,
вдруг выкобениваться стала,
став автономно далека.
Я этот вызов беззаконный
счёл за теракт!
Но – хочет воли автономий
анатомический театр!
Я твой губитель, я – подлец.
Ты чахла.
Обёртывалась новой чакрой
неизлечимая болезнь.
Ты мне больничная запомнилась.
Забыть нельзя.
Лежишь, похожа на омоновца,
замотанная по глаза.
Не помню я тебя скулящей,
когда скорбя,
мы с мировыми эскулапами
осматривали тебя.
Как мог я дать тебя кромсать
ножам чужим и недостойным,
мешая ненависть со стоном?!.
Так, вашу мать!
Междоусобны наши войны.
Дав свою плоть,
мы продаем себя невольно
и то, что завещал Господь.
Мне снится сон: пустыня Гоби.
На перевязи, на весу,
как бы возлюбленную в гробе,
я руку мёртвую несу.
Возлюбленная – как акула.
Творя инцест,
меня почти совсем сглотнула,
ещё секунда – сердце съест!
Прощаюсь с преданною жизнью.
Рука ж вполне
здоровая – на ней повисну,
как тощий плащ или кашне.
* * *
Ты, наклоняясь, меня щекочешь,
и между мною и тобой
качнётся крестик на цепочке,
как самолётик золотой.
Так меж нас, когда мы озоруем,
как зов столетия иным,
порхает крестик поцелуем,
материализованным.
ЧАСОBНЯ АНИ ПОЛИТКОBСКОЙ
Поэма
Memento Anna
Часовня Ани Политковской
как Витязь в стиле постмодерна.
Не срезаны косой-литовкой,
цветы растут из постамента.
Всё не достроится часовня.
Здесь под распятьем деревянным
лежит расстрелянная совесть —
новопреставленная Анна.
Не осуждаю политологов —
пусть говорят, что надлежит.
Но имя «Анна Политковская»
уже не им принадлежит.
Была ты, Ангел полуплотская,
последней одиночкой гласности.
Могила Анны Политковской
глядит анютиными глазками.
Мы же шустрим по литпогостам,
политруковщину храня.
Врезала правду Политковская
за всех и, может, за меня?
И что есть, в сущности, свобода?
В жизнь воплотить её нельзя.
Она лишь пониманье Бога,
кого свобода принесла.
И что есть частная часовня?
Часовня – лишь ориентир.
Найти вам в жизни крест тесовый,
который вас перекрестил?
Накаркали. Накукарекались.
Душа болеет, как надкостница.
Под вопли о политкорректности
убили Анну Политковскую.
Поэта почерк журавлиный.
Калитка с мокрой полировкой.
Молитвенная журналистика
закончилась на Политковской.
Ментам мешают сантименты.
Полгода врут интеллигентно.
Над пулей с меткой «Политковская»
черны деревьев позументы.
Полусвятая, полускотская,
лежит в невыплаканном горе
страна молчанья, поллитровок
и Чрезвычайного момента —
Memento mori
Часовёнок
Мы повидались с Политковской
у Щекочихина. Заносчив
был нос совёнка-альбиноски
и взгляд очков сосредоточен.
А этот магнетизм неслабый
мне показался сгоряча
гордыней одинокой бабы,
умеющей рубить сплеча.
Я эту лёгкую отверженность
познал уже немолодым, —
что женская самоотверженность
с обратной стороны – гордынь.
Я этот пошляковский лифтинг
себе вовеки не прощу, —
что женщина лежала в лифте.
Лифт шёл под землю – к Щекочу.
Никакой не Ангел дивный,
поднимающий крыла.
Просто совестью активной
В этом мире ты была.
Мать седеет от рыданья.
Ей самой не справиться.
Ты облегчишь ей страданья,
наша сострадалица.
Ты была совёнок словно.
Очи. Острота лица.
Есть святая для часовни
Анна Сострадалица.
Нас изменила Политковская.
Всего не расскажу, как именно.
Спор заведёт в иные плоскости,
хоть нет часовни её имени.
Она кометой непотребной
сюда явилась беззаконно.
В домах висят её портреты
как сострадания иконы.
Не веря в ереси чиновние,
мы поняли за этот срок,
что сердце каждого – часовня,
где вверх ногами – куполок
Туда не пустит посторонних,
седой качая головой,
очкарик, крошка-часовёнок,
часовенки той часовой.
Молись совёнку, белый витязь.
Ведь Жизнь – не только дата в скобках.
Молитесь, милые, молитесь
в часовне Анны Политковской.
Чьи-то очи и ланиты
Засветились над шоссе! —
как совёнок, наклонившийся
на невидимом шесте.
Блуждающая часовня
Часовни в дни долгостроения
не улучшали настроения.
Часовня – птица подсадная,
Она пока что безымянна,
но у любого подсознанья
есть недостреленная Анна.
Я обращаюсь к Патриарху
Услышанным сердцебиеньем,
чтоб субсидировать триаду —
Смерть. Кровь. Любовь —
всем убиенным!
Пускай прибудут инвестиции,
пусть побеждает баснословно
души спасенье возвестившая
блуждающая часовня.
Блуждающая меж заблудших,
кто отлучён катастрофически,
кто облучён сегодня будущим,
как гонщики и астрофизики.
Сосульки жмурятся, как сванки.
Окошко озарилось плошкой,
блуждающей часовней – Анной
Степановной Политковской.
Неважно, кто Телец, кто Овен,
прислушайтесь – под благовест
идёт строительство часовен.
Когда достроимся? Бог весть»!
Имя твоё – внеплановая листовка.

Седьмое.
Десять.
Ноль шесть.
Не много земного.
Дерзость, но крест.
Синь смога.
Дескать, но есть.
Немого детства
Норд-Вест.
Умолчит ли толпа безликая?
Чеченская ли война?
Взирает на нас Великая
отечественная вина.
Ответственность за содеянное —
не женщин и не мужчин —
есть Высшая Самодеятельность
иных, не мирских причин.
Обёртывается лейкозией
тому, кто шёл против них, —
такие, как Политковская,
слепой тех сил проводник.
Курит ли мент «ментоловые»?
Студента судит студент.
На нас проводит винтовка
Следственный экперимент.
След ниточкой дагестанской
Теряется средь лавин.
Жизнь каждого – дегустация
Густых многолетних вин.
Ждёт пред болевым порогом,
прикрыта виной иной
моя вина перед Богом
и Бога – передо мной.
Общественные феномены
голода и Чечни…
Бывает народ виновен?
Формулы неточны.
Никто убийц этих не видел
Приметы несовковые:
мужчина ввинчен в белый свитер
плюс женщина очковая!
Февральский эпилог
Над кладбищем над Троекуровским
снег – как колонны с курватурами.
Сметаем снег с Твоей могилы.
– А где ж дружки её? Чай, скурвились? —
изрёк шофёр. – Помочь могли бы.
А рядом хоронили муровца —
салопы, хмурые секьюрити,
шинели и автомобили.
Поняв, что мы – твои тимуровцы,
к нам потеплели и налили.
Шофёр наш, красною лопатою
перебирая снег, поморщился.
Водка – не лучшая помощница.
Лампадки, чьи-то бусы, лапотник
«Новой газеты», траур. Лабухи
и мальчики тебя любили.
Февральские снега обильные…
Лишь ленты деревца могильного
в снегу чернели, как мобильники.
Что снится Вам, Анна Степановна?
Поле с тюльпанами?
Кони с тимпанами?
Сынок с дочуркой мчатся кубарем.
Бутыль шампанского откупорим.
Жизнь? Чеченцы с терренкурами?
А за оградой Троекуровской
убитый с будущим убийцей
пил политуру, кушал пиццу,
делился с ним запретным куревом,
девицу в кофточке сакуровой
улещивал? – Наоборот!
Гриппозные белели курицы.
Секьюрити-мордоворот
следил, как «роверы» паркуются.
Народ они имели в рот.
И ждали девку белокурую
два хулигана у ворот.
Читатель мой благоразумный,
не знаю, чем тебя завлечь?
Я обожаю нецензурно
неподражаемую речь!..
Куда ведёт нас жизни уровень,
полусвятой, полубесовский?
Поставь свечу на Троекуровском
в часовне Анны Политковской.
И в наше время коматозное
по Троекуровским пределам
дымок, курясь над крематорием,
попыхивает чем-то белым.
БОЛЬШОЕ ЗАBЕРЕЩАНИЕ
Поэма
I
Я, на шоссе Осташковском,
раб радиовещания,
вам жизнь мою оставшуюся
заверещаю.
В отличие от Вийона
с Большим его Завещанием,
я в грабежах не виновен,
не отягощён вещами.
Тем паче, мой пиджак от Версаче,
заверещаю.
На волю вышел Зверь ослушания.
Запоминайте Заверещание:
не верьте в вероисповедание,
а верьте в первое своё свидание!
Бог дал нам радуги, водоёмы,
луга со щавелем.
Я возвращаю Вам видеомами.
Заверещаю.
Я ведь не только вводил шершавого
и хряпал на шару!
В себе убил восстание Варшавское.
Заверещаю.
Почётному узнику
тюрьмы «Рундшау»
улётную музыку —
заверещаю.
Мы не из «Новости»,
чтобы клеймить Сороса.
Не комиссарю.
Свобода от совести
не в собственном соусе.
Заверещаю.
Не попку, облизанную
мещанами,
любовь к неближнему
заверещаю.
Зачерпни бадейкой
звезду из лужищ
и прелюбодействуй,
если любишь.
От Пушкина – версия Вересаева.
Есть ересь поколения
от Ельцина до Вощанова.
Я прекращаю прения.
Заверещаю.
II
Не стреляйте по птичьим гриппам,
по моим сегодняшним хрипам!
Над Россией Небесный Хиппи
летел, рассеянный, как Равель.
Его убили какие-то психи,
упал расстрелянный журавель.
Не попадёт уже в Куршавель.
«Курлы!»
не было рассадником заразы.
Наши члены УРЛЫ
это поняли сразу.
В нашей факанной ошибке, бля!
Остался вакуум журавля…
Его ноги раскладывались
подобно зонтикам.
Его разбросанные конструкции,
нам подпиравшие его экзотику.
(Мы рассматривали его конструкцию.
Под ним оказалась окружающая Земля.
Но нет прекрасного журавля.)
Журавль – не аист, но отчего-то
упала рождаемость, пошли разводы.
Андрей Дмитриевич сказал в итоге:
«Нас всех теперь пошлют строить
железные дороги».
Отто Юльевич промолчал.
И посмотрел в гриппозное небо:
глядели колодезные журавли.
Зураба башни в небе стоят.
Журавль в них вырастит журавлят.
Рюмашка – ножка от журавля.
Не разбей, Машенька, хрусталя.
Ни Журден, ни Чазов, ни Рафаэль
не вернут тебя, долговязый журавель.
Мы – дичь.
О наследниках поэтич. и юридич.
скажу впоследствии.
В интересах следствия.
III
Страшно наследство: дача обветшалая!
Свою вишутку заверещаю!
Мои вишутки – не завитушки,
а дрожь, влюблённая в руке!
Как будто рыжие веснушки
оставит солнце на реке.
Не политические вертушки.
Даже то, что Вы член ВТО,
вещдок останется как вишутка.
Жизнь как жемчужная шутка Ватто.
Как вишуткино пролетела
нержавейка воздушная —
метрополитен гениального
Душкина!
Гений, он говорил нам, фанатам:
«Не заклинивайтесь на верзухе!!!
Живите по пернатым, по вишуткам».
IV
Какое море без корабля?
Какое небо без журавля?
Заверещаю все звёзды и плевелы
за исключением одного.
Твой царский подарок,
швейцарский плеер,
не доставайся ты никому!
Мы столько клеили с тобой красавиц,
Моё дыхание в тебе осталось.
Тебя я брошу в пучину. За камни.
Мне море ответит чревовещанием.
Волна откликнется трёхэтажная.
Вернисажевая.
V
Лежу на пьедестале в белых тапочках.
Мысль в башке копается, как мышь.
Мой мозг уносят, точно творог в тряпочке,
смахнув щелчком замешкавшуюся мысль.
Нет жизни на Земле. Однако
поклонников зарвавшаяся рать,
«завравшегося Пастернака»
(«мол, смерти нет») тащила умирать.
И дуновением нирваны
шло покаяние в Душе.
И в откровении Иоанна
написано, что «смерти нет уже».
Шли люди, взвивши штоф, как капельницы,
жизнь алкая и смерть алкая.
Офицеры, красавцы, капелевцы
шли психической атакою.
И с пистолетами, и с удавками,
нас теснили, хоть удержись.
Толкая перед собой жизнь неудавшуюся,
как будто есть удавшаяся жизнь.
Нет правды на земле, но правды нет и выше.
Все папарацци. Я осознавал:
как слышен дождь, идущий через крышу,
всеобщей смерти праздничный хорал.

Лангетка —
вроде голландского ландскнехта.
Боль крутящая, круглосуточная.
Это не шуточки…
Боль адская!
Блядская акция.
В небе молнии порез.
Соль щепоткой, побожись.
Жизнь – высокая болезнь.
Жизнь есть боль, и боль есть жизнь.
VI
Не думаю, что ты бессмертна,
но вдруг вернёшься
в «Арбат Престиж»?
Или в очереди на Башмета
рассеянно у соседа
ты спросишь:
«Парень, что свиристишь?»
Ты никогда не слыхала голос,
но узнаешь его из тыщ.
В твоём сознании раскололось:
вдвоём со мною засвиристишь.
Пустая абстрактнейшая свирельщина
станет реальнее, чем Верещагин.
Единственная в мире Женщина,
заверещаю.
Чуир, чуир, щурленец,
глаукомель!
P. S.
Стрелять в нас глупо, хоть и целебно.
Зараза движется на Восток.
И имя, похожее на «Бессеребренников»,
несётся кометно чёрным хвостом.
Люблю я птичью абракадабру:
пускай она непонятна всем.
Я верую в Активатор Охабрино (!)
из звёздной фабрики «Гамма-7».
В нашем общем рейсе чартерном
ты чарку Вечности хватанёшь,
и окликнет птичью чакру
очарованный Алконост.
Арифметика архимедленна —
скоростной нас возьмёт канун.
Я вернусь спиралью Архимедовой:
ворона или Гамаюн?
Не угадывая последствие
распрямится моя душа,
как пересаженное сердце
мотоциклиста и алкаша.
Всё запрещается? Заверещается.
Идут циничные времена.
Кому химичится? В Политехнический.
Слава Богу, что без меня.
Политехнический, полухохмический
прокрикнет новые имена.
Поэты щурятся из перемен:
«Что есть устрица? Это пельмень?»
Другой констатирует сердечный спазм:
«Могут ли мужчины имитировать оргазм?»
И миронически новой командой —
Политехнический Чулпан Хаматовой.
Всё завершается?
ЗАBЕРЕЩАЕТСЯ!
P. P. S.
И дебаркадерно, неблагодарно,
непрекращаемо горячо
пробьётся в птичьей абракадабре
неутоляемое «ещё!»
Ещё продлите! Пускай «хрущобы».
Жизнь – пошло крашенное яйцо!
Хотя б минуту ещё. Ещё бы —
ЕЩЁ!







