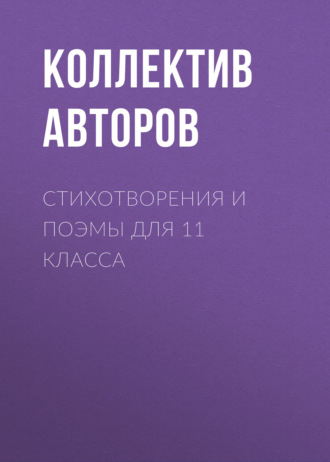
Владимир Высоцкий
Стихотворения и поэмы для 11 класса
«Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть…»
Воскресенье настало. Мне не было грустно ничуть.
Это только снаружи больница скушна, непреклонна.
А внутри – очень много событий, занятий и чувств.
И больные гуляют, держась за перила балкона.
Одиночество боли и общее шарканье ног
вынуждают людей к (вдруг слово забыла) контакту.
Лишь покойник внизу оставался совсем одинок:
санитар побежал за напарником, бросив каталку.
Столь один – он, пожалуй, ещё никогда не бывал.
Сочиняй, починяй – все сбиваемся в робкую стаю.
Даже хладный подвал, где он в этой ночи ночевал,
кое-как опекаем: я доброго сторожа знаю.
Но зато, может быть, никогда он так не был любим.
Все, кто был на балконе, его озирали не вчуже.
Соучастье любви на мгновенье сгустилось над ним.
Это ластились к тайне живых боязливые души.
Все свидетели скрытным себя осенили крестом.
За оградой – не знаю, а здесь нездоровый упадок
атеизма заметен. Всем хочется над потолком
вдруг увидеть утешный и здравоопрятный порядок.
Две не равных вершины вздымали покров простыни.
Вдосталь, мил-человек, ты небось походил по Расее.
Натрудила она две воздетые к небу ступни.
Что же делать, прощай. Не твоё это, брат, воскресенье.
Впрочем, кто тебя знает. Вдруг матушка в церковь вела:
«Дево, радуйся!» Я – не умею припомнить акафист.
Санитары пришли. Да и сам ты не жил без вина.
Где душе твоей быть? Пусть побудет со мною покамест.
«Бессмертьем душу обольщая…»
Александру Блоку
Бессмертьем душу обольщая,
всё остальное отстранив,
какая белая, большая
в окне больничном ночь стоит.
Все в сборе: муть окраин, гавань,
вздохнувшая морская близь,
и грезит о герое главном
собранье действующих лиц.
Поймём ли то, что разыграют,
покуда будет ночь свежеть?
Из умолчаний и загадок
составлен роковой сюжет.
Тревожить имени не стану,
чей первый и последний слог
непроницаемую тайну
безукоризненно облёк.
Всё сказано – и всё сокрыто.
Совсем прозрачно – и темно.
Чем больше имя знаменито,
тем неразгаданней оно.
А это, от чьего наитья
туманно в сердце молодом, —
тайник, запретный для открытья,
замкнувший створки медальон.
Когда смотрел в окно вагона
на вспышки засух торфяных,
он знал, как грозно и огромно
предвестье бед, и жаждал их.
Зачем? Непостижимость таинств,
которые он взял с собой,
пусть называет чужестранец
Россией, фатумом, судьбой.
Что видел он за мглой, за гарью?
Каким был светом упоён?
Быть может, бытия за гранью
мы в этом что-нибудь поймём.
Всё прозорливее, чем гений.
Не сведущ в здравомыслье зла,
провидит он лишь высь трагедий.
Мы видим, как их суть низка.
Чего он ожидал от века,
где всё – надрыв и всё – навзрыд?
Не снесший пошлости ответа,
так бледен, что уже незрим.
Искавший мук, одну лишь муку:
не петь – поющий не учёл.
Вослед замученному звуку
он целомудренно ушёл.
Приняв брезгливые проклятья
былых сподвижников своих,
пал кротко в лютые объятья,
своих убийц благословив.
Поступок этой тихой смерти
так совершенен и глубок.
Всё приживается на свете,
и лишь поэт уходит в срок.
Одно такое у природы
лицо. И остаётся нам
смотреть, как белой ночи розы
всё падают к его ногам.
Ёлка в больничном коридоре
В коридоре больничном поставили ёлку. Она
и сама смущена, что попала в обитель страданий.
В край окна моего ленинградская входит луна
и недолго стоит: много окон и много стояний.
К той старухе, что бойко бедует на свете одна,
переходит луна, и доносится шорох стараний
утаить от соседок, от злого непрочного сна
нарушенье порядка, оплошность запретных рыданий.
Всем больным стало хуже. Но всё же – канун Рождества.
Завтра кто-то дождётся известий, гостинцев, свиданий.
Жизнь со смертью – в соседях. Каталка всегда не пуста —
лифт в ночи отскрипит равномерность её упаданий.
Вечно радуйся, Дево! Младенца ты в ночь принесла.
Оснований других не оставлено для упований,
но они так важны, так огромны, так несть им числа,
что прощён и утешен безвестный затворник подвальный.
Даже здесь, в коридоре, где ёлка – причина для слёз
(не хотели её, да сестра заносить повелела),
сердце бьётся и слушает, и – раздалось, донеслось:
– Эй, очнитесь! Взгляните – восходит звезда Вифлеема.
Достоверно одно: воздыханье коровы в хлеву,
поспешанье волхвов и неопытной матери локоть,
упасавший Младенца с отметиной чудной во лбу.
Остальное – лишь вздор, затянувшейся лжи мимолётность.
Этой плоти больной, извреждённой трудом и войной,
что нужней и отрадней столь просто описанной сцены?
Но – корят то вином, то другою какою виной
и питают умы рыбьей костью обглоданной схемы.
Я смотрела, как день занимался в десятом часу:
каплей был и блестел как бессмысленный черный фонарик, —
там, в окне и вовне. Но прислышалось общему сну:
в колокольчик на ёлке названивал крошка-звонарик.
Занимавшийся день был так слаб, неумел, неказист.
Цвет – был меньше, чем розовый: родом из робких, не резких.
Так на девичьей шее умеет мерцать аметист.
Все потупились, глянув на кроткий и жалобный крестик.
А как стали вставать, с неохотой глаза открывать —
вдоль метели пронёсся трамвай, изнутри золотистый.
Все столпились у окон, как дети: – Вот это трамвай!
Словно окунь, ушедший с крючка: весь пятнистый, огнистый.
Сели завтракать, спорили, вскоре устали, легли.
Из окна вид таков, что невидимости Ленинграда
или невидали мне достанет для слёз и любви.
– Вам не надо ль чего-нибудь? – Нет, ничего нам не надо.
Мне пеняли давно, что мои сочиненья пусты.
Сочинитель пустот, в коридоре смотрю на сограждан.
Матерь Божия! Смилуйся! Сына о том же проси.
В День Рожденья Его дай молиться и плакать о каждом!
«Такая пала на́ душу метель…»
Такая пала на́ душу метель:
ослепли в ней и заплутали кони.
Я в элегантный въехала мотель,
где и сижу в шезлонге на балконе.
Вот так-то, брат ладыжинский овраг,
Я знаю силу твоего week-end’a,
но здесь такой у барменов аврал, —
прости, что говорю интеллигентно.
Въезжает в зренье новый лимузин.
Всяк флаг охоч до нашего простора.
Отечество юлит и лебезит:
Алёшки – ладно, но и Льва Толстого.
О бедное отечество, прости!
Не всё ж гордиться и грозить чумою.
Ты приворотным зельем обольсти
гостей желанных – пусть тряхнут мошною.
С чего я начала? Шезлонг? Лонгшез?
Как ни скажи – а всё сидеть тоскливо.
Но сколько финнов! Уж не все ли здесь,
где нет иль мало Финского залива?
Не то, что он отсутствует совсем,
но обитает за глухой оградой.
Мне нравится таинственный сосед,
невидимый, но свежий и отрадный.
Его привет щекою и плечом
приму – и вновь затворничаем оба.
Но – Финский он. Я – вовсе ни при чём,
хоть почитатель финского народа.
Не мне судить: повсюду и всегда
иль только здесь, где кемпинг и суббота,
присуща людям яркая черта
той красоты, когда душа свободна.
Да и не так уж скрытен их язык.
Коль придан Вакху некий бог обратный,
они весь день кричат ему: «Изыдь!» —
не размыкая рюмок и объятий.
Но и моя вдруг засверкала жизнь.
Содержат трёх медведиц при мотеле.
Невольно стала с ними я дружить,
на что туристы с радостью глядели.
Поэт. Медведь. Все-детское «Ура!».
Мы шествуем с медведицей моею.
Не обессудь, великая страна,
тебя я прославляю, как умею.
Какой успех! Какая благодать!
Аттракционом и смешным, и редким
могли бы мы валюту добывать
столь нужную – да возбранил директор.
Что делать дале? Я живу легко.
Событий – нет. Занятия – невинны.
Но в баре, глянув на мое лицо,
вдруг на мгновенье умолкают финны.
Венеция моя
Иосифу Бродскому
Темно, и розных вод смешались имена.
Окраиной басов исторгнут всплеск короткий.
То розу шлёт тебе, Венеция моя,
в Куоккале моей рояль высокородный.
Насупился – дал знать, что он здесь ни при чём.
Затылка моего соведатель настойчив.
Его: «Не лги!» – стоит, как Ангел за плечом,
с оскомою в чертах. Я – хаос, он – настройщик.
Канала вид… – Не лги! – в окне не водворён
и выдворен помин о виденном когда-то.
Есть под окном моим невзрачный водоём,
застой бесславных влаг. Есть, признаюсь, канава.
Правдивый за плечом, мой Ангел, такова
протечка труб – струи источие реально.
И розу я беру с роялева крыла.
Рояль, твое крыло в родстве с мостом Риальто.
Не так? Но роза – вот, и с твоего крыла
(застенчиво рука его изгиб ласкала).
Не лжёт моя строка, но всё ж не такова,
чтоб точно обвести уклончивость лекала.
В исходе час восьмой. Возрождено окно.
И темнота окна – не вырожденье света.
Цвет – не скажу какой, не знаю. Знаю, кто
содеял этот цвет, что вижу, – Тинторетто.
Мы дожили, рояль, мы – дожи, наш дворец
расписан той рукой, что не приемлет розы.
И с нами Марк Святой, и золотой отверст
зев льва на синеве, мы вместе, все не взрослы.
– Не лги! – но мой зубок изгрыз другой букварь.
Мне ведом звук черней диеза и бемоля.
Не лгу – за что запрет и каркает бекар?
Усладу обрету вдали тебя, близ моря.
Труп розы возлежит на гущине воды,
которую зову как знаю, как умею.
Лев сник и спит. Вот так я коротаю дни
в Куоккале моей, с Венецией моею.
Обо́сенел простор. Снег в ноябре пришёл
и устоял. Луна была зрачком искома
и найдена. Но что с ревнивцем за плечом?
Неужто и на час нельзя уйти из дома?
Чем занят ум? Ничем. Он пуст, как небосклон.
– Не лги! – и впрямь я лгун, не слыть же недолыгой.
Не верь, рояль, что я съезжаю на поклон
к Венеции – твоей сопернице великой.
……………………………………………………………………….
Здесь – перерыв. В Италии была.
Италия светла, прекрасна.
Рояль простил. Но лампа, сокровище окна, стола, – погасла.
Постой
Не полюбить бы этот дом чужой,
где звук чужой пеняет без утайки
пришельцу, что ещё он не ушёл:
де, странник должен странствовать, не так ли?
Иль полюбить чужие дом и звук:
уменьшиться, привадиться, втесаться,
стать приживалой сущего вокруг,
своё – прогнать и при чужом остаться?
Вокруг – весны разор и красота,
сырой песок, ведущий в Териоки.
Жилец корпит и пишет: та-та-та, —
диктант насильный заточая в строки.
Всю ночь он слышит сильный звук чужой:
то измышленья прежних постояльцев,
пока в окне неистощим ожог,
снуют, отбившись от умов и пальцев.
Но кто здесь жил, чей сбивчивый мотив
забыт иль за ненадобностью брошен?
Непосвященный слушатель молчит.
Он дик, смешон, давно ль он ел – не спрошен.
Длиннее звук, чем маленькая тьма.
Затворник болен, но ему не внове
входить в чужие звуки и дома
для исполненья их капризной воли.
Он раболепен и душой кривит.
Составленный вчерне из многоточья,
к утру готов бесформенный клавир
и в стройные преобразован клочья.
Покинет гость чужие дом и звук,
чтоб никогда сюда не возвращаться
и тосковать о распре музык двух.
Где – он не скажет. Где-то возле счастья.
«Всех обожаний бедствие огромно…»
Всех обожаний бедствие огромно.
И не совпасть, и связи не прервать.
Так навсегда, что даже у надгробья, —
потупившись, не смея быть при Вас, —
изъявленную внятно, но не грозно
надземную приемлю неприязнь.
При веяньях залива, при закате
стою, как нищий, согнанный с крыльца.
Но это лишь усмешка, не проклятье.
Крест благородней, чем чугун креста.
Ирония – избранников занятье.
Туманна окончательность конца.
Дом с башней
Луны ещё не вдосталь, а заря ведь
уже сошла – откуда взялся свет?
Сеть гамака ужасная зияет.
Ах, это май: о тьме и речи нет.
Дом выспренний на берегу залива.
В саду – гамак. Всё упустила сеть,
но не пуста: игриво и лениво
в ней дней былых полеживает смерть.
Бывало, в ней покачивалась дрёма
и упадал том Стриндберга из рук.
Но я о доме. Описанье дома
нельзя построить наобум и вдруг.
Проект: осанку вычурного замка
венчают башни шпиль и витражи.
Красавица была его хозяйка.
– Мой ангел, пожелай и прикажи.
Поверх кустов сирени и малины —
балкон с пространным видом на залив.
Всё гости, фейерверки, именины.
В тот майский день молился ль кто за них?
Сооруженье: вместе дом и остров
для мыслящих гребцов средь моря зла.
Здесь именитый возвещал философ
(он и поэт): – Так больше жить нельзя!
Какие ночи были здесь! Однако
хозяев нет. Быть дома ночью – вздор.
Пора бы знать: «Бродячая собака»
лишь поздним утром их отпустит в дом.
Замечу: знаменитого подвала
таинственная гостья лишь одна
навряд ли здесь хотя бы раз бывала,
иль раз была – но боле никогда.
Покой и прелесть утреннего часа.
Красотка-финка самовар внесла.
И гимназист, отрекшийся от чая,
всех пристыдил: – Так больше жить нельзя!
В устройстве дома – вольного абсурда
черты отрадны. Запределен бред
предположенья: вдруг уйти отсюда.
Зачем? А дом? А башня? А крокет?
Балы, спектакли, чаепитья, пренья.
Коса, румянец, хрупкость, кисея —
и голосок, отвлекшийся от пенья,
расплакался: – Так больше жить нельзя!
Влюблялись, всё смеялись и стрелялись
нередко, страстно ждали новостей.
Дом с башней ныне – робкий постоялец,
чудак изгой на родине своей.
Нет никого. Ужель и тот покойник —
незнаемый, тот, чей гамак дыряв,
к сосне прибивший ржавый рукомойник,
заткнувший щели в окнах и дверях?
Хоть не темнеет, а светает рано.
Лет дому сколько? Менее, чем сто.
Какая жизнь в нём сильная играла!
Где это всё? Да было ль это всё?
Я полюбила дом, и водостока
резной узор, и, более всего,
со шпилем башню и цветные стёкла.
Каков мой цвет сквозь каждое стекло?
Мне кажется, и дом меня приметил.
Войду в залив, на камне постою.
Дом снова жив, одушевлен и светел.
Я вижу дом, гостей, детей, семью.
Из кухни в погреб золотистой финки
так весел промельк! Как она мила!
И нет беды печальней детской свинки,
всех ужаснувшей, – да и та прошла.
Так я играю с домом и заливом.
Я занята лишь этим пустяком.
Над их ко мне пристрастием взаимным
смеётся кто-то за цветным стеклом.
Как всё сошлось! Та самая погода,
и тот же тост: – Так больше жить нельзя!
Всего лишь май двенадцатого года:
ждут Сапунова к ужину не зря.
«Темнеет в полночь и светает вскоре…»
Темнеет в полночь и светает вскоре.
Есть напряженье в столь условной тьме.
Пред-свет и свет, словно залив и море,
слились и перепутались в уме.
Как разгляжу незримость их соитья?
Грань меж воды я видеть не могу.
Канун всегда таинственней событья —
так мнится мне на этом берегу.
Так зорко, что уже подслеповато,
так чутко, что в заумии звенит,
я стерегу окно, и непонятно:
чем сам себя мог осветить залив?
Что предпочесть: бессонницу ли? сны ли?
Во сне видней что видеть не дано.
Вслепую – книжки Блока записные
я открываю. Пятый час. Темно.
Но не совсем. Иначе как я эти
слова прочла и поняла мотив:
«Какая безысходность на рассвете».
И отворилось зренье глаз моих.
Я вышла. Бодрый север по загривку
трепал меня, отверстый нюх солил.
Рассвету вспять я двинулась к заливу
и далее, по валунам, в залив.
Он морем был. Я там остановилась,
где обрывался мощный край гряды.
Не знала я: принять за гнев иль милость
валы непроницаемой воды.
Да, уж про них не скажешь, что лизнули
резиновое облаченье ног.
И никакой поблажки и лазури:
горбы судьбы с поклажей вечных нош.
Был камень сведущ в мысли моря тайной.
Но он привык. А мне, за все века,
повиснуть в них подробностью случайной
впервой пришлось. Простите новичка.
«Какая безысходность на рассвете».
Но рассвело. Свет боле не иском.
Неужто прыткий получатель вести
её обманет и найдёт исход?
Вдруг возгорелась вкрапина гранита:
смотрел на солнце великанский лоб.
Моей руке шершаво и ранимо
отозвалась незыблемая плоть.
«Какая безысходность на рассвете».
Как весел мне мой ход поверх камней.
За главный смысл лишь музыка в ответе.
А здравый смысл всегда перечит ей.
«Завидев дом, в испуге безъязыком…»
Завидев дом, в испуге безъязыком,
я полюбила дома синий цвет.
Но как залива нынче цвет изыскан:
сам как бы есть, а цвета вовсе нет.
Вода вольна быть призрачна, но слово
о ней такое ж – не со-цветно ей.
Об имени для цвета никакого
ты, синий дом, не думай, а синей!
А занавески жёлтые на окнах!
Утешно сине-жёлтое пятно.
И дома-балаганчика невольник
не веселей, должно быть, чем Пьеро.
Я слышала, и обвели чернила,
след музыки, что прежде здесь жила.
Так яблоко, хоть полно, но червиво.
Так этих стен ущербна тишина.
То ль слуху примерещилась больному
двоюродная му́ка грёз и слёз,
то ль не спалось подкидышу-бемолю.
Потом прошло, затихло, улеглось.
Увы тебе, грядущий мой преемник,
таинственный слагатель партитур.
Не преуспеть тебе в твоих пареньях:
в них чуждые созвучья прорастут.
Прости меня за то, что озарили
тебя затменья моего ума.
Всегда ты будешь думать о заливе.
Тебя возьмется припекать луна.
Потом пройдет. Исчезнет звук насильный,
но он твою не оскорбил струну.
Прошу тебя: люби мой домик синий
и занавесок яд и желтизну.
Они причастны тайне безобидной.
Я не смогу покинуть их вполне,
как близко сущий, но сейчас не видный
залив в моём распахнутом окне.
И что залив, загадка, поволока?
Спросила – и ответа заждалась.
Пожалуй, имя молодого Блока
подходит цвету, скрытому от глаз.
Побережье
Льву Копелеву
Не грех ли на залив сменять
дом колченогий, пусторукий,
о том, что есть, не вспоминать,
иль вспоминать с тоской и му́кой.
Руинам предпочесть родным
чужого бытия обломки
и городских окраин дым
вдали – принять за весть о Блоке.
Мысль непрестанная о нём
больному Блоку не поможет,
и тот обещанный лимон
здоровье чьё-то в чай положит.
Но был так сильно, будто есть
день упоенья, день надежды.
День притаился где-то здесь,
на этом берегу, – но где же?
Не тяжек грех – тот день искать
в каменьях и песках рассвета.
Но не бесчувственна ли мать,
избравшая занятье это?
Упрочить сердце, и детей
подкинуть обветшалой детской,
и ослабеть для слез о тех,
чьё детство – крайность благоденствий.
Услышат все и не поймут
намёк судьбы, беды предвестье.
Ум, возведённый в абсолют,
не грамотен в аз, буки, веди.
Но дом так чудно островерх!
Канун каникул и варенья,
день Ангела, и фейерверк,
том золочёный Жюля Верна.
Всё потерять, страдать, стареть —
всё ж меньше, чем пролёт дороги
из Петербурга в Сестрорецк,
Куоккалу и Териоки.
Недаром протяжён уют
блаженных этих остановок:
ведь дальше – если не убьют —
Ростов, Батум, Константинополь.
И дальше – осенит крестом
скупым святая Женевьева.
Пусть так. Но будет лишь потом
всё то, что долго, что мгновенно.
Сначала – дама, господин,
приникли кружева к фланели.
Всё в мире бренно – но не сын,
вверх-вниз гоняющий качели.
Не всякий под крестом, кто юн
иль молод, мёртв и опозорен.
Но обруч так летит вдоль дюн,
июнь, и небосвод двузорен.
И господин и дама – тот
имеют облик, чьё решенье —
труды истории, итог,
триумф её и завершенье.
А как же сын? Не надо знать.
Вверх-вниз летят его качели,
и юная бледнеет мать,
и никнут кружева к фланели.
В Крыму, похожий на него,
как горд, как мёртв герой поручик.
Нет, он – дитя. Под Рождество
какие он дары получит!
А чудно островерхий дом?
Ведь в нём как будто учрежденье?
Да нет! Там ёлка под замком.
О Ты, чьё празднуют рожденье,
Ты милосерд, открой же дверь!
К серьгам, браслетам и оковам
привыкла ли турчанка-ель?
И где это – под Перекопом?
Забудь! Своих детей жалей
за то, что этот век так долог,
за вырубленность их аллей,
за бедность их безбожных ёлок,
за не-язык, за не-латынь,
за то, что сирый ум – бледнее
без книг с обрезом золотым,
за то, что Блок тебе больнее.
Я и жалею. Лишь затем
стою на берегу залива,
взирая на чужих детей
так неотрывно и тоскливо.
Что пользы днём с огнём искать
снег прошлогодний, ветер в поле?
Но кто-то должен так стоять
всю жизнь возможную – и доле.
Поступок розы
Памяти Н. Н. Сапунова
«Как хороши, как свежи…» О, как свежи,
как хороши! Пять было разных роз.
Всему есть подражатели на свете
иль двойники. Но роза розе – рознь.
Четыре сразу сгинули. Но главной
был так глубок и жадно-дышащ зев:
когда б гортань стать захотела гласной, —
рык издала бы роза – царь и лев.
Нет, всё ж не так. Я слышала когда-то,
мне слышалось, иль выдумано мной
безвыходное низкое контральто:
вулканный выдох глубины земной.
Речей и пенья на высоких нотах
не слышу: как-то мелко и мало́.
Труд розы – вдох. Ей не положен отдых.
Трудись, молчи, сокровище моё.
Но что же запах, как не голос розы?
Смолкает он, когда она мертва.
Прости мои развязные вопросы.
Поговорим, о госпожа моя.
Куда там! Норов розы не покладист.
Вдруг аромат – отлет её души?
Восьмой ей день. Она свежа покамест.
Как свежи, Боже мой, как хороши
слова совсем бессмысленной и нежной,
прелестной и докучливой строки.
И роза, вместо смерти неизбежной,
здорова – здравомыслью вопреки.
Светает. И на синеве, как рана,
отверсто горло розы на окне
и скорбно чёрно-алое контральто.
Сама ль я слышу? Слышится ли мне?
Не с повеленьем, а с монаршей просьбой
не спорить же. К заливу я иду.
– О, не шути с моей великой розой! —
прошу и розу отдаю ему.
Плыви, о роза, бездну украшая.
Ты выбрала. Плыви светло, легко.
От Териок водою до Кронштадта,
хоть это смерть, не так уж далеко.
Волнам предайся, как художник милый
в ночь гибели, для века роковой.
До берега, что стал его могилой,
и ты навряд ли доплывешь живой.
Но лучше так – в разгар судьбы и славы,
предчувствуя, но знанья избежав.
Как он спешил! Как нервы были правы!
На свете та́к один лишь раз спешат.
Не просто тело мертвое качалось
в бесформенном удушии воды —
эпоха упования кончалась
и занимался крах его среды.
Вы встретитесь! Вы стоите друг друга:
одна осанка и один акцент,
как принято средь избранного круга,
куда не вхож богатый фармацевт.
Я в дом вошла. Стоял стакан коряво.
Его настой другой цветок лакал.
Но слышалось бездонное контральто,
и выдох уст ещё благоухал.
Вот истеченье поминальных суток
по розе. Синева и пустота.
То – гордой розы собственный поступок.
Я ни при чём. Я розе – не чета.







