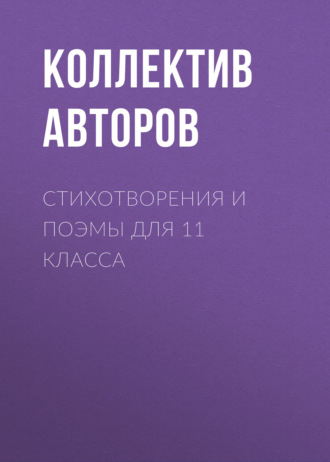
Владимир Высоцкий
Стихотворения и поэмы для 11 класса
Вокзальчик
Сердчишко жизни – жил да был вокзальчик.
Горбы котомок на перрон сходили.
Их ждал детей прожорливый привет.
Юродивый там обитал вязальщик.
Не бельмами – зеницами седыми
всего, что зримо, он смотрел поверх.
Поила площадь пьяная цистерна.
Хмурь душ, хворь тел посуд не полоскали.
Вкус жесткой жижи и на вид – когтист.
А мимо них любители сотерна
неслись к нему под тенты полосаты.
(Взамен – изгой в моём уме гостит.)
Одно казалось мне недостоверно:
в окне вагона, в том же направленье,
ужель и я когда-то пронеслась?
И хмурь, и хворь, и площадь, где цистерна, —
набор деталей мельче нонпарели —
не прочитал в себя глядевший глаз?
Сновала прыткость, супилось терпенье.
Вязальщик оставался строг и важен.
Он видел запрокинутым челом
надземные незнаемые петли.
Я видела: в честь вечности он вяжет
безвыходный эпический чулок.
Некстати всплыло: после половодий,
когда прилив заманчиво и гадко
подводит счёт былому барахлу,
то ль вождь беды, то ль вестник подневольный,
какого одинокого гиганта
сиротствует башмак на берегу?
Близ сукровиц драчливых и сумятиц,
простых сокровищ надобных взалкавших,
брела, крестясь на грубый обелиск,
живых и мёртвых горемык со-матерь.
Казалось – мне навязывал вязальщик
наказ: ничем другим не обольстись.
Наказывал, но я не обольщалась
ни прелестью чужбин, ни скушной лестью.
Лишь год меж сентябрём и сентябрём.
Наказывай. В угрюмую прыщавость
смотрю подростка и округи. Шар ведь
земной – округлый помысел о нём.
Опять сентябрь. Весть поутру блазнила:
– Хлеб завезли на станцию! Автобус
вот-вот прибудет! – Местность заждалась
гостинцев и диковинки бензина.
Я тороплюсь. Я празднично готовлюсь
не пропустить сей редкий дилижанс.
В добрососедство старых распрей вторглась,
в приют гремучий. Встреч помчались склоны,
рябины радость, рдяные леса.
Меньшой двойник отечества – автобус.
Легко добыть из многоликой злобы
и возлюбить сохранный свет лица.
Приехали. По-прежнему цистерна
язвит утробы. Булочной сегодня
её триумф оспорить удалось.
К нам нынче неприветлива Церера.
Торгует георгинами зевота.
Лишь яблок вдосыть – под осадой ос.
Но всё ж и мы не вовсе без новинок.
Франтит и бредит импорт домотканый.
Сродни мне род уродов и калек.
Пинает лютость муку душ звериных.
Среди сует, метаний, бормотаний —
вязальщика слепого нет как нет.
Впустую обошла я привокзалье,
дивясь тому, что очередь к цистерне
на карликов делилась и верзил.
Дождь с туч свисал, как вещее вязанье.
Сплетатель самовольной Одиссеи,
глядевший ввысь, знать, сам туда возмыл.
Я знала, что изделье бесконечно
вязальщика, пришедшего оттуда,
где бодрствует, связуя твердь и твердь.
Но без него особенно кромешна
со мной внутри кровавая округа.
Чем искуплю? Где Ты ни есть, ответь.
19 октября 1996 года
Осенний день, особый день —
былого дня неточный слепок.
Разор дерев, разор людей
так ярки, словно напоследок.
Опальный Пасынок аллей,
на площадь сосланный Страстну́ю, —
суров. Вблизи – младой атлет
вкушает вывеску съестную.
Живая проголодь права́.
Книгочий изнурён тоскою.
Я неприкаянно брела,
бульвару подчинясь Тверскому.
Гостинцем выпечки летел
лист, павший с клёна, с жара-пыла.
Не восхвалить ли мой Лицей?
В нём столько молодости было!
Останется сей храм наук,
наполненный гурьбой задорной,
из страшных герценовских мук
последнею и смехотворной.
Здесь неокрепшие умы
такой воспитывал Куницын,
что пасмурный румянец мглы
льнул метой оспы к юным лицам.
Предсмертный огнь окна светил,
и Переделкинский изгнанник
простил ученикам своим
измены роковой экзамен.
Где мальчик, чей триумф-провал
услужливо в погибель вырос?
Такую подлость затевал,
а малости вина – не вынес.
Совпали мы во дне земном,
одной питаемые кашей,
одним пытаемые злом,
чьё лакомство снесёт не каждый.
Поверженный в забытый прах,
Сибири свежий уроженец,
ты простодушной жертвой пал
чужих веленьиц и решеньиц.
Прости меня, за то прости,
что уцелела я невольно,
что я весьма или почти
жива и пред тобой виновна.
Наставник вздоров и забав —
ухмылка пасти нездоровой,
чьему железу – по зубам
нетвёрдый твой орех кедровый.
Нас нянчили надзор и сыск,
и в том я праведно виновна,
что, восприняв ученья смысл,
я упаслась от гувернёра.
Заблудший недоученик,
я, самодельно и вслепую,
во лбу желала учинить
пядь своедумную седьмую.
За это – в близкий час ночной
перо поведает странице,
как грустно был проведан мной
страдалец, погребённый в Ницце.
Надпись на книге: 19 октября
Фазилю Искандеру
Согласьем розных одиночеств
составлен дружества уклад.
И славно, и не надо новшеств
новей, чем сад и листопад.
Цветёт и зябнет увяданье.
Деревьев прибылен урон.
На с Кем-то тайное свиданье
опять мой весь октябрь уйдёт.
Его присутствие в природе
наглядней смыслов и примет.
Я на балконе – на перроне
разлуки с Днём: отбыл, померк.
День девятнадцатый, октябрьский,
печально щедрый добродей,
отличен силой и окраской
от всех, ему не равных, дней.
Припёк остуды: роза блекнет.
Балкона ледовит причал.
Прощайте, Пущин, Кюхельбекер,
прекрасный Дельвиг мой, прощай!
И Ты… Но нет, так страшно близок
ко мне Ты прежде не бывал.
Смеётся надо мною призрак:
подкравшийся Тверской бульвар.
Там до́ма двадцать пятый нумер
меня тоскою донимал:
зловеще бледен, ярко нуден,
двояк и дик, как диамат.
Издёвка моего Лицея
пошла мне впрок, всё – не беда,
когда бы девочка Лизетта
со мной так схожа не была.
Я, с дальнозоркого балкона,
смотрю с усталой высоты
в уроки времени былого,
чья давность – старее, чем Ты.
Жива в плечах прямая сажень:
к ним многолетье снизошло.
Твоим ровесником оставшись,
была б истрачена на что?
На всплески рук, на блёстки сцены,
на луч и лики мне в лицо,
на вздор неодолимой схемы…
Коль это – всё, зачем мне всё?
Но было, было: буря с мглою,
с румяною зарёй восток,
цветок, преподносимый мною
стихотворению «Цветок»,
хребет, подверженный ознобу,
когда в иных мирах гулял
меж теменем и меж звездою
прозрачный перпендикуляр.
Вот он – исторгнут из жаровен
подвижных полушарий двух,
как бы спасаемый жонглёром
почти предмет: искомый звук.
Иль так: рассчитан точным зодчим
отпор ветрам и ветеркам,
и поведенья позвоночник
блюсти обязан вертикаль.
Но можно, в честь Пизанской башни,
чьим креном мучим род людской,
клониться к пятистопной блажи
ночь напролёт и день-деньской.
Ночь совладает с днём коротким.
Вдруг, насылая гнев и гнёт,
потёмки, где сокрыт католик,
крестом пометил гугенот?
Лиловым сумраком аббатства
прикинулся наш двор на миг.
Сомкнулись жадные объятья
раздумья вкруг друзей моих.
Для совершенства дня благого,
покуда свет не оскудел,
надземней моего балкона
внизу проходит Искандер.
Фазиля детский смех восславить
успеть бы! День, повремени.
И нечего к строке добавить:
«Бог помочь вам, друзья мои!»
Весь мой октябрь иссякнет скоро,
часы, с их здравомысльем споря,
на час назад перевели.
Ты, одинокий вождь простора,
бульвара во главе Тверского,
и в Парке, с томиком Парни́
прости быстротекучесть слова,
прерви медлительность экспромта,
спать благосклонно повели…
Поездка в город
Борису Мессереру
Я собиралась в город ехать,
но всё вперялись глаз и лоб
в окно, где увяданья ветхость
само сюжет и переплёт.
О чём шуршит интрига блеска?
Каким обречь её словам?
На пальцы пав пыльцой обреза,
что держит взаперти сафьян?
Мне в город надобно, – но втуне,
за краем книги золотым,
вникаю в лиственной латуни
непостижимую латынь.
Окна́ усидчивый читатель,
слежу вокабул письмена,
но сердца брат и обитатель
торопит и зовёт меня.
Там – дом-артист нескладно статен
и переулков приворот
издревле славит Хлеб и Скатерть
по усмотренью Поваров.
Возлюблен мной и зарифмован,
знать резвость грубую ленив,
союз мольберта с граммофоном
надменно непоколебим.
При нём крамольно чистых пиршеств
не по усам струился мёд…
…Сад сам себя творит и пишет,
извне отринув натюрморт.
Сочтёт ли сад природой мёртвой,
снаружи заглянув в стекло,
собранье рухляди аморфной
и нерадивое стило?
Поеду, право. Пушкин, милый,
всё Ты, всё жар Твоих чернил!
Опять красу поры унылой
Ты самовластно учинил.
Пока никчёмному посёлку
даруешь злато и багрец,
что к Твоему добавит слову
тетради узник и беглец?
Вот разве что: у нас в селенье,
хоть улицы весьма важней,
проулок имени Сирени
перечит именам вождей.
Мы из Мичуринца, где листья
в дым обращает садовод.
Нам Переделкино – столица,
Там – ярче и хмельней народ.
О недороде огорода
пекутся честные сердца.
Мне не страшна запретность входа:
собачья стража – мне сестра.
За это прозвищем «не наши»
я не была уязвлена.
Сметливо-кротко, не однажды,
я в их владения звана.
День осени не сродствен злобе.
Вотще охоч до перемен
рождённый в городе Козлове
таинственный эксперимент.
Люблю: с оградою бодаясь,
привет козы меня узнал.
Ба! я же в город собиралась!
Придвинься, Киевский вокзал.
Ни с места он… Строптив и бурен
талант козы – коз помню всех.
Как пахнет яблоком! Как Бунин
«прелестную козу» воспел.
Но я – на станцию, я – мимо
угодий, пасек, погребов.
Жаль, электричка отменима,
что вольной ей до Поваров?
Парижский поезд мимолётный,
гнушаясь мною, здраво прав,
оставшись россыпью мелодий
в уме, воспомнившем Пиаф.
Что ум ещё в себе имеет?
Я в город ехать собралась.
С пейзажа, что уже темнеет,
мой натюрморт не сводит глаз.
Сосед мой, он отторгнут мною.
Я саду льщу, я к саду льну.
Скользит октябрь, гоним зимою,
румяный, по младому льду.
Опомнилась руки повадка.
Зрачок устал в дозоре лба.
Та, что должна быть глуповата,
пусть будет, если не глупа.
Луны усилилось значенье
в окне, в окраине угла.
Ловлю луча пересеченье
со струйкой дыма и ума,
пославшего из недр затылка
благожелательный пунктир.
Растратчик: детская копилка —
всё получил, за что платил.
Спит садовод. Корпит ботаник,
влеком Сиреневым Вождём.
А сердца брат и обитатель
взглянул в окно и в дверь вошёл.
Душа – надземно, над-оконно —
примерилась пребыть не здесь,
отведав воли и покоя,
чья сумма – счастие и есть.
Изгнание ёлки
Борису Мессереру
Я с Ёлкой бедною прощаюсь:
ты отцвела, ты отгуляла.
Осталась детских щёк прыщавость
от пряников и шоколада.
Вино привычно обмануло
полночной убылью предчувствий.
На лампу смотрит слабоумно
возглавья полумесяц узкий.
Я не стыжусь отверстой вести:
пера приволье простодушно.
Всё грустно, хитроумно если,
и скушно, если дошло, ушло.
Пусть мученик правописанья,
лишь глуповатости учёный
вздохнет на улице – бесправно
в честь «правды» чьей-то наречённой.
Смиренна новогодья осыпь.
Пасть празднества – люта, коварна.
В ней кротко сгинул Дед-Морозик,
содеянный из шоколада.
Родитель плоти обречённой —
кондитер фабрики соседней
(по кличке «Большевик»), и оный
удачлив: плод усердий съеден.
Хоть из съедобных он игрушек,
нужна немалая отвага,
чтоб в сердце сходство обнаружить
с раскаяньем антропофага.
Злодейство облегчив оглаской,
и в прочих прегрешеньях каюсь,
но на меня глядят с опаской
и всякий дед, и Санта-Клаус.
Я и сама остерегаюсь
уст, шоколадом обагрённых,
обязанных воспеть сохранность
сокровищ всех, чей царь – ребёнок.
Рта ненасытные потёмки
предам – пусть мимолётной – славе.
А тут ещё изгнанье Ёлки,
худой и нищей, в ссылку свалки.
Давно ль доверчивому древу
преподносили ожерелья,
не упредив лесную деву,
что дали поносить на время.
Отобраны пустой коробкой
её убора безделушки.
Но доживёт ли год короткий
до следующей до пирушки?
Ужасен был останков вынос,
круг соглядатаев собравший.
Свершив столь мрачную повинность,
как быть при детях и собаках?
Их хоровод вкруг злых поступков
состарит ясных глаз наивность.
Мне остаётся взор потупить
и шапку на глаза надвинуть.
Пресытив погребальный ящик
для мусора, для сбора дани
с округи, крах звезды блестящей
стал прахом, равным прочей дряни.
Прощай, навек прощай. Пора уж.
Иголки выметает веник.
Задумчив или всепрощающ
родитель жертвы – отчий ельник.
Чтоб ни обёртки, ни окурка,
чтоб в праздник больше ни ногою —
была погублена фигурка,
форсившая цветной фольгою.
Ошибся лакомка, желая
забыть о будущем и бывшем.
Тень Ёлки, призрачно-живая,
приснится другом разлюбившим.
Сам спящий – в сновиденье станет
той, что взашей прогнали, Ёлкой.
Прости, вечнозелёный странник,
препятствуй грёзе огнеокой.
Сон наказующий – разумен.
Ужели голос мой пригубит
вопль хора: он меня разлюбит.
Нет, он меня любил и любит.
Рождественским неведом елям
гнев мести, несовместный с верой.
Дождусь ли? Вербным Воскресеньем
склонюсь пред елью, рядом с вербой.
Возрадуюсь началу шишек:
росткам неопытно зелёным.
Подлесок сам меня отыщет,
спасёт его исторгшим лоном.
Дождаться проще и короче
Дня, что не зря зовут Прощёным.
Есть место, где заходит в рощи
гость-хвоя по своим расчётам.
На милость ельника надеюсь,
на осмотрительность лесничих.
А дале – Чистый Понедельник,
пост праведников, прибыль нищих.
А дале, выше – благоустье
оповещения: – Воскресе!
Ты, о котором сон, дождусь ли?
Дождись, пребудь, стань прочен, если…
что – не скажу. Я усмехнулась —
уж сказано: не мной, Другою.
Вновь – неправдоподобность улиц
гудит, переча шин угону…
У этих строк один читатель:
сам автор, чьи темны намёки.
Татарин, эй, побывши татем,
окстись, очнись, забудь о Ёлке.
Автомобильных стонов бредни…
Не нужно Ёлке слов излишних —
за то, что не хожу к обедне,
что шоколадных чуд – язычник.
Мгновенье бытия
«На свете счастья нет…»
Нет счастья одного – бывает счастий много.
Неграмотный, – вдруг прав туманный афоризм?
Что означаешь ты, беспечных уст обмолвка?
Открой свой тайный смысл, продлись, проговорись.
Опять, перо моё, темным-темно ты пишешь,
морочишь и гневишь безгрешную тетрадь.
В угодиях ночей мой разум дик и вспыльчив,
и дважды изнурён: сам жертва и тиран.
Пусть выведет строка, как чуткий конь сквозь вьюгу,
не стану понукать, поводья опущу.
Конь – гением ноздри и мышц влеком к уюту
заветному. Куда усидчиво спешу?
Нет, это ночь спешит. Обмолвкою, увёрткой
неужто обойдусь, воззрившись на свечу?
Вот – полночь. Вот – стремглав – час наступил четвёртый.
В шестом часу пишу: довольно! спать хочу.
Сподвижник – кофеин мне шлёт привет намёка:
он презирает тех, кто завсегдатай снов.
…Нет счастья одного – бывает счастий много:
не лучшее ль из них сбывалось в шесть часов?
В Куоккале моей, где мой залив плескался
иль бледно леденел похолоданья в честь,
был у меня сосед – зелёная пластмасса —
он кротко спал всю ночь и пробуждался в шесть.
В шесть без пяти минут включала я пригодность
предмета – в дружбе быть. Спросонок поворчав,
он исполнял свой долг, и Ленинграда голос:
что – ровно шесть часов – меня оповещал.
Возглавие стола – возлюбленная лампа —
вновь припекала лоб и черновик ночной.
Кот глаз приоткрывал. И не было разлада
меж лампой и душой, меж счастием и мной.
За пристальным окном – темно, безлюдно, лунно,
непрочной белизной очнуться мрак готов.
Уж вдосталь, через край, – но счастье к счастью льнуло,
и завтракать мы шли, сквозь сад, вдвоём с Котом.
Пригожа и свежа, нас привечала Нина.
Съев кашу, хлеб и сыр я прятала в карман.
Припасливость моя мелка, но объяснима:
залив внимал моим карманным закромам.
Хоть знают, что приду, – во взбалмошной тревоге
все чайки надо мной возреют, воскричат.
Направо от меня – чуть брезжат Териоки,
и прямо предо мной, через залив, – Кронштадт.
Я чайкам хлеб скормлю, смущаясь, что виновна
пред ненасытной их и дерзкой белизной.
Скосив зрачок ума, за мной следит ворона —
ей не впервой следить и следовать за мной.
Встреч ритуал таков: вот-вот от смеха сникну…
– Вороне как-то Бог… – нет, не могу, смеюсь,
но продолжаю: – Бог послал кусочек сыру —
и достигает сыр вороньих острых уст.
Налюбовавшись всласть её громоздкой статью,
но всласть не угостив, скольжу домой по льду.
Есть в доме телефон. Прибавив счастье к счастью,
я говорю: – Люблю! – тому, кого люблю.
Уже роялей всех развеялась дремота.
Весь побережный дом – прилежный музыкант.
Сплошного – не дано, а кратких счастий – много,
того, что – навсегда, не смею возалкать.
Так помышляла я на милом сердцу свете.
Согласно жили врозь настольный огнь и тьма.
Пока настороже живая мысль о смерти,
спешу благословить мгновенье бытия.
«Девочка с персиками»
Сияет сад, и девочка бежит,
ещё свежо июня новоселье.
Ей весело, её занятье – жить,
и всех любить, и быть любимой всеми.
Она, и впрямь, любима, как никто,
семьёй, друзьями, мрачным гимназистом,
и нянюшкой, воззревшейся в окно,
и знойным полднем, и оврагом мглистым.
Она кричит: «Я не хочу, Антон,
ни персиков, ни за столом сиденья!»
Художник строго говорит о том,
что творчество, как труд крестьян, – вседенно.
Меж тем он сам пристрастен к чехарде,
и сам хохочет, змея запуская.
Везде: в саду, в гостиной, в чердаке —
его усердной кисти мастерская!
А девочке смешно, что ревновал
угрюмый мальчик и молчал сурово.
Москву давно волнует Ренуар,
Абрамцево же влюблено в Серова.
Он – Валентин, но ре́кло он отверг
и слыл Антоном в своеволье детства.
Уж фейерверк, спех девочки – наверх:
снять розовое, в белое одеться.
И синий бант отринуть до утра,
она б его и вовсе потеряла,
он – надоел, но девочка – добра,
и надеванье банта повторяла.
Художника и девочки – кумир:
Лев золотой, Венеции возглавье.
Учитель Репин баловство корил,
пост соблюдая во трудах, во славе.
А я люблю, что ей суждён привет
модистки ловкой на Мосту Кузнецком.
…Ей данный вкратце, иссякает век.
Она осталась в полдне бесконечном.
Ещё сирень, уже произросло
жасминное удушье вкруг беседки.
Серьёзный взор скрывает озорство,
несведущее в скуке и бессмертье.
Пусть будет там, где персики лежат,
пусть бант синеет, розовеет блуза.
Так Мамонтову Верочку мне жаль:
нет мочи ни всплакнуть, ни улыбнуться.
Отсутствие черёмухи
Давно ль? Да нет, в тысячелетье прошлом,
черёмухе чиня урон и вред,
скитаясь по оврагам и по рощам,
я всякий раз прощалась с ней навек.
С больным цветком, как с жизнью, расставалась.
Жизнь убывала, длился ритуал.
Страшись своих обмолвок! – раздавалось.
Смысл наущенья страх не разгадал.
Я стала завсегдатай отпеваний,
сообщник, но не сотворитель слёз.
Вокруг меня смыкался мор повальный,
меня не тронул, а других унёс.
Те, что живее, надобней, прочнее,
чем я, меня опередив, ушли.
Вновь слышу уст неведомых реченье:
– Остерегись! Ещё не всё, учти.
В студёном, снежном мае прошлогоднем
был сад простужен, огород продрог,
зато души неодолимый голод
сполна вкусил растенья приворот.
Со мною ныне разминулся идол,
и что ему моей тоски пустяк!
Нюх бедствовал, ум бредил,
глаз не видел.
– Навек! – твердила.
Что же, век иссяк.
Век заменим другим. —
Прощай навеки! —
вот ария из оперы немой.
Случайно ли влиянье властной ветви,
хотя б одной, май разлучил со мной?
В чужом столетье и тысячелетье
навряд ли я надолго приживусь.
Май на исходе. Урожай черешни —
занятье и окраска детских уст.
Созреет новорожденный ботаник,
весь век – его, а он уже умён.
Но о моих черёмуховых тайнах —
им счёту нет – не станет думать он.
Привыкла я, черёмуху оплакав,
лелеять, холить и хвалить сирень.
Был цвет её уму и зренью лаком;
как мглисто Пана ворожит свирель!
На этот раз лиловые соцветья
угрюмо-скрытны, явно не к добру.
Предчувствия и опасенья эти
я утаю и не предам перу.
Вишневый сад
Не описать ли… не могу писать…
Весь белый свет – спектр, сумма розней, распрей.
В окне моём расцвёл вишнёвый сад —
белейший семицветный день февральский
Сад – самоцветный самовластный день.
Сомкнувши веки, что в окне я вижу?
Сад – снегопад – слышней, чем вздор людей.
Тот Сад Вишнёвый – не лелеет вишню —
не потому, что саду лесоруб
сулит расцвет пустыни диковатый.
Был изначально обречён союз:
мысль и соцветья зримых декораций.
Так думал Бунин – прочитает всяк,
кто пожелает. Я в сей час читаю.
Чем зрителю видней Вишнёвый сад,
тем строже Сад оберегает тайну.
Что я в ночи читаю и о Ком —
мне всё равно: поймут ли, не поймут ли.
Тайник – разверст и затворен. Доколь
скорбеть о тайне в скрытном перламутре?
Вишнёвый сад глядит в моё окно.
Огнь мыса опаляет подоконник.
Незваный, входит в дверь… не знаю: кто.
Кто б ни был он, я – жертва, он – охотник.
Вишнёвый сад в уме – о таковом
не слыхивал тот, кто ошибся дверью.
Как съединились сад и Таганрог, —
понятно лишь заснеженному древу
в окне моём. Тот, думаю о Ком, —
при бытия мучительном ущербе,
нам тайн своих не объяснил. Но, он
врачу диагноз объяснил: «Ich sterbe».
«Жизнь кончена», – услышал доктор Даль.
Величие – и в смерти деликатно.
Вошедший в дверь, протягивая длань,
проговорил: – Насилу доискался.
Жизнь кончена? Уже? – Он в письмена
свой вперил взгляд, возгоревав не слишком.
– К несчастью, это – не мои слова.
Склонившийся, их дважды Даль услышал.







