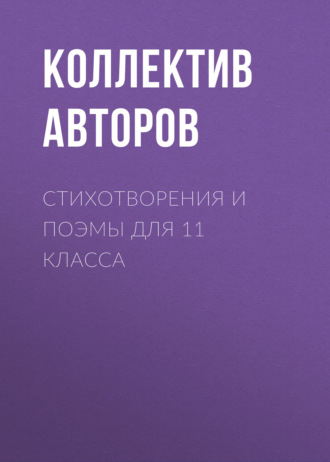
Владимир Высоцкий
Стихотворения и поэмы для 11 класса
и: расходящиеся облака
[в память о зиме 1959–1960 годов]
1.
не с кем ему Расставаться и он Разлучает себя
в нас через нас!
это я вижу
по облакам
2.
– а наши балы, а заря, а залы,
алмазы, лампы, ангелы мои?
ответ: обрубок; клич: кусок; пароль: отрывок;
а цельный – в армии бе-эС
3.
а говорим ли кричим ли
и вспоминаем ли —
преследуемы проецируемы
убиваемы
4.
– и лес стенами золотыми
светя по памяти прохаживайся
приоткрывай прострелы доньев
как не-тревожащие раны
включи в свой свет и затеряй – как в море!
(пока я видимый как ты)
|1960|
из гостей
Ночью иду по пустынному городу
и тороплюсь
скорее – дойти – до дому,
ибо слишком трудно —
здесь, на улице,
чувствовать,
как хочу обнимать я камни.
И – как собака – деснами – руку —
руками – свои – рукава —
и – словно звуки
прессующей машины,
впечатленья о встречах в том доме,
который я недавно покинул;
и – жаль – кого-то – жаль – постоянно,
как резкую границу
между черным и белым;
и – тот наклон головы, при котором
словно издали помню себя,
я сохраню до утра,
сползая локтями по столу,
как по воску.
|1961|
счастье
– Там, где эти глаза зачинались,
был спровоцирован свет…
Я симметрично раскладываю ракушки
на женщину чужую,
лежащую на песке.
А облака – как крики,
и небо полно этих криков,
и я различаю границы
тишины и шума, —
они в улыбающейся женщине
заметны, как швы на ветру;
и встряхиваюсь я, как лошадь,
среди потомков дробей и простенков;
и думаю: хватит с меня, не мое это дело,
надо помнить, что два человека —
это и есть Биркенау, —
о табу ты мое, Биркенау мое,
игра матерьяла и железо мое,
чудо – не годится, чу́динко мое,
“я” – не годится, “оой!” мое!
|1960|
отмеченная зима
белым и светлым вторым
страна отдыхала
причиной была темноте за столом
и ради себя тишину создавая
дарила не ведая где и кому
и бог приближался к своему бытию
и уже разрешал нам касаться
загадок своих
и изредка шутя
возвращал нам жизнь
чуть-чуть холодную
и понятную заново
|1960|
люди
Так много ночей
линии стульев, рам и шкафов
провожал я движениями
рук и плеч
в их постоянный
и неведомый путь.
Я не заметил,
как это перенес на людей.
Должен признаться: разговаривая с ними,
мысленно мерил я пальцами
линии их бровей.
И были они везде,
чтобы я не забыл
о жизни в форме людей,
и были недели и годы,
чтобы с ними прощаться,
и было понятие мышления,
чтобы я знал,
что блики на их фортепьяно
имеют свою родню
в больницах и тюрьмах.
|1960|
прощальное
О, вижу тебя я, как свет в апельсине,
когда его режут,
твоя тишина освещала зрачки
издали, еще не коснувшись,
словно ты видела
еще до зрачков —
там, в глубине —
в горячем и красном.
Как будто плечами и шеей
плечам ты моим объясняла,
где в близости есть расхожденье,
но было ли это обидно,
когда это было
тише плеч, тише шеи
и тише руки.
И мне, как открытые форточки, запоминались
все детские твои имена,
их знал только я, и остались они,
как снег по ту сторону
тюремных ворот —
тише смерти и тише тебя.
|1960|
из зимнего окна
голова
ягуаровым резким движеньем,
и, повернувшись, забываю слова;
и страх занимает
глубокие их места,
он прослежен давно
от окон – через – сугробы – наис – косок —
до черных туннелей;
я разрушен давно
на всем этом пути,
издали, из подворотен
белые распады во мгле
бьют
по самому сердцу —
страшнее, чем лица во время бурана;
все полно до отказа, и пластами тюленьими,
не разграничив себя от меня,
что-то тесное тихо шевелится
мокрыми воротниками и тяжелыми ветками;
светится, будто пласты скреплены
свистками и фарами;
и, когда, постепенно распавшись,
ослабевшее это пространство
выявляет меня в темноте,
я весь,
оставленный здесь между грудами тьмы —
что-то больное,
и невыразимо мамино,
как синие следы у ключиц.
|1960|
детство
Желтая вода,
на скотном дворе —
далека, холодна, априорна,
и там, как барабанные палочки,
не знают конца
алфавиты диких детей:
о Соломинка, Щепка, Осколок Стекла,
о Линейные Скифские Ветры,
и, словно карнавальная драка в подвалах,
Бумага, Бумага, Бумага,
о юнги соломинок,
о мокрые буквы на пальцах!
ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ – ЭТО КАК БЫ РЕЖЕТ,
НО ТОЛЬКО МЕНЯ, НЕ ВАС!
РЕЖЕТ – ЧЕРЕЗ КАРТИНЫ И ПЛАТЬЯ
И ЧЕРЕЗ КОГТИ ПТИЦ!
Коровьи копыта – ярки, неимоверны,
что-то – от въезда в бухту,
что-то – от бала,
и сразу, как стучащие рельсы,
ярки, широки, беспощадны
обнимающие нас соучастники —
руки, сестры, шеи, мамы!
Разгуляемся снова, разгуляемся,
снова заснем и пройдем
не вчера, не сегодня, не завтра, а-а-а-а-а-а! —
СКВОЗЬ КРИКИ ДЕТЕЙ,
ЧЕРЕЗ МОКРЫЕ БУКВЫ,
ЧЕРЕЗ КАРТИНЫ И ПЛАТЬЯ
И ЧЕРЕЗ КОГТИ ПТИЦ!
|1960|
окна весной – на трубной площади
[в. яковлеву]
качающимися квадратами
цветения и звона
всех детств моих, знакомых
прозрачным опустевшим городам,
я их коснусь, и девичьи венчанья
все так же будут длиться
без музыки и без дверей;
глубины теплятся
зеленовато-сумрачно,
и плачут гам, за ними,
дождем измазанные мясники,
упав на груды рыб;
и вновь топтанье и переступанье —
я здесь, я здесь;
топтанье и переступанье —
раз навсегда —
как колокол в тумане —
– и как – шмуцтитулы – акафистов —
мне снится – красная – разорванность —
и собранность
|1961|
женщина этой весной
Птица у стенки, падая замертво,
клювом скользнула по белой бумаге,
я не вижу ее, но она – у нее,
потому это знаю,
что стыжусь ее взглядов.
Блеск подглазья,
как будто бесстыдно положенный
пальцами мальчика,
на мост поведет
меня через час,
и будут флаги свободны,
и далеки, и свежи;
это ведь за нее устаю
и за нее умираю
среди зелени странной:
все кругом состоит
из свисающих
и бесперспективных лоскутьев
осиновой дикой коры
без стволов и без веток;
а стыд за нее не проходит,
как будто касалась она
соломы на нищем гумне,
как будто из окон больницы
рассматривают ее вечерами
и знают: “не надо, не надо…”
и слишком уверенно
и равнодушно молчат.
|1961|
женщина справа
Там то, говорящее,
меня удивляющее тем,
что создает себе волосы;
там то,
что падать стыдится и может упасть,
и яблоки катятся на привязи,
а привязи тонки,
холодны;
там – “Р”, это полое “Р”,
этот круг удивительных “Р”,
там иголки от крови жасмина,
там
как будто обмывают оленьи глаза и рога,
а здесь, где я,
как будто раскладывают
хворост за хворостом.
Потребуем вьюгу —
она зашевелится
в провалах витрин.
Звать начинайте без имени,
словно бросая
скрещивающиеся белые линии.
А там, там —
эта спина,
меняющая меня, как олени леса,
и она, как убийство, есть и не здесь,
и оторвана страшно названьем
от самого человека,
как будто во сне подарили
железную форму распутья
и сказали, что это есть вечность,
и стал я, поверив, несчастным,
и плачу я, плачу, плачу
во всех углах
самого себя.
|1961|
Поля-двойники
1961–1965
утро в переделкине
все словно высчитывало
в этом доме себя самого:
пальцы чьи? и мелькало: чей свет?
чья синица? чей щеголь?
пологи надвое дарили себя
имея при людях
где-то свое раскаленное дно
и наклоняли тут двери
на независимой от близкого леса
площадке дверей
а часть платья на теле —
словно холод осенний на картах игральных!
это – льду! подоконники – льду! пальцы
детские – льду!
все в оттисках свистов
светло и оконно
будто без девочки этого дома
зацокало “це”
в брошенном всеми дому!
но войду – и лесным тарахтеньем
поверхности
станут полны потолки
и засветишься
вся словно колючки испарины
непрерываема
и узоры волненья как тени полыни
составят тебя наподобие
светлого хозяйства из перебоев дыханья
и утро подробно
подробен и сад
и все при тебе
в этом доме подробны с утра
как будто возникшие каждый в отдельности
только сейчас
|1961|
утро в детстве
а, колебало, а,
впервые просто чисто
и озаряло без себя
и узко, одиноко
и выявлялась: полевая!
проста, русалочка!
и лилия была, как слог второй была —
на хруст мороза, —
с поверхности блестящей, мокрой,
– царапинки! – заговорю, – царапинки!
с мороза,
и на руке —
впервые след пореза
а этот плач средь трав:
– я богу отдан заново!
а нищий брат, мой ангел под зарей! —
уже тогда задумали,
чтоб объяснил,
и чтоб ушел,
и чтоб осталась эта суть:
царапинки… заговорю – царапинки…
|1961|
реквием девочке
милей вдоль рук
прощальней вдоль ресниц
и птицею на полустанке
узка отброшена и остановлена
потом не появившись были стены
прошла зима и сохранились
там где закрыто все
и сеча тихая одежд и леса
и место облика где нам не быть
И ВОТ – БЕЗ ПОМОЩИ ЛЮДЕЙ, СЕРЬЕЗНО,
И ОЧЕНЬ ДАЛЕКО —
БЫЛА, КАК НА ЛЕТУ ПРОШЛА
БЕЗ ОТЗВУКА: “БЫЛА! БЫЛА!”
еще кричат поют и светятся
в садах во всем поселке
далекие чужие
как точки золота в песке
и тянутся уже во тьме
ряды притихших теней
просты как я молчащий
как вы не узнающие
тех что уже во тьме
|1961|
альт
[ф. дружинину]
птица черная здесь затерялась
о ясный монах галерей
и снега кусок как в награду звезда!
отрываясь от грифа
падают доски селений
здесь во дворе опустевшем давно
и дереву нравятся вывихи дерева
бархату шелка куски
а струны ложились бы четче на книги
освещенные снегом на крыше
через окно
|1962|
вспоминается в рост
ля́ля, ля́ля без смысла и ля́ля,
пугающая, словно ранены жабры,
и части одежды
опрокинуты в воздух оттуда
там вдалеке,
когда я не вижу, до боли расцвечены
и смягчу я – тряпичны – смягчу;
а это
понятие-облако
столь неотступно-свисающее
будто явлением близко-тревожным —
“нося́”? —
это было об астре, о ночи и о подоконнике,
здесь – о плечах,
представлю ее я в движенье,
но там, где от поля —
словно от стула,
и нет никого;
вся лель, вдоль и лель, прикрывая и шею,
дальше – тянет как с горки, —
вот здесь-то и плачут и не понимают;
и где-то у пыльной дороги
орешника долгий и стершийся край —
как вдоль плачущего одного;
и ясно прощается друг
и думают снова: “да едут же где-то к деревьям,
снится же что-то другое;
и были же корни не здесь,
а мука сильней оказалась”.
|1962|
поле – до ограды лесной
после белого поля – широкого нашего —
постепенно чужого
перекладина – издали наша —
а пока я бунтую – моя
и царсово-садо[1] бело на юру
сарабанда-пространство
чистая без удара и опять без удара
одинокий и взрослый я с этого края пойму
цвет – дальнего края другого
там после зеленого логова
двойника людского понятия “поле”
черные тонкие ветки деревьев
и санки и дети в овраге
как ласты – чисты далеки и слабы!
особенно – в поле! с холодными шеями!
и если душа словно бог выясняет
что можно все шеи ломать словно бог
прозрачность без зренья любя
то в поле
заброшенном мной поверх глаз ради памяти
и дети на месте на месте и я
и разрешены как во сне постепенно
и быть и смотреть и болеть
и тайное что-то иметь непременно
особое что-то иметь
что с марлею схоже и схоже с бинтом —
оброненным
в доме пустом
но знающий ясно разрезы во мне чистоты
в чистоте
я знаю что есть и двойник погребенья
есть место где лишь острова-двойники:
чистого первого – чистого третьего —
чистого вечного —
чистого поля
|1962|
заморская птица
[а. волконскому]
отсвет невидимый птичьего образа
ранит в тревоге живущего друга
и это никем из людей не колеблемо
словно в системе земли
сила соловья создающая
словно в словах исключение смерти:
сердце – сечение – север
а рядом приход и уход
замечающих перья и когти
знающих гвозди крюки и столбы
не боящихся видеть друг друга
и надо на улице утром на шею принять
холод от стен и сугробов
и тайная фраза синичья
диктует сердечную славу всему
слава белому цвету – присутствию бога
в его тайнике для сомнений
слава бедной столице и светлому
нищенству века
снегам – рассекающим – сутью бесцветья
бога – лицо
светлому – ангелу – страха
цвета – лица – серебра
|1962|
предзимний реквием
[памяти б.л. пастернака]
провожу и останусь как хор молчаливый
я в божьем пространстве
весь день предуказанный
с движеньями зимнего четкого дня
словно с сажею рядом
а время творится само по себе
кружится пущенный по миру снег
у монастырских ворот
и кажется ныне поддержкой извне
необходимость прохожих
а уровень века уже утвержден
и требует уровень славы
лицо к тишине обращать
и не книга но атлас страстей
в тиши на столе сохранен
а год словно сажа коснется домов
в веке старом где будто разорваны книги
и любая страница потребует
линий резки и складки к себе
через мои рукава
где холод где рядом окно а за ним
сугробы ворота дома
|1962|
[112
казимир малевич
…и восходят поля в небо.
Из песнопения(вариант)
где сторож труда только образ Отца
не введено поклонение кругу
и доски простые не требуют лика
а издали – будто бы пение церкви
не знает отныне певцов-восприемников
и построено словно не знавший
периодов времени город
так же и воля другая в те годы творила
себя же самой расстановку —
город – страница – железо – поляна —
квадрат:
– прост как огонь под золой утешающий
Витебск
– под знаком намека был отдан и взят
Велимир
– а Эль[2] он как линия он вдалеке
для прощанья
– это как будто концовка для библии: срез —
завершение – Хармс
– в досках другими исполнен
белого гроба эскиз[3]
и – восходят – поля – в небо
от каждого – есть – направление
к каждой – звезде
и бьет управляя железа концом
под нищей зарей
и круг завершился: как с неба увидена
работа чтоб видеть как с неба
|1962|
вдруг – мелькание праздника
а ведь и днем не назовешь! —
как будто это птицы свет
(теперь “свет Моцарта” сказал бы)! —
кружа играющего легкого
по миру будто из себя
катая по кругам-подсолнухам
даль наполняли словно шумом мельничным
и блеском девушки! – для праздника святее
сиянием первичным —
(хотя всегда мы умираем
а это нами и живет:
блестим расплескиваясь тихостью
себе не разрешая знать) —
и все прозрачней леса тень
и вот – как даропринимательница
ряды сияния выстраивает
и добавляет из себя
последний вздох дневного пенья —
и – ровен мир! – река серебряна
поляна золотиста
я юн (как с Губ-что-Свет)
|1963|
цветы от себя самому
в разрешенной ему дорогой глубине
он затравленный жив
он стар но однажды приснилась глубоко
и гулко
забытая словно для столяра стол неудавшийся
впервые понятная дочь
и он просыпаясь себя помещал перед лампой
и понял себя существующим явно
самоспасающим садом
он думал: как странно что стены с утра
существуют
о как непонятно за чьи говорится глаза́
все это игра и отныне существенна
только защита себя словно гла́за
как будто есть что-то пока кое-что берегут
зачем не разрушить когда лишь меня
укрывает
и в сказке нет смысла ненужных беречь
о как непонятно мне это укрытие
и он тяжелеет бесшумно ногами
словно к а́тласу в детстве к ключицам
внимателен
зная о чем-то растительно-ярком
о внешней и внутренней смежной чащобе
без цвета одежд
и добывает
цветы для себя в тайниках своего же
хожденья —
прекрасны как память во время расстрела
в подвале!
воспитаны холодом лунным
в ночь гимназическую
и был он арктически-цепок как будто
вися словно пух
– о где же то дно где диктуется слово Аа
где реки текут словно вниз и в платке пуховом
по – берегу – женщина
реки – Аа
|1963|
девочка в детстве
уходит
как светлая нитка дыханием в поле
и бело-картонная гречка
срезается лесом
птицы словно соломинки
принимают шум леса на шеи
косички ее вдоль спины наугад
словно во сне начинают село
глядя на край каланчи
и там на юру на ветру
за сердцем далеким дождя золотого
ель без ели играет
в ю без ю
|1963|
День присутствия всех и всего
1963–1965
распределение сада
это облако взято
при утреннем зрении снизу наверх
одиноких полян
при свете похожем для блюдца
чтобы лицо приподняв удивиться
рядом с лицом подоконнику
светлому для слабого глаза
и тронув слезой эта слабость опять одарит
далекими пятнами стен
проемы решеток и веток
и засветится подглазьями мягкими
на лицах у женщин
распределенье настурций
среди кустов и скамеек
и лишь через сад разрешаю я зрение
ближе к себе затемняя
и на себя принимаю
легкую свежую тяжесть —
пробы соседнего дерева не отказаться
от движения слабого
а в памяти август соседствует с мрамором
и в отсвете этом
и рядом в домах притеснений
сегодня победу хранит
день присутствия всех и всего:
совместности облака солнцестояния голоса
матери
(светится соприкасается)
лестницы к астрам направленной
боли в висках
|1963|
к распределению сада
и примем мы свет на движенья нескромные
от самих лопастей
сегодняшнего цветодержца
не зная что камни и ветки и кожа лица —
видимые раны его!
и “я” говоря называем его расхитителем
одного неизменного
праодного своего же сверхсада
и здесь за оградою астры
не утешая ярки́
словно руки он режет себе!
|1963|
вторая весть с юга
отмечу что лицом ко мне
похожим на порезы вдоль сирени
и тайным ворсом крови сильная —
там за ее воротником
а сердце будто бы при шуме спрятанном
иголки с выявленьем музыки!
и проверяя есть ли мы
учесть придется нас с начала крови
она одна и нет конца
и “я” и “ты” лишь щебет птиц
уже вдали
уже не здесь
но есть и вызовы в больницу к маме
и вечная по улицам ходьба
Как жизнь долга Прерывиста И птицы
летят другие Слабые как мы
Себя как их Не жаль И будешь обесценена
как Много убивая
доказывали в детстве нам
|1963|
река за городом
а паутинная
пылью со дна как местами чердачными
восходящая к полю
и шелк и паутина
ее притягивая увлекутся
соседями оказаться такими же
как тень и пыль
и паутинная
как шелк во сне покажется нездешней
и связи с облаками
из пуха-хромоножки трав
глаза обманывающих
и алеющих
|1964|
возвращение страха
дети серебряны цинковы ваши ключицы
рука как Норвегия в книге у маминых щек
но краскою бросят на крест чтобы стаял
людской матерьял
словно кожа с Крестителя рук
о помни: есть верфи где сталь отражает
людей ягуарову радугу
как хозяином леса дубильщиком кожи
в автобусах смотрят в глаза
и ясный ведун будешь срезан как мох
и рекомендуется
не понимать
– а секс как разметка на небе как птица
чужая без имени! —
эта скрипичная нитка способна
лишь резать следы на щеке
это отсюда
по-травам-тоска сотворяется(есть
беспрерывно как шум в роднике!) —
жалом ловимых
с собою считать наравне
|1963|
мадригал поэту
[с. красовицкому]
везде твой цвет
особенно на склянках
ты – трогающий все вокруг тебя
как будто кровью
рыбы золотой
так прячут может быть за вьюшкою алмазы
как был ты нежен в ветхих рукавах
и ранил снег в окно мое свободно
коснувшись дара твоего израненного
потом меня
я глазками колец был так просвечен в саклях
и был соосвещенным ты
когда рассматривал я долго панагии
при сумерках столицы северной
и видел кровь твою
|1963|
начало леса
открывается сразу как воск поддаваясь
освещается весь!
с проемом с огнем с повтореньем огня и
проема
с местами для голоса мамы навечно:
“аи – ии”
суккубье третейство в вагонах кого-то
изведшее
тайно готовится здесь
оставлена кожа и кружевом скомканным
белеет во сне
и мягким горячим углем помещенное
что-то живое тройное
колодцем пригорком и домом
Девочку – робкую – около – речки
отдаляя играет
и вновь приближает
|1963|
появление снега
мягкий и близкий подросток неясный
в колодец в колодец
лицом побледневшим мой сон прорезая
меня освещая вдоль сердца
и возвращаясь на утро со дна
растенья на окнах коверкает
красным мне губы раня
светом с худых армяков
невидимый снег
он там недвижим
где явное место имеет как стул освещенное
издали солнце
где только они
крови подобно без кожи рожденные
без корки иной
и пламя яснее – от печки, от неба —
как будто проявлен ваш образ
на улице в детстве
в поле и в доме арестном
на камне и желтой бумаге
|1963|
коломенская церковь
[и. вулоху]
овес
зернами тебе подражающий
красным пятном отражался
на пару с тобой
когда в облике мысли нас видел сперва
Спас
сеть
осенним угаром возможна на ягодах
над кожею звоном твоим
но весть
восходящая ввысь
единственно суть
у ветра
синицы и друга
спросил я навеки ли мы
и отвечала снаружи печально:
“три”
|1964|
засыпающий в детстве
а высоко – река моя из ду́хов:
друг в друга вы вбегающие
и так – темнея —
вдаль и вдаль
и от ушибов дела нежащего
любимые и мягкие
вы платья странны в той реке:
не детского ли духа искрами
там в черной дали голубой
а сами – прорубями в свете открывающемся
вы в свете поля далеко мелькающие
как над полянами в лесу – их лики:
вы где-то в поле на ветру
как рукопись теперь во сне – его
поверхностью белеющей:
– светлы́
|1965|
Степень: остоики
1964–1965
ночь к весне
темно в сенях
в одежде есть пугающее
от дерева ли зверя ли какого
пылающими островками
опасное для разума плывет
петух отметит криком оползень
далекого комка земли
и тьма хранит свои столбы и впадины
огнем неведомым притянутые издали
чтоб место белым дать полям
края поляны затенить
|1964|
утро в парке
а может быть скамейки синей страшно:
там – та из раненных
иным огнем
и след высокой этой Силы
хранит ребенок слабо понимая
шурша как ветка на песке
(а Сила не ушла нетронутой:
придется ей потом преодолеть
играющую теперь у ног)
уйдут как дерево качающее ветками
о ране помня или ожидая
как дерево пройдут и среди тех
кто может быть
не помнит и начала
|1964|
любимое в августе
светом
страдающе-в-облике-собранным
из первосвета явившись
вздрагивая
ждать
и создана там где обилие лёта-идеи
склонно наверное к дару
где покорилось уменьшенной частью
тихим увидеть себя:
“быть”
как в сознании было бы птиц:
“ – ”[4]
|1964|
константин леонтьев: утро в оптиной пустыни
снова – такое же поле
как будто не видишь:
в горнице – будто – из боли своей создаешь:
ярко: в такую же – бывшую – ширь! —
снова
какого-то третьего ты вспоминаешь
что-то без слов объясняющего:
дома – при матери – снящейся словно
береста! —
и – как при устье направленном в поле
в сумерках – вновь – у окна ты внимателен:
“есть” – повторяешь – как будто
в себя помещаешь
светящее место:
– о есть!—
и неизменно
свежо
повторяется так словно день чередуется
ясно
и – не накапливая
что-нибудь – возраст творящее:
есть – как тогда!
за окном
беспрестанно:
вместе с верхушками ветел себя Сотрясая:
Сыплет и светом и пылью
как детская ель! —
и – время от времени:
темью при комьях белеющих:
самообъяснимо – что е с т ь
|1964|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142







