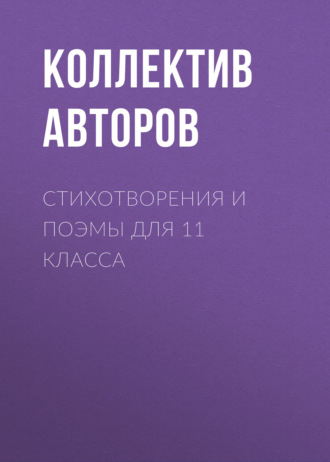
Владимир Высоцкий
Стихотворения и поэмы для 11 класса
Довыдов. Как вздёрнуть немцев и пиитов?
Хвастов. Да нет…
Довыдов. Что деспоты не создают условий для работы?
Хвастов. Да нет…
5. Молитва Резанова – Богоматери
«Ну что Тебе надо ещё от меня?
Икона прохладна. Часовня тесна.
Я музыка поля, ты – музыка сада,
ну что Тебе надо ещё от меня?
Я был не из знати. Простая семья.
Сказала: «Ты тёмен» – учился латыни.
Я новые земли открыл золотые.
И это гордыни Твоей не цена?
Всю жизнь загубил я во имя Твоя.
Зачем же лишаешь последней услады?
Она ж несмышлёныш и малое чадо…
Ну что Тебе надо уже от меня?»
И вздрогнули ризы, окладом звеня,
и вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу.
Ну что тебе надо ещё от меня?»
6
Хвастов. А что ты думаешь, Довыдов…
Довыдов. О макси-хламидах?
Хвастов. Да нет…
Довыдов. Дистрофично безвластие, а власть катастрофична?
Хвастов. Да нет…
Довыдов. Вы надулись? Что я и крепостник и вольнодумец?
Хвастов. Да нет… О бабе, о резановской.
Вдруг нас американцы водят за нос?
Довыдов. Мыслю, как и ты, Хвастов, —
давить их, шлюх, без лишних слов.
Хвастов. Глядь! Дева в небе показалась, на облачке.
Довыдов. Показалось…
7. Описание свадьбы, имевшей быть 1 апреля 1806 года
«Губернатор в доказательство искренности и с слабыми ногами танцевал у меня, и мы не щадили пороху ни на судне, ни на крепости, гишпанские гитары смешивались с русскими песельниками. И ежели я не мог окончить женитьбы моей, то сделал кондиционный акт…»
Помнишь, свадебные слуги,
после радужной севрюги
апельсинами в вине
обносили не?
Как лиловый поп в битловке,
под колокола былого,
кольца, тесные с обновки,
с имечком на тыльной стороне, —
нам примерил не?
А Довыдова с Хвастовым,
в зал обеденный с вострогом
впрыгнувших на скакуне, —
выводили не?
А мамаша, удивившись,
будто давленые вишни
на брюссельской простыне,
озадаченной родне, —
предъявила не?
(Лейтенантик Н.
застрелился не?)
А когда вы шли с поклоном,
смертно-бледная мадонна
к фиолетовой стене
отвернулась не?
Губернаторская дочка,
где те гости? Ночь пуста.
Перепутались цепочкой
два нательные креста.
Архивные документы, относящиеся к делу Резанова Н. П.
(Комментируют архивные крысы – игреки и иксы.)
№ 1
«…но имя Монарха нашего более благословляться будет, когда в счастливые дни его свергнут Россияне рабство чуждым народам… Государство в одном месте избавляется от вредных членов, но в другом от них же получает пользу и ими города создает…»
(Н. Резанов – Н. Румянцеву)
№ 2. Bторое письмо Резанова – И. И. Дмитриеву
Любезный государь Иван Иванович Дмитриев,
оповещаю, что достал
тебе настройку из термитов.
Душой я бешено устал!
Чего ищу? Чего-то свежего!
Земли старые – старый сифилис.
Начинаются театры с вешалок.
Начинаются царства с виселиц.
Земли новые – tabula rasa.
Расселю там новую расу —
Третий Мир – без деньги и петли,
ни республики, ни короны!
Где земли золотое лоно,
как по золоту пишут иконы,
будут лики людей светлы.
Был мне сон, дурной и чудесный.
(Видно, я переел синюх.)
Да, случась при дворе, посодействуй —
на американочке женюсь…
Чин икс
«А вы, Резанов,
Из куртизанов!
Хихикс…»
№ 3. Bыписка из истории гг. Довыдова и Хвастова
Были петербуржцы – станем сыктывкарцы.
На снегу дуэльном – два костра.
Одного – на небо, другого – в карцер!
После сатисфакции – два конца!
Но пуля врезалась в пулю встречную.
Ай да Довыдов и Хвастов!
Враги вечные на братство венчаны.
И оба – к Резанову, на Дальний Восток…
Чин игрек
«Засечены в подпольных играх».
Чин икс
«Но государство ценит риск».
«15 февраля 1806 года
Объясняя вам многие характеры, приступлю теперь к прискорбному для меня описанию г. Х…, главного действующего лица в шалостях и вреде общественном и столь же полезного и любезнаго человека, когда в настоящих он правилах… В то самое время покупал я судно “Юнону», и, сколь скоро купил, то зделал его начальником, и в то же время написал к нему Мичмана Давыдова. Вступя на судно, открыл он то пьянство, которое три месяца к ряду продолжалось, ибо на одну свою персону, как из счета его в заборе увидите, выпил 91/2 ведр французской водки и 21/2 ведра крепкаго спирту кроме отпусков другим и, словом, споил с кругу корабельных, подмастерьев, штурманов и офицеров.
Беспросыпное его пьянство лишило его ума, и он всякую ночь снимается с якоря, но, к счастью, что матросы всегда пьяны…»
(Из второго секретного письма Резанова)
«17 июня 1806 года
Здесь видел я опыт искусства Лейтенанта Хвостова, ибо должно отдать справедливость, что одною его решимостью спаслись мы и столько же удачно вышли мы из мест, каменными грядами окруженных…»
(Резанов – министру коммерции)
Рапорт
Мы – Довыдов и Хвастов,
оба лейтенанты.
Прикажите – в сто стволов
жахнем латинянам!
«Стоп, Довыдов и Хвастов!» —
«Вы мягки, Резанов». —
«Уезжаю. Дайте штоф.
Вас оставлю в замах».
В бой, Довыдов и Хвастов!
Улетели. Рапорт:
«Пять восточных островов
Ваши, Император!»
«Я должен отдать справедливость искусству гг. Хвостова и Давыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их…»
Резанов
«18 октября 1807 года
Когда я взошел к Капитану Бухарину, он, призвав караульного унтер-офицера, велел арестовать меня. Ни мне, ни лейтенанту Хвостову не позволялось выходить из дому и даже видеть лицо какого-нибудь смертного… Лейтенант Хвостов впал в опасную горячку. Вот картина моего состояния! Вот награда, если не услуг, то, по крайней мере, желания оказать оные. При сравнении прошедшей моей жизни и настоящей сердце обливается кровью и оскорбленная столь жестоким образом честь заставляет проклинать виновника и самую жизнь.
Мичман Давыдов»
(Из «Донесения Мичмана Давыдова на квартире, уже под политическим караулом»)
№ 4 B темнице
Довыдов. А что ты думаешь, Хвастов?…
Хвастов. Бухарин! Сука! Враг Христов!
Сатрап! Вор! Бабник! Педераст!
Довыдов. Тсс… Стражник передаст…
Хвастов. Чмо! Скот! Мы, офицеры, страждем!
Эй, стражник!
Нажрался паразит. Разит.
Стражник. С-ик тран-зит…
Восток алеет. Помолись.
Хвастов (бледнеет). Это мысль.
О, Дева, в ризах, как стеклярус!
Ты, что к Резанову являлась!
(Мы на Тебя интриговали
против американской крали.)
Спаси невинных индивидов!..
(В ужасе) Гляди, Довыдов.
Распались цепи. Стража отвалилась.
Дверь отворилась.
И кони у крыльца в кибитке…
Голос. Бегите!
По трассе будущей Турксиба.
Довыдов и Хвастов. Спасибо!
(Бегут)
Довыдов. Зер гут.
Религия не лишена основ.
А? Что ты думаешь, Хвастов?
№ 5
Мнение критика зета:
«От этих модернистских оборотцев
Резанов ваш в гробу перевернётся!»
Мнение поэта:
«Перевернётся – значит, оживёт.
Живи, Резанов! “Авось», вперёд!»
№ 6
Чин игрек
Вот панегирик:
«Николай Резанов был прозорливым политиком. Живи Н. Резанов на десять лет дольше, то, что мы называем Калифорнией и Американской Британской Колумбией, были бы русской территорией».
(Атертон, США)
Чин икс
Сравним, что говорит наш Головнин:
«Сей г. Резанов был человек скорый, горячий, затейливый писака, говорун, имеющий голову более способную создавать воздушные замки в кабинете, нежели к великим делам, происходящим в свете…»
Флота Капитан 2-го ранга и кавалер В. М. Головин
Чин икс
«А вы, Резанов,
пропили замок.
Вот иск».
№ 7. Из письма Резанова – Державину
Тут одного гишпанца угораздило
по-своему переложить Горация.
Понятно, это не Державин,
но любопытен по терзаньям:
Мой памятник
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный…
Увечный
наш бренный разум цепляется за пирамиды,
статуи, памятные места —
тщета!
Тыща лет больше, тыща лет меньше —
но дальше ни черта!
Я – последний поэт цивилизации.
Не нашей, римской, а цивилизации вообще.
В эпоху духовного кризиса и цивилизации
культура – позорнейшая из вещей.
Позорно знать неправду и не назвать её,
а, назвавши, позорно не искоренять,
позорно похороны называть свадьбою,
да ещё кривляться на похоронах.
За эти слова меня современники удавят.
А будущий афро-евро-америко-азиат
с корнем выроет мой фундамент,
и будет дыра из планеты зиять.
И они примутся доказывать, что слова мои были вздорные,
сложат лучшие песни, танцы, понапишут книг…
И я буду счастлив, что меня справедливо вздёрнули.
Вот это будет тот ещё памятник!»
№ 8
«16 августа 1804 года. Я должнен также Вашему Императорскому Величеству представить замечания мои о приметном здесь уменьшении народа. Еще более припятствует размножению жителей недостаток женского полу. Здесь теперь более, нежели тридцать человек по одной женщине. Молодые люди приходят в отчаяние, а женщины разными по нужде хитростями вовлекаются в распутство и делаются к деторождению неспособными».
(Из письма Резанова Императору)
Чин икс
«И ты, без женщин забуревший,
на импорт клюнул зарубежный?!
Раскис!»
№ 9
«Предложение мое сразило воспитанных в фанатизме родителей ея, разность религий, и впереди разлука с дочерью было для них громовым ударом».
Отнесите родителям выкуп
за жену:
макси-шубу с опушкой из выхухоля,
фасон «бабушка-инженю».
Принесите кровать с подзорами,
и, как зрящий сквозь землю глаз,
принесите трубу подзорную
под названием «унитаз»
(если глянуть в её окуляры,
ты увидишь сквозь шар земной
трубы нашего полушария,
наблюдающие за тобой),
принесите бокалы силезские,
из поющего хрусталя,
ведёшь влево – поют «Марсельезу»,
ну а вправо – «Храни короля!»,
принесите три самых желания,
что я прятал от жён и друзей,
что угрюмо отдал на заклание
авантюрной планиде моей!..
Принесите карты открытий,
в дымке золота, как пыльца,
и, облив самогоном, сожгите
у надменных дверей дворца!
«…они прибегнули к миссионерам, те не знали, как решиться, возили бедную Консепсию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость с обеих сторон наконец всех успокоила. Святые отцы оставили разрешению Римского Престола, и я принудил помолвить нас, на что согласие, но с тем, чтоб до разрешения папы было сие тайною».
№ 10
Чин икс
«Есть ещё образ Божьей Матери,
где на эмальке матовой
автограф Их-с…»
«Я представил ей край Российской посуровее, и притом во всем изобильный, она была готова жить в нем…»
№ 11. Резанов – Конче
Я тебе расскажу о России,
где злодействует соловей,
сжатый страшной любовной силой,
как серебряный силомер.
Там Храм Матери Чудотворной.
От стены наклонились в пруд
белоснежные контрофорсы,
будто лошади воду пьют.
Их ночная вода поила
вкусом чуда и чабреца,
чтоб наполнить земною силой
утомлённые небеса.
Через год мы вернёмся в Россию.
Вспыхнет золото и картечь.
Я заставлю, чтоб согласились
царь мой, папа и твой отец!
8. B Сенате
Восхитились. Разобрались. Заклеймили.
Разобрались. Наградили. Вознесли.
Разобрались. Взревновали. Позабыли.
Господи, благослови!
А Довыдова с Хвастовым посадили.
9. Молитва Богоматери – Резанову
Светлый мой, возлюбленный, студится
тыща восемьсотая весна!
Матерь от Любви Своей Отступница,
я перед природою грешна.
Слушая рождественские звоны,
думаешь, я радостна была?
О любви моей незарождённой
похоронно бьют колокола.
Надругались. А о бабе позабыли.
В честь греха в церквах горят светильни.
Плоть не против Духа, ибо Дух —
то, что возникает между двух.
Тело отпусти на покаянье!
Мои церкви в тыщи киловатт
загашу за счастье окаянное
губы в табаке поцеловать!
Бог, Любовь Единая в двух лицах,
воскреси любую из Марусь…
Николай и наглая девица,
вам молюсь!..
ЭПИЛОГ
Спите, милые, на шкурках росомаховых.
Он погибнет
в Красноярске
через год.
Она выбросит в пучину мёртвый плод,
станет первой сан-францисскою монахиней.
1970
МАТРОСЫ
В море соли и так до чёрта,
морю не надо слёз.
Наша вера верней расчёта,
нас вывозит «Авось»!
Вместо флейты подымем флягу,
чтобы смелее жилось
под небесным флагом
и девизом «Авось»!
Нас мало, и нас всё меньше,
и парус пробит насквозь,
но сердца забывчивых женщин
не забудут, авось!
Буря – это всего лишь буря,
глупо в ней ждать конца.
Пуля – дура, конечно, дура,
но умней мудреца.
От нагрузки на наши плечи
гнётся земная ось,
только наш позвоночник крепче —
не согнёмся, авось!
У русалки солёны губы
и вместо ножек – хвост.
Сэкономим на паре туфель.
Не погибнем, авось…
Но от нашей надежды, свойской
сетям пустых судеб,
через век назовут авоськой
сумку, где носят хлеб.
1977
РОМАНС ИЗ ОПЕРЫ «ЮНОНА и АBОСЬ»
Белый шиповник, дикий шиповник
краше садовых роз.
Белую ветку юный любовник
графской жене принёс.
Белый шиповник, дерзкий поклонник,
он ей, смеясь, отдал.
Ветка упала на подоконник.
На пол упала шаль.
Белый шиповник, страсти виновник,
разум отнять готов.
Только известно – графский садовник
против чужих цветов.
Что ты наделал, бедный разбойник?
Выстрел раздался вдруг.
Красный от крови – красный шиповник
выпал из мёртвых рук.
Их схоронили в разных могилах,
там, где садовый вал.
Как тебя звали, юноша милый?
Только шиповник знал.
Тот, кто убил их, тот, кто шпионил,
будет наказан тот.
Белый шиповник, дикий шиповник
в память любви цветёт.
1977
КОНЧИТА
Десять лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты всё ближе ко мне.
Хорошо ли приладил седло?
Чтоб в пути тебе было светло,
я свечу оставляю в окне.
Двадцать лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты всё ближе ко мне.
Ты поборешь всемирное зло.
Чтоб в бою тебе было светло,
я свечу оставляю в окне.
Тридцать лет в ожиданье прошло.
Ты в пути. Ты всё ближе ко мне.
У меня отрастает крыло!
Без меня, чтобы было светло,
я оставила свечку в окне.
1977
СBАДЕБНАЯ ПЕСНЬ
Аллилуйя возлюбленной паре!
Мы забыли, бранясь и пируя,
для чего мы на землю попали —
аллилуйя любви, аллилуйя!
Аллилуйя их будущим детям.
Наша жизнь пронесётся аллюром.
мы проклятым вопросам ответим:
аллилуйя любви, аллилуйя!
Я люблю твои руки и речи,
с твоих ног я усталость разую.
В море общем сливаются реки.
Аллилуйя любви, аллилуйя!
Аллилуйя Гудзону и Волге!
Государства любовь образует.
Аллилуйя, князь Игорь и Ольга!
Аллилуйя любви, аллилуйя!
Аллилуйя свирепому нересту!
Аллилуйя бобрам алеутским!
Лишь любовью оправдана ненависть.
Аллилуйя любви, аллилуйя!
Аллилуйя Кончите с Резановым.
Исповедуя веру иную,
мы повторим под занавес заповедь:
аллилуйя любви, аллилуйя!
Аллилуйя актёрам трагедии,
что нам жизнь подарили вторую.
полюбивши нас через столетие.
Аллилуйя любви, аллилуйя!
1977
САГА
Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить, необутая, выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.
Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже Всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».
Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.
Не мигают, слезятся от ветра
безнадёжные карие вишни.
Возвращаться – плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.
Даже если на землю вернёмся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминёмся.
Я тебя никогда не увижу.
И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.
И качнётся бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».
1977
* * *
Ну что тебе надо ещё от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!
На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампады!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо ещё от меня?
Смеялась: «Ты ангел?» – я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» – не вылазил из спален.
Сказала: «Будь первым» – я стал гениален,
ну что тебе надо ещё от меня?
Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо ещё от меня?
Но и под лопатой спою, не виня:
«Пусть я удобренье для Божьего сада,
ты – музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».
И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо ещё от меня?»
1971
ЖЕНЩИНА B АBГУСТЕ
Присела к зеркалу опять,
в себе, как в роще заоконной,
всё не решаешься признать
красы чужой и незнакомой.
В тоску заметней седина.
Так в ясный день в лесу по-летнему
листва зелёная видна,
а в хмурый – медная заметнее.
1971
ЧЁРНЫЕ BЕРБЛЮДЫ
На мотив Махамбета
Требуются чёрные верблюды,
чёрные, как гири, горбы!
Белые верблюды для нашей работы – слабы.
Женщины нам не любы. Их груди отвлекут от борьбы.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
накопленные горбы.
Захлопнутся над черепами,
как щипцы для орехов, гробы.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
чёрные верблюды беды!
Катитесь, чугунные ядра, на жёлтом и голубом.
Восстание как затмение, наедет чёрным горбом.
На белых песках – чиновники, как раздавленные клопы.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
разгневанные горбы!
Нынче ночь не для блуда. Мужчины возьмут ножи.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды,
чёрные верблюды – нужны.
Чёрные верблюды, чёрные верблюды
по бледным ублюдкам грядут.
На труса не тратьте пулю – плюнет чёрный верблюд!
1971
ХРАМ ГРИГОРИЯ НЕОКЕСАРИЙСКОГО, ЧТО НА Б. ПОЛЯНКЕ
Названье «Неокесарийский»
гончар, по кличке Полубес,
прочёл как «неба косари мы»
и ввёл подсолнух керосинный,
и синий фон, и лук серийный,
и разрыв-травы в изразец.
И слёзы очи засорили,
когда он на небо залез.
«Ах, отчаянный гончар,
Полубес,
чем глазурный начинял
голубец?
Лепестки твои, кустарь,
из росы.
Только хрупки, как хрусталь,
изразцы.
Только цвет твой, как анчар,
ядовит…»
С высоты своей гончар
говорит:
«Чем до свадьбы непорочней,
тем отчаянней бабец.
Чем он звонче и непрочней,
тем извечней изразец.
Нестираема краса —
изразец.
Пососите, небеса,
леденец!
Будет красная Москва
от огня,
будет чёрная Москва,
головня,
будет белая Москва
от снегов – всё повылечит трава
изразцов.
Изумрудина огня!
Лишь не вылечит меня.
Я к жене чужой ходил, луг косил.
В изразцы её кровь замесил».
И, обняв оживший фриз,
белый весь,
с колокольни рухнул
вниз
Полубес!
Когда в полуночи бессонной
гляжу на фриз полубесовский,
когда тоски не погасить,
греховным храмом озаримый,
твержу я: «Неба косари мы.
Косить нам – не перекосить».
1971
НОBОГОДНЕЕ ПЛАТЬЕ
Подарили, подарили
золотое, как пыльца.
Сдохли б Вены и Парижи
от такого платьица!
Драгоценная потеря,
царственная нищета.
Будто тело запотело,
а не теле – ни черта.
Обольстительная сеть,
золотая ненасыть.
Было нечего надеть,
стало – некуда носить.
Так поэт, затосковав,
ходит праздно на проспект.
Было слов не отыскать,
стало – не для кого спеть.
Было нечего терять,
стало – нечего найти.
Для кого играть в театр,
когда зритель не на ты?
Было зябко от надежд,
стало пусто напоследь.
Было нечего надеть,
стало – незачем надеть.
Я б сожгла его, глупыш.
Не оцените кульбит.
Было страшно полюбить —
стало некого любить.
1971
МОЛЧАЛЬНЫЙ ЗBОН
Их, наверно, тыщи – хрустящих лакомок!
Клесты лущат семечки в хрусте крон.
Надо всей Америкой хрустальный благовест.
Так необычаен молчальный звон.
Он не ради славы, молчальный благовест,
просто лущат пищу – отсюда он.
Никакого чуда, а душа расплакалась —
молчальный звон!..
Этот звон молчальный таков по слуху,
будто сто отшельничающих клестов
ворошат волшебные погремухи
или затевают сорок сороков.
Птичьи коммуны, не бойтесь швабры!
Групповых ансамблей широк почин.
Надо всей Америкой – групповые свадьбы.
Есть и не поклонники групповщин.
Групповые драки, групповые койки.
Тих единоличник во фраке гробовом.
У его супруги на всех пальцах —
кольца,
видно, пребывает
в браке групповом…
А по-над дорогой хруст серебра.
Здесь сама работа звенит за себя.
Кормят, молодчаги, детей и жён,
ну а получается
молчальный звон!
В этом клестианстве – антипод свинарни.
Чистят короедов – молчком, молчком!
Пусть вас даже кто-то
превосходит в звонарности,
но он не умеет —
молчальный звон!
Юркие нью-йоркочки и чикагочки,
за ваш звон молчальный спасибо, клесты.
Звенят листы дубовые,
будто чеканятся
византийски вырезанные кресты.
В этот звон волшебный уйду от ужаса,
посреди беседы замру, смущён.
Будто на Владимирщине —
прислушайся! —
молчальный звон…
1971
СПАЛЬНЫЕ АНГЕЛЫ
Огни Медыни?
А может, Волги?
Стакан на ощупь.
Спят молодые
на нижней полке
в вагоне общем.
На верхней полке
не спит подросток.
С ним это будет.
Напротив мать его
кусает простынь.
Но не осудит.
Командировочный
забился в угол,
не спит с Уссури.
О чём он думает
под шёпот в ухо?
Они уснули.
Огням качаться,
не спать родителям,
не спать соседям.
Какое счастье
в словах спасительных:
«Давай уедем!»
Да хранят их
ангелы спальные,
качав и плакав, —
на полках спаренных,
как крылья первых
аэропланов.
1971
* * *
Наш берег песчаный и плоский,
заканчивающийся сырой
печальной и тёмной полоской,
как будто платочек с каймой.
Направо холодное море,
налево песочечный быт.
Меж ними, намокши от горя,
темнея, дорожка блестит.
Мы больше сюда не приедем.
Давай по дорожке пройдём.
За нами – к добру, по приметам —
следы отольют серебром.
1971
* * *
Сложи атлас, школярка шалая, —
мне шутить с тобою легко, —
чтоб Восточное полушарие
на Западное легло.
Совместятся горы и воды,
колокольный Великий Иван,
будто в ножны, войдёт в колодец,
из которого пил Магеллан.
Как две раковины, стадионы,
мексиканский и Лужники,
сложат каменные ладони
в аплодирующие хлопки.
Вот зачем эти люди и зданья
не умеют унять тоски —
доски, вырванные с гвоздями
от какой-то иной доски.
А когда я чуть захмелею
и прошвыриваюсь на канал,
с неба колют верхушками ели,
чтобы плечи не подымал.
Я нашёл отпечаток шины
на ванкуверской мостовой
перевёрнутой нашей машины,
что разбилась под Алма-Атой.
И висят, как летучие мыши,
надо мною вниз головой —
времена, домишки и мысли,
где живали и мы с тобой.
Нам рукою помашет хиппи,
вспыхнет пуговкою обшлаг.
Из плеча – как чёрная скрипка
крикнет гамлетовский рукав.
1971
ПЕСНЯ АКЫНА
Не славы и не коровы,
не тяжкой короны земной —
пошли мне, Господь, второго, —
что вытянул петь со мной!
Прошу не любви ворованной,
не милостей на денёк —
пошли мне, Господь, второго, —
чтоб не был так одинок.
Чтоб было с кем пасоваться,
аукаться через степь,
для сердца, не для оваций,
на два голоса спеть!
Чтоб кто-нибудь меня понял —
не часто, ну хоть разок —
из раненых губ моих поднял
царапнутый пулей рожок.
И пусть мой напарник певчий,
забыв, что мы сила вдвоём,
меня, побледнев от соперничества,
прирежет за общим столом.
Прости ему. Пусть до гроба
одиночеством окружён.
Пошли ему, Бог, второго —
такого, как я и как он.
1971
* * *
Жадным взором василиска
вижу: за бревном, остро,
вспыхнет мордочка лисички,
точно вечное перо!
Омут. Годы. Окунь клюнет.
Этот невозможный сад
взять с собой не разрешат.
И повсюду цепкий взгляд,
взгляд прощальный. Если любят,
больше взглядом говорят.
1971
ПРАBИЛА ПОBЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ
Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!
Нашарьте огурец со дна
и стан справа сидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку – нельзя руками.
Она с душою наравне.
Берите трёшницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.
И прогрессист, и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка – иной субстант,
где не губами, а устами…
Руками ешьте даже суп,
но с музыкой – беда такая! —
чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.
1971
АBТОМАТ
Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит —
отбой…
Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло!..
Отбой…
Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой…
А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой…
А может, это совесть,
потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой…
Стоишь в метро, конечной,
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замёрзнул пальчик твой.
А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.
Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьётся, как флажок…
Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.
Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.
1971
BОДНАЯ ЛЫЖНИЦА
В трос вросла, не сняв очки бутыльи, —
уводи!
Обожает, чтобы уводили!
Аж щека на повороте у воды.
Проскользила – Боже! – состругала,
наклонившить, как в рубанке оселок,
не любительница – профессионалка,
золотая чемпионка ног!
Я горжусь твоей слепой свободой,
обминающею до кишок, —
золотою вольницей увода
на глазах у всех, почти что нагишом.
Как истосковалась по пиратству
женщина в сегодняшнем быту!
Главное – ногами упираться,
чтоб не вылетала на ходу.
«Укради, как раньше, на запятках, —
миленький, назад не возврати!» —
если есть душа, то она в пятках,
упирающихся в край воды.
Укради за воды и за горы,
только бы надёжен был мужик!
В золотом забвении увода
онемеют дёсны и язык.
«Да куда ж ты без спасательной жилетки,
как в натянутой рогаточке свистя?»
Пожалейте, люди, пожалейте
себя!..
…Но остался след неуловимый
от твоей невидимой лыжни,
с самолётным разве что сравнимый
на душе, что воздуху сродни.
След потери нематериальный,
свет печальный – Бог тебя храни!
Он позднее в годах потерялся,
как потом исчезнут и они.
1971
РЕКBИЕМ ОТПТИМИСТИЧЕСКИЙ
За упокой Высоцкого Владимира
коленопреклонённая Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.
Владимир умер в два часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.
А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.
Спи, Шансонье Всея Руси,
отпетый.
Ушёл твой ангел в небеси
обедать.
Володька,
если горлом кровь,
Володька, когда от умных докторов
воротит,
а баба, русый журавель,
в отлёте,
орёт за тридевять земель:
«Володя!»
Ты шёл закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив, шёл, популярней, чем Пеле,
с беспечной чёлкой на челе,
носил гитару на плече, как пару нимбов.
(Один для матери – большой,
золотенький,
под ним для мальчика – меньшой…)
Володя!..
За этот голос с хрипотцой
дрожь сводит,
отравленная хлеб-соль
мелодий,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Спи, русской песни крепостной, —
свободен.
О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.
А в Склифосовке филиал
Евангелия.
И Воскрешающий сказал:
«Закрыть едальники!»
Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реа-
нимацию.
Вернули снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам всем сказал: «Вы все – туда,
а я оттудова…»
Гремите, оркестры!
Козыри – крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе.
1971
ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
Дверь отворите гостье с дороги!
Выйду, открою – стоят на пороге,
словно картина в раме, фрамуге,
белые брюки, белые брюки!
Видно, шла с моря возле прилива —
мокрая складка к телу прилипла.
Видно, шла в гору – дышат в обтяжку
белые брюки, польская пряжка.
Эта спортсменка не знала отбоя,
но приходили вы сами собою,
где я терраску снимал у старухи —
тёмные ночи, белые брюки.
Белые брюки, ночные ворюги,
«молния» слева или на брюхе?
Русая молния шаровая,
обворовала, обворовала!
Ах, парусинка моя рулевая…
Первые слёзы. Жёлтые дали.
Бедные клёши, вы отгуляли…
Что с вами сделают в чёрной разлуке
белые вьюги, белые вьюги?
1971
ОДА ДУБУ
Свитязианские восходы.
Поблескивает изреченье:
«Двойник-дуб. Памятник природы
республиканского значенья».
Сюда вбегал Мицкевич с панною.
Она робела.
Над ними осыпался памятник,
как роспись, лиственно и пламенно, —
куда Сикстинская капелла!
Он умолял: «Скорее спрячемся,
где дождь случайней и ночнее,
и я плечам твоим напрягшимся
придам всемирной значенье!»
Прилип к плечам сырым и плачущим
дубовый лист виолончельный.
Великие памятники Природы!
Априори:
екатерининские берёзы,
бракорегистрирующие рощи,
облморе,
и. о. лосося,
оса, жёлтая, как улочка Росси,
реставрируемые лоси.
Общесоюзный заяц!
Ты на глазах превращаешься в памятник,
историческую реликвию,
исчезаешь,
завязав уши, как узелок на дорогу
великую.
Как Рембрандты, живут по описи
тридцать пять волков Горьковской области.
Жемчужны тучи обложные,
спрессованные рулонами.
Люблю вас, липы областные,
и вас люблю, дубы районные.
Какого званья небосводы?
И что истоки?
История ли часть природы?
Природа ли кусок истории?
Мы двойники. Мы агентура
двойная, будто ствол дубовый
между природой и культурой,
политикою и любовью.
В лесах свисают совы матовые,
свидетельницы Батория,
как телефоны-автоматы
надведомственной категории.
Душа в смятении и панике,
когда осенне и ничейно
уходят на чужбину памятники
неизъяснимого значенья!
И, перебита крысоловкой,
прихлопнутая к пьедесталу,
разиня серую головку,
«Ночь» Микеланджело привстала.
1971
ДBЕ ПЕСНИ
1. Он
Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волоса твои распущенные
шептал первые слова.
Та же дача полутёмная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо моё смятённое
шепчет первые слова.
А потом лицом в коленки
белокурые свои
намотает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.
Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят
в кольца чёрные, агатовые
и гадала на агат!
И печальница другая
Усмехается, как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».
В этом золоте и черни
есть смущённые черты,
мятный свет звезды дочерней,
счастье с привкусом беды.
Оправдались суеверия.
По бокам моим встаёт
горестная артиллерия —
ангел чёрный, ангел белая —
перелёт и недолёт!
Белокурый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далёкого,
говорю святое «ты».
Да какие там экзамены,
если в бледности твоей
проступают стоны мамины
рядом с ненавистью к ней.
Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
чёрная и золотая —
две цепочки из колец.
Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важней твоё «до завтра».
До завтра б досуществовать!
2. Она
Волосы до полу, чёрная масть, —
мать.
Дождь белокурый, застенчивый в дрожь, —
дочь.
– Гость к нам стучится, оставь меня с ним на всю ночь,
дочь.
– В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать.
– Я – его первая женщина, вернулся, до ласки охоч,
дочь.
– Он – мой первый мужчина, вчера я боялась сказать,
мать.
– Доченька… Сволочь!.. Мне больше не дочь,
прочь!..
….
– Это о смерти его телеграмма,
мама!..
1971
ОБСТАНОBОЧКА
Это мой теневой кабинет.
Пока нет:
гардероба
и полн. cобр. cоч. Кальдерона.
Его Величество Александрийский буфет
правит мною в рассрочку несколько лет.
Вот кресло-катапульта
времён борьбы против культа.
Тень от предстоящей иконы:
«Кинозвезда, пожирающая дракона».
Обещал подарить Солоухин.
По слухам,
VI век.
Феофан Грек.
Стол. «Кент».
На столе ответ на анкету:
«Предпочитаю “Беломор» Кенту».
Вот жены акварельный портрет.
Обн. натура.
Персидская миниатюра.
III век. Эмали лиловой.
Сама, вероятно, в столовой…
Вот моя теневая столовая —
смотрите, какая здоровая!
На обед
всё, чего нет
(след. перечисление ед).
Тень бабушки – салфетка узорная,
вышивала, страдалица, вензеля иллюзорные.
Осторожно, деда уронишь!
Пианино. «Рёниш».
Мамино.
Видно, жена перед нами играла Рахманинова.
Одна клавиша полуутоплена,
еще теплая.
(Бьёт.)
Ой, нота какая печальная!
Сама, вероятно, в спальне.
Услышала нас и пошла наводить марафет.
«Уходя, выключайте свет!»
«Проходя через пороги,
предварительно вытирайте ноги.
Потолки новые —
предварительно вымывайте голову».
Вот моя теневая спальня.
Ой, как развалено…
Хорошо, что жены нет.
Тень от Милы, Нади, Тани, Ниннет
+ четырнадцати созданий
с площади Испании.
Уголок забытых вещей!
№ 2,
№ 3,
№ 8-й – никто не признаётся чей!
А вот женина брошка.
И платье брошено…
Наверное, опять побегла к Аэродромову
за димедролом…
Актриса, но тем не менее!
Простите, это дела семейные…
(В прихожей, чёрен и непрост,
кот поднимал загнутый хвост,
его в рассеянности гость,
к несчастью, принимал за трость.)
Вот ванная.
Что-то странное!
Свет под дверью. Заперто изнутри.
Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!
Вот так всегда.
Слышите, переливается на пол вода.
(Стучит.) Нет ответа.
(От страшной догадки он делается
неузнаваем.)
О нет, только не это!..
Ломаем!
Она ведь вчера говорила:
«Если не придёшь домой…»
Милая! Что ты натворила!
(Дверь высаживают.)
Боже мой!..
Никого. Только зеркало запотелое.
Перелитая ванна полна пустой глубины.
Сухие, нетронутые полотенца…
Голос из стены:
«А зачем мне вытираться,
вылетая в вентиляцию?!»
1972
* * *
В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!
Даже если – как исключенье —
вас растаптывает толпа,
в человеческом назначении
девяносто процентов добра.
Девяносто процентов музыки,
даже если она беда,
так и во мне, несмотря на мусор,
девяносто процентов Тебя.
1972
* * *
Приди! Чтоб снова снег слепил,
чтобы желтела на опушке,
как александровский ампир,
твоя дублёночка с опушкой.
1972
ПЕСНЯ ШУТА
Оставьте меня одного,
оставьте,
люблю это чудо в асфальте,
да не до него!
Я так и не побыл собой,
я выполню через секунду
людскую свою синекуру.
Душа побывает босой.
Оставьте меня одного;
без нянек,
изгнанник я, сорванный с гаек,
но горше всего,
что так доживёшь до седин
под пристальным сплетневым оком
то «вражьих», то «дружеских» блоков…
Как раньше сказали бы – с Богом
оставьте один на один.
Свидетели дня моего,
вы были при спальне, при родах,
на похоронах хороводом.
Оставьте меня одного.
Оставьте в чащобе меня.
Они не про вас, эти слёзы,
душа наревётся одна —
до дна! —
где кафельная берёза,
положенная у пня,
омыта сияньем белёсым.
Гляди ж – отыскалась родня!
Я выйду, ослепший, как узник,
и выдам под хохот и вой:
«Душа – совмещённый санузел,
где прах и озноб душевой.
…Поэты и соловьи
поэтому и священны,
как органы очищенья,
а стало быть, и любви!
А в сердце такие пространства,
алмазная ипостась,
омылась душа, опросталась,
чего нахваталась от вас».
1972
БОБРОBЫЙ ПЛАЧ
Я на болотной тропе вечерней
встретил бобра. Он заплакал вхлюп.
Ручкой стоп-крана торчал плачевно
красной эмали передний зуб.
Вставши на ласты, наморщась жалко
(у них чешуйчатые хвосты),
хлещет усатейшая русалка.
Ну пропусти! Ну пропусти!
(Метод нашли, ревуны коварные.
Стоит затронуть их закуток,
выйдут и плачут
пред экскаватором —
экскаваторщик наутёк!
Выйдут семейкой, и лапки сложат,
и заслонят от мотора кров.
«Ваша сила —
а наши слёзы.
Рёв – на рёв!»)
В глазках старенького ребёнка
слёзы стоят на моём пути.
Ты что – уличная колонка?
Ну пропусти, ну пропусти!
Может, рыдал, что вода уходит?
Может, иное молил спасти?
Может быть, мстил за разор угодий!
Слёзы стоят на моём пути.
Что же коленки мои ослабли?
Не останавливали пока
ни телефонные Ярославны,
ни бесноватые слёзы царька.
Или же заводи и речишник
вышли дорогу не уступать,
вынесли плачущий
Образ Пречистый,
чтоб я опомнился, супостат?
Будьте бобры, мои годы и долы,
не для печали, а для борьбы,
встречные плакальщики укора,
будьте бобры,
будьте бобры!
Непреступаемая для поступи,
непреступаемая стезя,
непреступаемая – о Господи! —
непреступаемая слеза…
Я его крыл. Я дубасил палкой.
Я повернулся назад в сердцах.
Но за спиной моей новый плакал —
непроходимый другой в слезах.
1972
ПЕТРАРКА
Не придумано истинней мига, —
чем раскрытые наугад,
недочитанные, как книга, —
разметавшись, любовники спят.
1972
ЛЕТАЮЩИЙ МУЖИК
1
Встречая стадо в давешние леты,
мне объяснила бабушка приметы:
«Раз в стаде первой белая корова,
то завтра будет чудная погода».
2
Коровы, пятясь, как аэротрапы,
пасутся, сунув головы в луга.
И подымались плачущие травы
по их прощальным шеям грубым.
И если лидер – светлая корова,
то, значит, будет лётная погода!
Коровьи отношенья с небесами
ещё не удавалось прояснить.
Они, пожалуй, не летают сами,
но понимают небо просинить.
Раз впереди красивая корова,
то утро будет синим, как Аврора.
3
Навоз вниз эскалатором плывёт,
как пассажиры
в метрополитене.
И это лучше, чем наоборот.
Как зубры ненавидят мотоциклы!
Копытные эпохи ледников
несутся за трещоткой малосильной.
Бедуля ненавидит дураков.
4
Ему при Иоанне шапку сдуло,
но не поклон, не хулиганский шик —
Владимира Леонтьича Бедулю
я бы назвал «летающий мужик».
Летит мужик – на собственной конструкции,
летит мужик – по Млечному Пути,
лети, мужик!
Держись за землю, трусы.
Пусть снимут стружку.
Легче ведь. Лети!
А если первой скучная корова,
то, значит, будет скучная погода.
5
Он стенгазеты упразднил, взамен
воздвиг радиостанцию пастушью,
чтоб плыли сообщения воздушные
в дистанции двенадцать деревень.
Над Беловежьем плакала Вселенная.
И нету рифмы на ответный тост.
Но попросил он «Плач по двум поэмам».
А я-то думал, что Бедуля прост.
6
Нет правды на земле.
Но правды нет и выше.
Бедуля ищет правду под землёй.
Глубоко пашет и, припавши, слышит,
как тяжко ей приходится, родной!
Его и славословили, и крыли.
Но поискам – не до шумих.
Бедуля дует на подземных крыльях!
Я говорю: «Летающий мужик».
Все марты поменялись на июли.
Коровы, что ли, балуют, Бедуля?
7
Коровы программируют погоды.
Их перпендикулярные соски
торчат,
на руль Колумбовый похожи.
Им тоже снятся Млечные Пути.
Когда взгрустнут мои аэродромы,
пришли, Бедуля, белую корову!
1972
BЫПУСТИ ПТИЦУ!
Что с тобой, крашеная, послушай?!
Модная прима с прядью плакучей,
бросишь купюру —
выпустишь птицу.
Так что прыщами пошла продавщица.
Деньги на ветер, синь шебутная!
Как щебетала в клетке из тиса
та аметистовая четвертная —
«Выпусти птицу!»
Ты оскорбляешь труд птицелова,
месячный заработок свой горький
и «Геометрию» Киселёва,
ставшую рыночною обёрткой.
Птица тебя не поймёт и не вспомнит,
люд сматерится,
будет обед твой – булочка в полдник,
ты понимаешь? Выпусти птицу!
Птице пора за моря вероломные,
пусты лимонные филармонии,
пусть не себя – из неволи и сытости —
выпусти, выпусти…
Не понимаю, но обожаю
бабскую выходку на базаре.
«Ты дефективная, что ли, деваха?
Дура – де-юре, чудо – де-факто!»
Как ты ждала её, красотулю!
Вымыла в горнице половицы.
Ах, не латунную, а золотую!..
Не залетела. Выпусти птицу!
Мы третьи сутки с тобою в раздоре,
чтоб разрядиться,
выпусти сладкую пленницу горя,
выпусти птицу!
В руки синица – скучная сказка, —
в небо синицу!
Дело отлова – доля мужская,
женская доля – выпустить птицу!..
Наманикюренная десница,
словно крыло самолётное снизу,
в огненных знаках
над рынком струится, выпустив птицу.
Да и была ль она, вестница чудная?…
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца
пятнышко едкое и жемчужное —
память о птице.
1972
АПЕЛЬСИНЫ
Самого его на бомбе подорвали —
вечный мальчик, террорист, миллионер…
Как доверчиво усы его свисали
точно гусеница-землемер!
Его имя раньше женщина носила.
И ей русский вместо лозунга «люблю»
расстелил четыре тыщи апельсинов,
словно огненный булыжник на полу.
И она глазами тёмными косила.
Отражались и отплясывали в ней
апельсины, апельсины, апельсины,
словно бешеные яблоки коней!..
Рушится уклад семьи спартанской.
Трещат свечи. Пахнет кожура.
Чувство раскрывается спонтанно,
как у постового кобура.
Как смешались в апельсинном дыме
к нему ревность и к тебе любовь!
В чудное мгновенье молодые
жёны превращаются во вдов.
Апельсины, апельсины, апельсины…
На меня, едва я захмелел,
наезжают его чёрные усищи,
словно гусеница-землемер.
1972
* * *
В. Шкловскому







