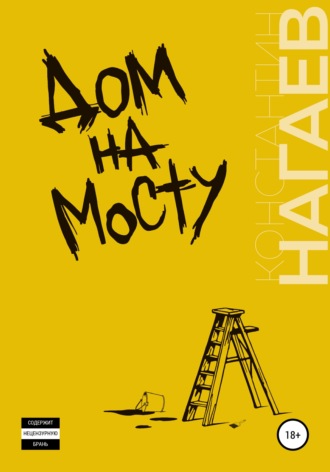
Константин Нагаев
Дом на мосту
Дурка • Нина
После завтрака я вышел на двор покурить. Было солнечно и прохладно.
Ко мне подошла Нина.
– А можно с вами покурить?
Я протянул ей открытую пачку.
– Да нет, у меня свои есть. Я просто одна не курю.
Мы закурили и замолчали.
– А я вот зиму совсем не люблю, – сказала Нина. – Голова всё время от шапки болит. Пить хочется постоянно, холодно.
– Даже если тепло одеться?
– Это же столько одежды надо, а у меня её мало. Да и не нужна она мне. Я летнюю одежду люблю. Платья.
– Вам, наверное, очень идут платья.
– Да, я на день рождения пришла на работу в платье, все хвалили.
– Нравится вам здесь?
– Здесь мне всё знакомо и понятно. Работа непростая, но знакомая. Пациенты тоже уже как свои, хотя Шефалович порой и ругает меня за слишком личное отношение. Говорит, что потом расставаться трудно будет.
– Скорее всего, он прав.
– Он всегда прав, даже если мне это не нравится.
На пороге появилась старшая сестра и махнула рукой.
– Зовут. Мне пора. Выбросите?
Я принял её окурок. Она убежала внутрь. Откуда-то выпрыгнул Цыган.
– Испугал, блядь!
– Гулял тут, смотрю – ты с Нинкой шушукаешься.
– Мы, взрослые люди, не шушукаемся, а общаемся.
– У меня папка с мамкой тоже общались, а потом я появился.
– Ну не идиот ли?
Он заржал и тут же убежал.
Дневник из дурки • Родители
Отец мой был человеком тихим, не имевшим иной радости, кроме существования. Часами мог сидеть, глядя на ветку, через которую свет пробирался в комнату. Практически ничего не говорил, лениво курил, время от времени вздыхая, перед тем как закурить вторую.
Работал в отделе кадров при железной дороге, на должности, не требующей особой тяги к жизни. Уходил и приходил с работы в одинаково нейтральном состоянии.
Мать же, напротив, была скопищем сил, не подвластных покою. Она явно не любила отца – я не могу вспомнить, чтобы они сидели вместе дома на старом диване, казавшимся тогда мне центром вселенной. Гнобила она его за всё, монотонно шипя сквозь зубы на каждое движение, на каждое оброненное слово. Работала она заведующей гастрономом и любила свою работу примерно как отца.
Появился я у них по случайности, произошедшей на Новый год в Доме культуры железнодорожников. Беременность была выгодна обоим по прагматическим причинам, и меня было решено оставить для полноты новообразовавшейся ячейки социалистического общества.
Как рассказывала мать, родился я тихо, безболезненно, и она даже немного расстроилась, так как ожидала тяжких испытаний, которые позволили бы ей упрекать меня в будущем.
За пределами дома мы были образцовой семьёй: смеялись, ходили в гости и даже ездили в какое-то место, называемое курортом, где мы гуляли по песку и оба родителя смеялись и вместе держали меня за руки.
Но стоило зайти домой, как маски спадали ещё в прихожей, и я оставался меж двух ненавидящих друг друга каменных истуканов. Возвращаться домой я не любил.
Мать частенько выпивала, но без азарта. Затем ругалась с отцом и перед сном больно и слегка брезгливо гладила меня по голове, приговаривая: «Когда же вы уже сдохнете?».
Отец матери, из военных, пересидевших в войну в штабах и вернувшихся с кучей трофейного имущества, всегда принимал меня с радостью, но не знал, что со мной делать: он либо рассказывал байки о своей доблести, либо позволял играть с орденами и медалями, либо пил. Чаще всего совмещал. Кормил меня колбасой с подсохшим батоном, смеялся, когда я давился хлебом, и наливал горячий чай по кромку в громадную керамическую пивную кружку, который я не мог пить, пока он не остынет, опасаясь ожогов. Его жена умерла, когда рожала мою мать, о чём он, судя по всему, не жалел.
Мать отца, до пенсии работавшая библиотекарем, принимала меня холодно, была строга, заставляя либо сидеть смирно, либо корпеть над прописями. Вкусно и разнообразно кормила, настойчиво вымогая похвалу, рано укладывала спать, после чего шла на кухню, молча ревела, смотрела в окно и курила. По воскресеньям брала меня в церковь, мне было там страшно, душно, и я не имел понятия, что делать.
Однажды она заставила меня целовать руку священнику. Я вместо этого укусил. Случился скандал, я получил затрещину, но больше меня в церковь не водили. Где был её муж, я не знал. Она говорила, что его съели волки.
Садик и начальная школа слились в моей памяти в серый ком, из которого торчали спицами два случая: первый поцелуй с девочкой, за которым нас застала воспитательница и устроила жуткий скандал, после чего мать разбила мне губы, и одинокое катание на санках со склона за школой на зимних каникулах, когда я не справился с управлением и врезался животом в берёзу, сломав при этом три ребра, и был обнаружен сторожем, который, на мою радость, отправил меня в больницу, а не домой.
Дурка • Нина
Старик матерился в этот вечер особенно активно. Из выступления удалось выяснить много интересного про его семью, позицию по ситуации в мире и еврейском вопросе. Его даже не заглушал храп Ивана. Цыган, как обычно, пропадал где-то. Я вышел из палаты.
– Добрый вечер! – окликнула меня Нина с дежурного поста. – Я сегодня в ночь.
Я подошёл и сел на стул рядом.
– Много работы?
– Да не особо, просто проверяю журналы на ошибки. Грамматические.
– Много ошибаются?
– Много. Пишем же на скорость. И так дел невпроворот.
– Не страшно тебе здесь ночью одной?
– А я и не одна. Хотите лимонад? Я сегодня купила в обед.
И, не дожидаясь ответа, налила мне в резервную кружку.
– Люблю лимонад. Газ в нос и вот это всё.
– А чем ты кроме работы занимаешься?
– Учусь самостоятельно. В этом году провалила экзамен в мед, но в следующем обязательно поступлю.
– На кого, если не секрет?
– Да на кого же ещё? – она посмотрела на меня, будто я спросил что-то глупое. – Хочу как Шефалович стать.
Я оглянулся на дверь его кабинета.
– Нет его сегодня, – поймала мою мысль Нина и понизила голос. – Можно вас попросить много с ним не пить? Он умеет, но иногда срывается, и это для него плохо. Я не говорю совсем не пить – с такой работой, как у него, даже надо. Но он уже два раза попался пьяным, а если его уволят, тут всё пойдёт по… – осеклась она.
– Намёк понял. Постараюсь проследить. Так ты почему не боишься?
– Я тут началась. Ну, в смысле, я отсюда помнить начала. После… Ну вы знаете же?
– Знаю.
– Я сначала на втором полгода пробыла. Потом на первом столько же. Потом два года в дневном стационаре по три месяца. Потом сняли с учёта – я уборщицей работала, пока на медсестру училась.
– Я бы не смог.
– А я вот, представляешь… те…
– Да давай на «ты».
– Можно, но я буду путаться иногда, так что не ругайтесь.
– Хорошо.
– А не интересно, как я здесь очутился?
– Не-а. Столько историй вокруг – в голове каша. Особенно на втором: там, не замолкая, о себе каждый. Мне всех жалко, поэтому стараюсь не запоминать.
– А если я буйный?
– Егор, вы бы сейчас на третьем были и тихо лежали. Там санитары разговаривать не любят.
Она посмотрела на меня.
– Только когда выйдете, постарайтесь не возвращаться.
– Я очень на это рассчитываю.
– А что спать не ложитесь?
– Да дед разворчался – спасу нет.
– А вы его за руку подержите – он и уснёт.
– Серьёзно?
– Более чем.
– Спасибо.
– Вам спасибо. Редко удаётся поболтать. А теперь идите в палату.
– Вырабатываешь командные навыки?
Она засмеялась.
– Ага. В будущем пригодится.
Дом на мосту • Бродяга
Стоял мороз, дурной и хрустящий. Надо было ехать за посылкой.
Натянув на себя всё имеющееся, обмотал лицо шарфом, выпил стакан и, перекрестившись для проформы, шагнул за порог. Идти было трудно: одежда давила, валенки пытались разбежаться в стороны.
Дойдя до дрезины, отогрел паяльной лампой, завёл и не спеша двинул к развилке, разминая окоченевшие за время, что был без рукавиц, пальцы.
Луна пребывала в силе, лес переливался тонким синим. На душе чисто – никаких дум, только дорога да иней на ресницах.
Добрался до точки, загрузил мешки с коробками на платформу и двинул назад. Разогретая дрезина шла хорошо, и я немного прибавил скорости, чтобы скорее вернуться в тепло.
Не доезжая до моста метров тридцать, колымага подпрыгнула на стыке рельс и соскочила. Меня выкинуло вперёд, но приземлился я удачно – в большой сугроб.
С трудом поднявшись, отряхнулся, рассмеялся и пошёл к месту крушения. Дрезина слетела аккуратно, оставшись на полотне – можно было легко поднять рычагом назад, как распогодится.
Я поднял одну из свалившихся коробок, развернулся и сделал всего один шаг к дому, как услышал тихий рык. Страх замёрзнуть отступил на второй план.
Метрах в двадцати показалась оскаленная волчья морда, за ней ещё одна.
– Пошли на хуй! – крикнул я.
Ружьё висело на спине, но пока я бросал бы коробку и снимал его, меня бы уже загрызли. Одежды тоже слишком много чтоб отбиться.
Я отступил назад, к дрезине, чтоб прикрыть спину. Слева медленно подходил ещё один серый. Ноги стали ватными, ужас сдавил горло.
Из леса раздался бешеный лай. Волки обернулись. Я тоже.
По рельсам нёсся пёс. Его силуэт появился меж елей со стороны развилки и приближался к нам, рассекая тишину.
Бросил коробку вместе с рукавицей, стянул ружьё. Пёс, рыча, встал между нами. Волки зарычали в ответ. Я вскинул ствол и выстрелил в ближайшего.
Серый, визжа, отлетел. Второй попал в вожака, подбив лапу. Он, скуля, поплёлся в лес, уводя за собой третьего. Я нащупал в кармане патроны, перезарядил. И выстрелил дуплетом вслед для острастки.
Они исчезли в чаще. Я снова перезарядил и сполз на полотно. Пёс пробежал вперёд, обнюхал убитого, облаял и приблизился ко мне.
Коричневая вытянутая морда с наледью, озорные глаза, тощий, но не измождённый, он стоял передо мной и радостно тявкал.
– Молодец, бродяга, молодец! – похвалил я его. Он гавкнул, подошёл ко мне вплотную и подсунул свою голову мне под руку. Я заорал в небо. Пёс поддержал воем.
– Поможешь мне? – спросил я своего спасителя. Тот завилял хвостом.
Под его охраной я перетаскал всё в дом. Последней ходкой оттащил тушу волка, наскоро вскрыл, сбросил потроха с моста и забрался в дом.
Бродяга сел в коридоре, я подозвал его к себе. Вытащил из мешка большой сухарь и протянул ему. Пёс посмотрел на него, как дети смотрят на давно желанную игрушку, аккуратно взял зубами, отошёл в сторону, лёг, начав с упоением крошить.
– Я представляю, бродяга, как ты возрадуешься, когда я разденусь и сварю гречку с тушёнкой.
Он повернулся и понимающе гавкнул.
IV

Питер • Мымра
– Это кто у нас тут такое красивое проснулось?! – обрадовался Рус, когда я зашёл на кухню.
– Привет, – ответил я севшим голосом. – Сколько времени? Как дела?
– У меня замечательно. Жбан трещит, болит колено с чего-то, тебя вот поджидаю. Восемь тридцать.
Я сел на табуретку. Отломил кусок овсяного печенья, закинул в рот и понял, что зря.
– Держи, – Рус протянул мне стакан апельсинового сока. Я врезал залпом, едва не захлебнувшись.
– А Мика где? В туалете?
– В каком туалете? С утра подорвалась, бегала по хате, искала зарядку на телефон и расчёску, потом дерябнула немного, вызвала такси и уехала домой.
Я завис, уронив подбородок на грудь и пытаясь вспомнить.
– Судя по самочувствию, у нас вчера ничего не было.
– Ещё как было. Полночи кровать тиранили. Я заглянул после её ухода в комнату, а у вас все окна запотевшие. Так что можешь собой гордиться.
– Вспомнить бы, чем.
– А может, накатим? Время раннее, закуски, опять же, в ассортименте.
Я сначала твёрдо решил отказаться, но передумал.
Рус достал из морозилки водку. Я почувствовал тошноту.
– Спокойно, мессир. Главное, первую локомотивом пустить, а дальше вагончики сами потянутся.
Через три рюмки мы начали оплывать, теряя нить разговора. Я облокотился на стол и почти уснул, но с улицы раздался женский крик.
– Убийцы! Вы все убийцы!
Рус стоял у распахнутой форточки и курил. Я поднялся, встал рядом и тоже закурил.
– В чём-то она, возможно, и права.
– Ага, только холодно.
– Ну, хоть не так воняет.
Голос женщины отражался от серых панелей домов и снова возвращался в середину двора, на разбитую, утонувшую наполовину в землю лавчонку, на которой сидела бомжеватая баба, обхватив руками большую клетчатую сумку.
– Хватит ворчать, ей-богу.
Окурок, подхваченный порывом ветра, вылетел на улицу. Я закрыл форточку и сел на табурет.
– Это Мымра, соседи за глаза прозвали. Ходит по нашим дворам и виноватых ищет.
– В чём?
– Сына её лет десять назад в армии убили. Вообще по документам самострел, но история нечистая. Она пыталась правду найти, но в процессе кукушкой отъехала.
Крик с улицы перешёл в вой, пробивавший стекло.
– Рус, она долго так может вообще?
– Она? Да. Пока кто-нибудь ей шкалик не вынесет.
– Может, выйти?
– Соседи пусть выходят. Я на прошлой неделе уже носил.
– Ну ведь выходной, перебудит же всех.
– А мы уже и не спим!
– А как же женщина твоя?
– Маринка, что ли? Так она хорошо, если в обед проснётся. Выходной же!
– А, ну да.
Я собрал салфеткой расплескавшийся по столу огуречный рассол и присел на табурет.
– Я вот думаю всё – к чему это? Весь этот стол, питьё, беседы из пустого в порожнее?
– Эко тебя кроет… – Рус вытер о шорты жирные от сельди пальцы. – В этом-то и состоит весь смысл действа. Если нальёшь ещё по рюмочке – разъясню.
– А налью.
Руки уже не слушались, посему налилось «с горкой» и расплескалось по клеёнке.
– Только это долго.
– У меня есть немного времени.
Рус откашлялся.
– Жизнь наша – лютая карусель, что несётся без остановок, снося всё на пути снова и снова, и нам, человекам, которые уже не могут смотреть на пролетающие сто, и тысячу, и миллион раз мгновения, есть одна дорога, идущая в две стороны: либо шаг вниз, либо прыжок вверх. И если шаг вниз – это личное дело каждого, то прыжок лучше делать как минимум парно, дабы тот, кто теряет высоту, был поддержан тем, кто ещё может висеть над каруселью. И вот эта кухня, водочка, сельдь, капусточка с клюковкой – всё это часть великого телепорта, раскиданного по миру. И сотни тысяч людей в этот миг также задают вопрос, а сотня тысяч других отвечает, в ожидании момента, когда нужно будет снова опрокинуть, а потом разойтись неумело, перекурить в одиночестве, бросить тарелку в мойку на гору ей подобных, попытаться умыться, бросить и свалиться спать, а проснувшись, долго вспоминать, что же это за эхо тысяч голосов раздавило твой затылок. Вот такой ментальный стоп-кран.
Я смотрел на него, не помня своего вопроса.
– Ебать тебя кроет.
– Да сам в ахуе. Дёрнем?
– Дёрнем!
За дверью кухни послышались шаркающие шаги, щелчок выключателя, струйка, звонко ударяющаяся о покоящуюся в фарфоре воду, звук слива, хлопок двери, тихая беззлобная брань и снова шаги.
– Вот теперь мне точно пора домой.
– С пустыми руками не отпущу!
Он просканировал пространство глазами.
– Возьмёшь таймер кухонный, он же магнит на холодильник.
– Ну вот нахуя он мне?
– Это не обсуждается – это от души.
– Ладно.
В коридоре, когда я уже смог попасть ногами в ботинки, Рус протянул мне пластиковый прозрачный пакет, в котором лежали чекушка и пирожок.
– Отнеси всё-таки Мымре. Негоже так на морозе орать, уши простудит ещё. Только отдай и не разговаривай – утянет на дно.
Выйдя из подъезда, пожалел, что вчера не взял шапку – злой холодный ветер хорошо делал свою работу. Прикурил с третьей попытки, набросил капюшон куртки и пошёл в центр двора.
– Держи вот.
Мымра подняла на меня заплывшие глаза.
– А ты кто такой вообще?
– Егор. В пакете выпить и закусить.
– А сына моего вот Сашей звали. Хороший мальчик, плавать любил. Ты умеешь плавать?
– Не особо. Да и мальчик я плохой.
Смутился своей грубости.
– Извините, я тороплюсь.
– Некуда, сынок, торопиться, но ты беги, поиграй, пока мамка не позовёт.
Матеря ветер, Мымру, Руса и себя, вышел со двора, поймал попутку, завалился на заднее сиденье.
Тепло разморило, и хмель снова взял верх. Пришёл в себя на считанные минуты, когда стягивал в прихожей одежду.
Проснулся, обнаружил, что весь, на удивление, цел, помыт, одет в чистое и уложен в постель. Испугался, что дома есть ещё кто-то, выскочил в коридор, наткнулся на свалку вещей у порога, заглянул в зал, на кухню, и выдохнул.
Был на взводе, ничего не болело.
Охватил дикий, непонятный голод всего, нежелание стоять на месте и быть одному.
Выглянув в окно, увидел чёрную машину на том же месте, посмеялся над собой и покурил.
Оделся, закинул в карманы телефон и портмоне, бездумно покрутил на пальце ключи и вышел в запой.
Дурка • Старик
Ивана увели на какие-то процедуры. Цыган, видимо, мотался по больнице, и я остался с дедом один на один.
– Есть кто? – громко спросил старик, прервав свои причитания и немного приподнявшись. Белёсые глаза уставились на меня.
– Да, я здесь, старый.
– Ты кто? Не вижу.
– Егор это. Что хочешь, старый?
– Воды бы. В горле пересохло.
Я поднялся и пошёл к умывальнику.
– Конечно, столько пиздеть-то, – буркнул я.
– Если что, я всё слышу, – парировал громко дед.
– Поздравляю!
Принёс кружку. Старик принял её, но не смог пить из-за тремора. Я сел рядом и начал его поить. Рассохшиеся, порубленные складками губы алчно цеплялись за эмалированный борт.
– Не части так, дед, захлебнёшься.
– Спасибо тебе, сынок.
– Не хочу расстраивать, но я просто такой же псих, как и ты.
Дед сжал скулы и зашипел.
– Такой же, да не такой! Знаешь, кем я был? У меня три тысячи человек в подчинении было! Всю войну завод работал!
Я попытался отодвинуться, но старик костлявыми пальцами крепко схватил за запястья.
– Первая жена двоих родила – померла. Взял вторую с ребёнком, прижили ещё одного – померла. Третью взял – дочь родилась. Жена на родах померла. Я весь этот гурт на себе тащил, жилы рвал. Неделями дома не бывал, деньгу зарабатывал, а потом сломался, дома сел – а что не сесть-то? Всех на ноги поднял, всех устроил – нашёл покой, думал. Не тут-то было!
Он перехватил руки, его трясло.
– А они меня из моего же дома выкинули в богадельню, а я вернулся, всех выгнал, в пустой квартире закрылся. А пока меня не было, всё из дому вынесли, суки. Так уже не дети – внуки выгнали. Я вещи носил с мусорки, хорошие вещи, выбрасывают люди, не жалко им, сволочам. А эти пришли, потом участкового привели, пошушукались, машина приехала. Раз закрыли – вернулся, два, а на третий сдали, замки сменили, документы подделали, бросили меня здесь, старший еврей, весь в мать, у них главный…
Старик ослабил хватку, опустился на спину и продолжил бормотать. Я посмотрел на медленно рассасывающиеся пятна на своих руках, поставил кружку на тумбочку и вышел из палаты.
Дневник из дурки • Кладбище
– Ты понимаешь, что мы на кладбище?
Борис оглянулся по сторонам.
– Откуда? Кресты, надгробья, старые веники у деревьев…
– Не надо было мне ехать. Ты ж в говнину.
– А кто меня, блядь, заберёт? Ты ведь не хочешь, чтобы я тут остался? Представь, если я замёрзну да умру. И вы все соберётесь на мои похороны, скажете, каким я был отличным парнем, и привезёте меня снова сюда.
– Ты мне позвонил и попросил тебя отсюда забрать. Так что поднимай жопу с могилы, – я посмотрел на имя на обелиске, – Софии Штоль и пошли к выходу.
– Это труднее сделать, чем ты думаешь. Я пока не готов идти.
– Ты если продолжишь так бухать, то нихуя не добьёшься успешной успешности, не станешь высокоэффективным менеджером, не оставишь ничего после себя, кроме токсичных долгов, и не будешь нужен своим позитивным внукам, не говоря уже о детях.
Борис заржал.
– Подъебнул, считается. А вот, по-твоему, Штоль София, девятисотого года рождения, ныне покойная, достигла невероятных успехов? Прожила восемь десятков, скорее всего, не пила, внуков как грязи – и что? Что бы ты знал о ней, если бы не я? И кому она нужна теперь, прячущаяся под моей пьяной задницей? Ты видишь здесь толпу её родни, спрашивающей совета у её мудрых костей? – проорал он.
– Что с ногами?
– Это очень интересная история. Когда я добрался досюда, то угодил в лужу-яму из какого-то земляного говнища, ушёл по колено, постоял в раздумьях минут пять и выбрался, придя к вышеупомянутой Софии.
– Итак, спрошу один раз: что с ногами?
– Ну, я ботинок утопил. А желание нырять в топь как-то пропало, – он выставил вперёд ногу в носке, через дырку в котором выглядывал большой палец.
– Господи, – я снял шарф и отдал ему. – Намотай на ногу, а то простынешь.
– Это не совсем то, на что я рассчитывал, ну да бог с ним. Сам намотай.
Я соорудил некое подобие портянки.
– Ты ещё и блевал?
– Немного совсем. Можно сказать, номинально. Но в свою защиту, господин прокуратор – за пределами кладбища.
– Но смог многое пронести на территорию на плаще.
– Давай выкурим по одной под этой дивной луной, постоим немного в её свете и в бой…
– Ну ты и мудак.
– А ты лучший друг этого мудака.
– Только сегодня.
– Только сегодня.
Мы сидели на лавке около могилы, свет проходил через редкие снежинки.
– Смотри, какое небо красивое! – вздохнул Борис, икая.
– Да. Красивое. И место отличное. И время. И никто не мешает, и не скажешь, что прям совсем одни.
Он наклонился, рукой подобрал немного первого снега, стараясь не зачерпнуть грязь, сел, закинул голову вверх и начал натирать снегом лицо.
– Рассказывай.
– Даже так?
– Только так.
– Но сначала я снова закурю.
Я прикурил сигарету и отдал ему.
– Благодарю, – он набрал полные лёгкие дыма и выплюнул его перед собой. – Ленка была беременна.
– О как!
– Вот так. Два месяца. Как-то тихо, нежно даже. Не то чтобы планировали, но… Она же не хотела детей, а тут прям поменялась, собралась вся, воскресла. Смешно так суетилась, ворчала беззлобно и очень мило тупила.
– Ты сказал «была».
– Да. Выкидыш. Позавчера. Без причины или с причиной – какая сейчас разница? В общем, случилось так.
– Бля, чувак, мне жаль.
– Мне тоже. Я ей сказал, что ничего страшного, что жизнь продолжается, что мы справимся. А она сорвалась, колотила меня, ревела, орала. Я попытался успокоить, обнять, а она гадостей наговорила, свалила всё на меня.
– Что свалила?
– Да всё, с сотворения мира и до потери ребёнка. Астрологию приплела, сиротство моё. Ну, я оделся и вышел.
– И решил, что нет лучше места, чем кладбище.
– Сначала пошёл в бар. А там накатило – и ситуация, и слова, о которых она, я уверен, уже жалеет. А потом начал пить, и полезло в голову говно – что, возможно, я действительно виноват, и что больше детей не будет никогда, потому что не хотел, и что, – он встал и прокричал, – нихуя у нас больше ничего никогда не получится!
Свалился на лавку, достал из кармана фляжку, отхлебнул, передал мне.
– Пиздец, конечно, а здесь-то зачем?
– С предками посоветоваться.
– Они здесь?
– И да, и нет. Я же рано осиротел, архивы, традиционно, сгорели. В общем, я знаю, что они на кладбище, а на каком – не знаю. Как из детдома вышел, начал ходить и искать. Но, сам понимаешь, вокруг города некрополь кольцом – что тут найдёшь? Вот и выбрал им это кладбище – дорожки здесь широкие, добираться удобно, и как-то вот сюда я их и определил. Понимаешь?
– Думаю, да. Поедем ко мне.
– Поедем. У тебя на меня обувь найдётся?
– Резиновые сапоги есть в шкафу. С тёплыми носками не обморозишься.
– Да завтра уже и снега этого не будет.
– А вот дождь может.
Когда мы проходили сторожку, на нас выскочил мелкий старичок с дубинкой наперевес.
– Тут нельзя ночью! Я в милицию звоню! Кто такие?
Борис подошёл к нему вплотную. Дед побелел и остолбенел.
– Не кричи. С ботиночком я прощался, – он указал на ногу. – Невосполнимая потеря. Но сейчас он с папой и мамой.
Выгреб несколько бумажек из кармана, впихнул их в нагрудный карман робы сторожа.
– Благодарю за службу!
Дед тихо отчеканил:
– Служу Советскому Союзу!
– Тут ему, блядь, и место.
Борис сплюнул под ноги и обернулся ко мне.
– Ни разу за сутки не позвонила, понимаешь? Поехали на хуй отсюда. Жрать хочу.


