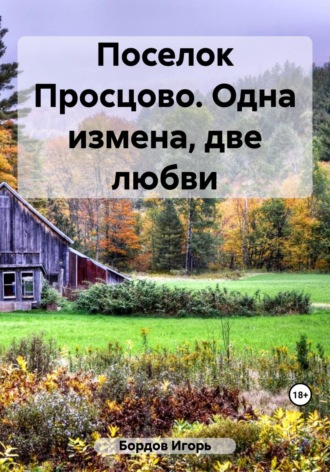
Игорь Бордов
Поселок Просцово. Одна измена, две любви
Глава 3. Священное Предание.
«Вы присвоили себе ключ от знания» (Луки 11:52, перевод Русского Библейского Центра).
То, как я ощущал себя во время беседы с Верой Павловной, придало мне уверенности. Я чувствовал, что со мной рука J. О содержании самой беседы в смысле её целесообразности я думал мало. Конечно, принцип «ломать – не строить» не был мною похоронен и вяло подмигивал с задворок сознания. Наивно, к примеру, было думать, что то, что я покажу Вере Павловне (пусть даже в её Библии) ряд высказываний Христа, противоречащих устоям церкви, враз обрушит систему поклонения, преданность которой она доказывала годами и с которой она ассоциировала своё спасение от того же пьянства. Это было понятно. Но это мало меня заботило. Я был уверен, что открывание людям библейской истины, удобна она или неудобна кому-то, – это часть благовествования и воля Бога, ибо так же поступали и Христос, и апостолы. От человека должно зависеть, позволит ли он ломать что-то в себе, а потом строить на библейском основании. Поэтому я готов был действовать смело и решительно, без смущения.
Однажды Алина объявила мне, что к Вере Павловне зашёл священник. У меня ёкнуло сердце. Я понимал, что моя бравада не столь оправдана, и вряд ли я достаточно подготовлен к плодотворной беседе с такого рода высокоумными «профессионалами». Тем не менее, я помолился вместе с Алиной, взял в обнимку свою исчёрканную Библию Макария и отправился в бой.
Как раз так вышло, что священник приехал и остался, а Вера Павловна сразу умчалась, – видимо, по церковным делам. Я постучался и робко вошёл.
– Здравствуйте, я сосед Веры Павловны. Вы не против, если я ненадолго оторву вас.
– Да, слушаю…
– Мне хотелось бы побеседовать на основании Священного Писания, – я показал на надпись на обложке моей Библии.
Священник сдержанно-добродушным жестом побудил меня расположиться за кухонным столом и расположился сам. На этот раз я не чувствовал того удивительного спокойствия, как при беседе с Верой Павловной. Было неуютно и как-то заковычно. Я положил Библию на стол; на сине-зелёно-белых клетках клеёнки, под сенью священниковой бородки и его серо-чёрной рясы она смотрелась как-то вдруг чересчур сиротливо и неприкаянно. Мы были со священником примерно одного роста и габаритов, хотя, ему, пожалуй, было немногим за 30 и сложения он был, всё же, более мужественного (я же в те годы был, по выражению Тимохи Вестницкого, «тощий как велосипед»). Бородка и наряд тоже, естественно, добавляли ему солидности. Тон он взял не то чтобы нравоучительный, но уверенно-превозносящийся, хотя и без надменности. Он начал первый, не позволив мне взять лидерство в разговоре, и как бы этим сразу осёк. Но более всего меня смутило содержание его первой фразы. Он сказал, вскользь направив ладонь на загрустившего вдруг Макария, и как бы с некоторым нетерпением:
– Да, пожалуйста, можно поговорить, но я бы хотел сначала уточнить, чтобы нам быть на одной волне: что, по вашему, первично, – Священное Писание или Священное Предание?
Я сидел. Но проповедник во мне вдруг сел ещё глубже. «Вот так разворот! Знать бы ещё, о чём он…»
– Если не трудно, поясните. Я не совсем в курсе, что такое Священное Предание.
– Ну, смотрите, – он как бы сразу чуть-чуть оживился, но сохранял в целом солидную невозмутимость и степенность, – Писание начинается с книг Моисея, так?
– Да.
– Но ведь Моисей жил спустя примерно две с половиной тысячи лет после Адама, вы, наверное, в курсе?
– Да, я знаю.
– Есть же предположение, что Библию начал писать Адам. Но те рукописи не сохранились. Другое дело – предание. Священная информация передавалась из уст в уста, из рода в род с тех самых древних времён. Вот почему некоторые элементы истинного поклонения, которые мы знаем и имеем сейчас (например, использование свечей) не находит отражения в Писании. Однако, Предание первично. Вы не согласны?
Это было так неожиданно, что я онемел. Пока я медленно выдавливал из себя что-то вроде: «Ну-у-у,.. я привык думать, что-о-о Писание дано нам Богом как раз для того, чтобы священная информация сохранилась неизменной», во мне, наконец, созрела ключевая разочаровывающая и ставящая меня на место идея:
«О-о-о. Вот оно как. Он просто-напросто наперёд застраховался. Теперь, что я ему в Библии ни открой, он скажет: ну, здесь так, а у нас, в Предании – наоборот. И – дело шито-крыто!» Я выдохнул. Создавалось впечатление, что Библию мне открывать теперь и нет смысла никакого. Макарий на столе ещё сильнее осиротел.
– Ну, а как же, – продолжил священник, отвечая мне на моё мямление про неизменность, – вы же понимаете, что если Бог не позволил на протяжении веков изменить Писание, то разве у него нет сил оставить неизменным Предание?
Да. Если проповедь папы для Государева была «хилыми понтами», то аргументацию священника я бы таковой не смог бы назвать; для него самого, по крайней мере, она была весомой и незыблемой. При такой «железобетонной» обороне продолжение дискуссии было, очевидно, делом неблагодарным.
Но запал мой был велик, и я не мог просто так встать и уйти. И я вывернулся.
– Подождите, но ведь если Христос что-то говорит нам в Евангелии, то ведь ничто в том, что вы называете «Священным Преданием» не может этого изменить, ведь так?
– Несомненно.
– Хорошо, – я решил коснуться Троицы, ибо обилие не подлежащих, на мой взгляд, двоякому толкованию формулировок в Писании давало мне право здесь свободно разгуляться. – В Евангелии Иоанна есть слова Христа: «Отец мой более меня», – священник кивнул, – однако центральное церковное вероучение о Троице уравнивает Сына с Отцом во всех отношениях.
Мой собеседник задумчиво взял ручку и листок, подвернувшиеся тут же, на столе, и торопливо начертал на нём фигуру человека.
– Как вы понимаете природу Христа? – он разделил изображение пополам продольной линией. – Он – Богочеловек по Писанию, разве нет? – косой пронзительный взгляд на меня.
– Ну-у, – снова опешил я, – в некотором смысле, конечно.
– Получается, пребывая на земле, он не был в полной мере частью Божества, а, значит, мог вполне сказать ту мысль, что вы процитировали.
«Опять выкрутился. Кажется, в этом отношении дискутировать – тоже дело гиблое».
– Я понял. Позвольте ещё вопрос…
– Пожалуйста.
– Иисус сказал: «все, взявшие меч, мечом погибнут». Скажите, мне непонятно, почему церковь благословляет военные действия?
На каждый мой вопрос священник чуть-чуть менял интонацию. В этот раз он как бы слегка посуровел, как будто я своим вопросом слегка поднажал на край чаши его великого терпения, и он как бы грозно прослеживал, не укапало бы оно в некотором изобилии на сыру-землю. Он продолжил рисовать на листочке. Начертал нечто наподобие границы.
– Посмотрите. Вы – здесь. Вы узнали, что отсюда нападает враг. Что вы будете делать?
– Молиться, – не задумываясь, возмущённо ляпнул я. Я чувствовал, что в подобного рода дискуссии это легковесный аргумент; где-то, на некотором отдалении, маячило правильное: «а кто такой «я»? если «я» – это христиане, то это одно, а если «я» – это таинственный, и в то же время прямолинейный зверь, именуемый «как бы христианское государство» – то это совсем другое», но мой опыт в духовной риторике на тот момент был чрезвычайно куц, и я выпалил только то, что смог.
– Ну-у-у, – протянул священник, очевидно выражая сомнение в однозначности весомости моей реплики, несмотря на мою ретивую интонацию. – Ну а, кроме того, разве Христос не говорит в благовестии Иоанна 15:13: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»?
«Ну уж а это-то тут при чём? Как будто Христос отдал за других душу, кого-то при этом убив. И апостолов разве он не учил: «любите врагов»?», – это были хорошие мысли и хорошие аргументы, но я и здесь спасовал, растерявшись под напором рясово-семинаристского авторитета.
– Ещё я хотел вас спросить… Главная молитва христианства начинается словами: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое». Какое имя имел в виду Иисус, произнося эти слова?
– Отец, – (всё-таки, с небольшой предпаузой).
Уразумев наконец, что дискуссия бессмысленна, я решил затронуть более, на мой взгляд, мягкие в данной ситуации вопросы эсхатологии. Всплыл антихрист.
– Вы считаете, что антихрист – это конкретная личность?
– Конечно.
– А на чём вы основываетесь?
– Ну, как же, – (здесь он меня совсем удивил), – в пророчестве Иакова в Бытии сказано: «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад».
– Стало быть, антихрист должен быть из колена Дана?
– Да.
– Он должен быть евреем?
– Ну а кем же? – искренне усмехнулся мой собеседник, как бы дивясь на мою невежественную наивность.
Зашёл вопрос и о необходимости христианина проповедовать. «Батюшка» посетовал на отчаянную бездуховность народа.
– Посмотрите, кругом – одни атеисты. Наша вера для них – детский лепет. Оттого и в церковь не идут. И что же мне, ходить по домам к этим безбожникам?
«А почему бы нет?» – подумал я. – «Если бы все христиане размышляли, как ты, то и не было бы христианства. А Христос? Ещё один вздёрнутый «бунтарёк». И его кровь – просто капля в море крови, пролитой людьми за всю историю. И всё закончилось на Платоне и Конфуции. И не было бы, в том числе, ни тебя, «батюшки», ни церкви твоей. А кроме того, мы же читаем про Христа, что «видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как о́вцы, не имеющие пастыря» и «начал учить их много», и он «проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие». Так что же, Иисус жалел людей, не ленился и не боялся (и ученики его), а ты не жалеешь, ленишься и боишься?» Всё это было в голове у меня, но я не умел тогда выразить это последовательно, спокойно и тактично, и мне не хотелось спорить.
В какой-то момент я решил откланяться. Мы встали. Я взял Макария со стола (сразу стало как-то уютнее). Священник сказал:
– Я вижу, вы живо интересуетесь духовными вопросами. У меня есть для вас кое-какая литература. Если я передам через Веру Павловну, вы почитаете?
– Да, конечно. До свидания.
Я протянул неуверенно руку, и он уверенно мне её пожал.
От разговора со священником я испытал двоякое чувство. Прежде всего, я был разочарован, поскольку ожидал от человека, претендующего на изрядную духовность, более тёплого и ревнивого отношения к Писанию; его же сухость, поддерживаемая, по видимому, семинарской мудрёностью, а также эта его, ранящая меня, легковесная готовность подминать неудобные моменты в Писании каким-то там абстрактным «преданием» расхолаживали моё заочно почтительное отношение к этому представителю просцовской «элиты». С другой стороны, я осознавал, что состоявшийся разговор – это определённая веха на моём пути как проповедника, учитывая проявленную мною отвагу и то, что я шатко-валко, но сдал некий как бы экзамен по духовной риторике.
Спустя время Вера Павловна действительно передала для меня от священника две брошюрки. Оформлены они были небогато, напоминали маленькие институтские «методички». Одна именовалась наподобие «Ответы на вопросы недоумевающих» и поднимала тему употребления термина «Отец» к духовным чинам. Я задумался: кажется, в беседе с ним я не поднимал этот вопрос; неужели Вера Павловна передала ему мои интенции по «руколобызанию»? (Вот так, моя проповедь уже начала распространяться опосредовано; этакое своего рода «священное предание» формируется.) Меня не очень тронули попытки оправдать приемлемость и даже законность формирования традиции употребления слова «поп».
Другая «методичка» называлась «Православный катехизис». По содержанию она напоминала брошюру bf «Что от нас ожидает Бог?»: изложение основных вероучений церкви по принципу «короткий вопрос – короткий ответ, со ссылкой на Писание». Ссылок было гораздо меньше, чем у bf, хотя многие посылы (в особенности многое из того, что касалось вопросов нравственности) совпадали. Но я прицельно обратил внимание на три момента. «Кто такой Бог?» – в ответе чётко изображалась концепция Троицы. «Может ли христианин убивать?» – не дословно, но в общем: «Нет, за исключением случаев, когда необходимо встать на защиту Родины» (ссылок на Библию не давалось). «Какая награда ожидает верного христианина?» – (кратко, без дополнительных пояснений) «Вечное блаженство на небе». «Что ж», – я отложил брошюры, – «никаких сюрпризов».
Глава 4. Плоская Земля, квадратная голова и На-На.
«К вам, о люди, взываю я, крик мой – к роду людскому!.. Слушайте, так как я говорю о важном, открываю уста, чтобы возвестить правду» (Притчи 8:4,6, Новый русский перевод).
Я стал активно проповедовать сотрудникам и даже некоторым пациентам. Я испытывал радость не только от того, что осознавал, что исполняю волю Бога и Бог доволен мной, но и оттого, что видел, с какой силой Божье Слово распахивает сердца людей, обнажает нечто скрытое в них. Я вдруг узнал, что, с самой банальной точки зрения, быть проповедником – чрезвычайно интересно. Люди открывались с совершенно неожиданных сторон и начинали вдруг говорить о том, о чём (я знал) они никогда не упомянули бы при обычном повседневном «трёпе». В свете этого, для меня они становились другими. Зачастую я менял своё отношение к ним и, в целом, испытывал к ним более тёплые чувства. Иногда меня вдруг охватывало ощущение, что они в некотором смысле мне как дети, милые и непослушные, за которых я несу определённую долю ответственности. Это было удивительно!
К примеру, когда я заговорил на духовную тему с Ниной Ивановной, зубным доктором, которая завсегда была одета в личину бесконечной беззаботной, порой простовато-грубой веселушки, а потому иначе мною никогда не воспринимавшейся, она вдруг резко посерьёзнела, и я увидел совсем другое лицо: вдумчивое, уставшее, грустное и как бы даже немного потустороннее. Контраст поразил меня. Она свернула тему, сославшись, на то, что «это не её», но я чувствовал, что даже те несколько кастрированных слов, что я успел сказать, затронули её и произвели определённую работу в ней. В последующем я чувствовал, что если некоторые с неодобрением и даже с брезгливостью относились к моему «перевоплощению», то Нина Ивановна всегда имела к моему выбору прочувствованное уважение.
Иногда было просто забавно. Например, именно тогда я услышал от Ларисы Кронидовны, фельдшера из Просцово, что она не верит в то, что Земля круглая. Это было даже более неожиданно, чем батюшкина былина о «священном предании». Я пытался привести Ларисе Кронидовне доводы касательно боговдохновенности Библии. Среди прочего открыл книгу Исайи 40:22: «Он восседит над кругом земли, и живущие на ней как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жительства».
– Посмотрите, Лариса Кронидовна: «над кругом земли». Древнееврейское слово «хуг», которое здесь приведено, может также переводиться, как «шар». Удивительно. Люди только совсем недавно открыли, что Земля круглая, а эти слова были написаны аж две с половиной тысячи лет назад.
– А я вот не верю, что Земля круглая!
– … Вы серьёзно?
– Конечно. Мне из моего огорода этого не видно.
– Но есть же научные доводы, снимки из космоса и так далее…
– Ой, Игорь Петрович, мало ли нас обманывали? И коммунизм был, и чего только не было! Я вот уже ничему не верю.
– Ну, коммунизм – понятно, – политика, идеология. А учёным-то зачем понадобилось обманывать?
– А кто их знает? Значит, кому-то понадобилось. А у меня, вон, скотина, дом, работа, муж, дети есть. Что мне ещё нужно?..
(«Ох уж эта скотина. Вечно-то она у просцовцев на первом месте».)
Болезненная корова Альбины Степановны, лаборантки, в ту весну, видимо, пребывала в ремиссии вымячего заболевания, поэтому Альбина Степановна снова трудоустроилась. Её восторженная простота и суматошная непосредственность подкупали и, наверное, ни одного проповедника не могли бы оставить равнодушным. Однако в какой-то момент я почувствовал, что взялся за неё слишком ретиво. Я понял, что Альбина Степановна, как шуганный зайчонок боится в этой жизни не только гнили коровьего вымени, но и многих других вещей, в особенности – непривычных и неизвестных. В разгар моего эмоционального выступления перед ней в лаборатории, она вдруг притихла, действительно, как зайчик под кустом и только разве не дрожала. Я досадно щёлкнул зубами, вытер серой мохнатой лапой с морды голодную слюну и, вздохнув, отправился восвояси в ординаторскую. Спустя пару дней она застала меня в ординаторской за столом, читающим tw с главной темой: «Почему нужно быть благодарными?». Среди прочего там была интересная статья «Харизма: для прославления Бога или человека?». Не подумав о том, что это может попасться на глаза несчастной Альбины Степановны в посёлке Просцово, Россия, К-я область, Т-й район, Писательский комитет РС bf решил разместить в статье фотографию нацистского вождя, дабы проиллюстрировать то, к каким плодам может привести так называемая харизма, если она не употребляется для прославления Бога. Подойдя к столу и увидев иллюстрацию, Альбина Степановна отскочила метра на два с возгласом «Ой, Гитлер!», как будто усатый пучеглазый призрак вдруг встал прямо здесь, в ординаторской. На сей раз зайчик, в панике глядя на меня, кажется, и буквально дрожал.
– Да что вы, Альбина Степановна! Надо же контекст смотреть. Тут как раз говорится, что талантом можно воспользоваться на зло, а не на добро. Вот смотрите, тут сказано…
– О-ё-ёй, не надо-не надо, я не хочу, я пошла, – и зайчонок упрыгал под свой кустик в лабораторию.
(«Ох, несчастные, да что ж вас жизнь запугала-то так!»)
Вызвала Юлия Фёдоровна Валаамова. Снова напомнила мне о своей эпопее с гробами. Всё-таки у неё появилась мысль переехать с мужем к дочери в Подмосковье, но где же там гробы-то разместить? И как их перевозить?.. Дочь говорит: оставь! А Юлия Фёдоровна: да как же оставить-то?.. Дальше – снова занудная тема про сердце-кишечник-суставы и советы Великого т-кого кардиолога. Я спросил:
– Юлия Фёдоровна, а вы в Бога верите?
Она посмотрела на меня вдруг как-то по-детски, растерянно и беспомощно.
– Да-а, – исправившись и сделав твёрдым голос.
– А как вы понимаете, кто такой Бог?
– Иисус Христос, – (без заминки).
– Погодите, но ведь в Библии написано, что Иисус – Сын Бога, а не сам Бог…
Юлия Фёдоровна слегка задумалась-нахмурилась.
– Не знаю, нас всегда учили, что Бог – это Иисус Христос.
(«Вот! Вот, мой дорогой собеседник из семинарии, ваша Троица из «методички». Просцовская «элита из народа» в результате верует не в то, что Бог – Троица, ибо вы и сами эту Троицу не понимаете и объяснить не можете, а верует в то, что Сын есть Бог, и других богов нет! А где Отец?.. Забыли про него. На корню забыли. Как и не было его. А разве Сын этого хотел?»)
С Вероникой Александровной вышло немного странно. Ей я не задал прямого вопроса, верит ли она в Бога. Исходя из того, что она однажды нелестно отозвалась о местном «батюшке», практически не поднимала в беседах религиозных вопросов, а также участвовала в местных языческих праздниках типа «Мясной горшок» (таковых праздников в Просцово, как оказалось, было преизрядно, причём честь праздновать тот или иной из них была исторически распределена по районам, и сии традиции поддерживались), я заключил, что она – коммунистическая атеистка-язычница и выстроил проповедь исходя из этого. То, что она, внимая моим рассуждениям на духовные темы, всегда немножко кривила налево рот в ироничной полуусмешечке, подтверждало мои догадки. Поразительно, но до самого конца моего пребывания в Просцово, несмотря на историю с Максимом (об этом позже), я оставался в твёрдом убеждении, что она атеистка. Когда же я приехал с родным братом Вадимом проповедовать сюда году в 2016-м, я уже знал от Веры Павловны (мы общались с нею по телефону на тему здоровья), что Вероника Александровна принимает сверхактивное участие в жизни просцовской православной общины. Я пришёл домой к Веронике Александровне и в разговоре решил подтрунить над ней, как она в 2000-м году с усмешкой слушала мои рассуждения о Боге. И тут выяснилось, что Вероника Александровна всегда была верующей православной. Я просто не учёл того момента, что в коммунистические годы люди навострились до степени рефлекторности избегать афишировать свои религиозные убеждения. Так что, та усмешка была направленна, пожалуй, не столько на содержание моих речей (ибо оно было неспецифично и вполне приемлемо для любого верующего), сколько на моё «сектантствование» и «проповедничанье». Не зная, как преодолеть эту её усмешку и ироничные вопросы типа «да а с чего вы это взяли?», я однажды в запале прочитал ей (как из пулемёта, чтобы уложиться во время амбулаторного приёма) всю книгу Экклезиаста, дабы показать, что Библия и впрямь содержит в себе необычайную практическую мудрость, прошедшую сквозь века. Тем не менее, усмешка на лице Вероники Александровны не уменьшилась ни на миллиметр. «Ну и что?» – произнесла она всё с той же насмешливой иронией, когда я закончил чтение…
С Валей же, регистратором, вышло как всегда забавно. Валя была чудачка: всегда серьёзно-нахлобученная, но вечно ляпающая что-то такое, от чего вся амбулатория со смеху покатывалась. По совету мамы, я принёс в амбулаторию стопку разномастных журналов и просто положил на столе, мол, кто хочет – подходи, бери, читай. Вероника Александровна чуралась, зато Валя читала с удовольствием. «Тут хоть для души. А то осто…л этот «Хронометр»!», – гнусила она своим каким-то обиженным окающим баском. Вскоре выяснилось, что все принесённые мной в амбулаторию экземпляры aw и tw она уже прочла.
– Игорь Петрович, а у вас есть ещё что-нибудь почитать такое же, – попросила она однажды в начале приёма.
«Ого», – подумал я, – «тут уже изучение Библии начинать пора!»
Я достал из сумки брошюру «Что от нас ожидает Бог», тот самый как бы катехизис bf, только, в отличие от православной «методички», дивно иллюстрированный и имеющий по одной-две библейские ссылки на каждое утверждение.
– На, Валя, читай внимательно. Тут каждое утверждение очень важно, здесь, по сути, главные идеи всей Библии. Можно их будет потом последовательно обсудить, и у нас с тобой получится изучение Библии…
Валя выхватила у меня из руки брошюру и удалилась в свою регистраторскую каморку. Минут через 15 она вернулась и шмякнула брошюру передо мной на стол.
– Что-то не так? – спросил я.
– Ну, я уже всё прочитала. А чего там читать!? Восемь предложений. Ещё чего-нибудь давайте!
«Вот тебе и поизучали!»
– Хорошо, Валь, вот тут побольше информации, – я достал из сумки брошюру «Что происходит, когда мы умираем», в которой, на мой взгляд, очень изящно и последовательно развенчивалось учение о бессмертии души, после чего в конце делался гармоничный переход на учение о воскресении. («Она ведь в «Что ожидает Бог» даже небось и не заметила эту тему, за 15-то минут!»)
Я думал, Валя прискачет за новым чтивом минут через сорок, однако же, весь оставшийся приём она не появлялась. Возникла она примерно в 12 с лицом утомлённым и как бы недовольным. Вернула брошюру. И изрекла, дунув вверх с угла нижней губы на свой кудрявый травленый чуб:
– А вот от этой вашей книжечки у меня голова стала квадратной и в каждом углу заболела!
Мы с Вероникой Александровной легли под стол.
– Ну, Валя, ну юмористка, – прерывала иногда свой хохот Вероника Александровна.
Успокоившись, я отправился к Вале в конуру потолковать серьёзно. Я объяснил, что такое изучение Библии: что есть специальная книга, мы будем последовательно во всём разбираться. Но Валя отмахнулась:
– Да не надо. А лучше приносите ещё что-нибудь почитать. Я почитаю.
«Ну», – думаю, – «книгу «Знание» тебе тогда не дам. А то вот так же пролетишь её, а толку – ноль».
Мужчины (в основном, водители) воспринимали мою проповедь как-то отрешённо, с налётом серьёзной, но не глубокой вдумчивости. Во всяком случае, не усмехались, не ёрничали и не корили. Сашка, парень эмоциональный, хливко-боевой, однако, иногда пытался спорить по-простому, по-мужицки. Меня тогда тоже цепляло за эмоции, но как-то весело, легко.
– Ну где ты, скажи, Петрович, видел его, Бога-то этого? Вон, космонавты, летали же туда, и не видели Бога твоего.
– Сашк, так ты подумай, если он Солнце создал, на которое мы нескольких секунд прямыми глазами посмотреть не можем, и все там галактики, то как нам видеть-то его? Он должен быть ещё выше всего этого, а не между звёздами летать, которые сам же создал.
– Ну, тем более! Как нам тогда понять-то его: есть он или нет?..
– Да из той же природы. Смотри. Вот этот дом ведь строил кто-то? Не сам же он тут оказался…
– Ну понятно!..
– А теперь возьми хоть одуванчик, – я кидался к одуванчику, срывал и волок его к Сашке, сидящему на ступеньках моего порога, – смотри, он ведь живой. Люди ведь не могут создать своими руками ничего живого. А ещё, если этот одуванчик и все его мелкие части в микроскоп рассмотреть, окажется, что он устроен намного-намного сложнее, чем этот дом наш дурацкий. Вот и выходит: если дом строили, и сам он ниоткуда не мог возникнуть, то с чего мы взяли, что гораздо более сложные объекты сами собой на свете явились?!
Я смотрел на Сашку и понимал, что моё сравнение дома с одуванчиком в его простонародных глазах идёт совсем не в пользу одуванчика: наверное, дом ему казался сложнее устроенным, потому что он редко думал о микроскопах, а дом был больше. Я поспешил исправить аналогию:
– Ну, или те же планеты, звёзды, вселенная: ведь всё же там очень сложно отрегулировано и движется всё, как часы. А Вселенную-то точно не человек же строил… Кто тогда?
Сашка вздыхал.
– Ой, не знаю, Петрович, выстроил ты тут систему какую-то сам для себя, и теперь у тебя – Бог. А по мне-так проще всё: и одуванчик сам по себе вылез, и планеты сами там как-то вращаются, и сами мы тоже сами по себе.
(«Да система-то моя не такая уж и сложная, а только думаю я: всё упирается в твоё нежелание, к примеру, от пьянки отказываться, если вдруг Бог от тебя этого потребует. Не хватало ещё ради того, что глазами не видно, на какие-то там жертвы идти».)
Другие водители были не такие задорные и предпочитали не спорить. Они кивали, как бы соглашаясь с моими доводами, но, в конце концов, эти все их кивки останавливались в какой-то меланхоличной точке, и за пределы этой точки не могли проникнуть ни разум мой, ни язык, ни эмоции; да и сами они, водители, складывалось впечатление, толком не знали, что́ там, «за пределами», в их потаённом самосознании.
К примеру, мы приезжали на вызов на перекрёсток Кирова и Лесной. Перед тем, как выйти, я вдруг поворачивался к водителю и огорошивал:
– А как вы думаете, в чём смысл человеческой жизни?
Водитель, с виду ничуть не огорошившись, слов тем не менее не находил, а кротко и немногозначно, по-детски, пожимал одновременно плечами и подбородком.
– А я вот в Библии недавно об этом прочитал. Хотите, покажу?
– Давай, – (вяленько так, как будто я сейчас вот яблоко из груды других яблок пополам разрезал и половину ему предлагаю).
Я открываю подчёркнутое и обведённое кружочками 1-е Иоанна 2:15-17 и читаю вслух флегматичного водителя:
– «Не люби́те мира, ни того, что́ в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что́ в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сего). И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот я прочитал это и подумал: если я, или какой-нибудь другой человек, не исполняем волю Бога, то мы просто-напросто пройдём, как всё вот это, о чём здесь сказано. А если исполняем, то вечно будем жить.
В начале моей возвышенной тирады водитель кивал-кивал головой, но к концу её маятник кивания стал стихать-стихать и замер, и я понял: «Хорошо бы задать логичный вопрос: «Так в чём же Божья воля?», но только не сто́ит, а то он и так завис сейчас между небом и землёй; пускай повисит, а я пока на вызов схожу». И я закрывал Библию и шёл на вызов. По моему возвращению водила твёрдо сидел в седле, гнал коней так же флегматично, как и раньше и рулил так же уверенно. И я думал: «Наверное не сто́ит».
Меня особенно радовала Галина Ильинична Родионова, та самая бабушка из деревни Кулибино, что регулярно ложилась в стационар с астмой на очередную возрастающе-убывающую схему гормонов. Она была бесконечно мила, кротка и непрекословна. Выяснилось, что в Бога она верит, хотя Библию читала разрозненно, без системы. Мои излияния она встретила вдумчиво, но и с видимой охотой. Иногда она выговаривала, как бы сама с собой, погрузившись в воспоминания:
– У нас в Кулибино было много разных сект, – (далее следовало перечисление, очевидно, по фамилиям главных представителей).
Слово «секта» в её устах гляделось так же мило, как и все прочие слова. Она была очень доброй, и ни в коей мере не хотела бы меня задеть. Я предложил ей изучать Библию, и она согласилась, едва ли не с рвением.
Однажды я усадил её в пустующую четвёртую палату (на тот момент мы с Татьяной Мирославовной как-то-таки умудрились разогнать «старожилок»), и к нам тоже подсели пара пациенток и медсестра. Я почему-то пренебрёг и брошюрой «Что от нас ожидает Бог» и книгой «Знание, ведущее к вечной жизни». А хотел я тогда просто показать, как Библия гармонично объясняет сама себя, разбирая вопросы из «темника», находящегося в самой Библии. Но вышло как-то не очень. Я предложил Галине Ильиничне самой выбрать тему, она замешкалась; в конце концов, остановились на качествах Бога, обсуждали его любовь и доброту, но мне вдруг показалось, что Галине Ильиничне многое из этого и так понятно, и при этом она (бывшая учительница) так волновалась, что сбивалась при чтении. Где-то, в другой палате, неуместно выводила на крике Земфира по радио свои «корабли и гавани».
Мы позанимались раза два. Потом Родионова выписалась. Я нагрузил её литературой, и она обещала всё прочитать, и, если ей доведётся снова лечь, мы обязательно продолжим изучение.
В то время в «изоляторе» откармливалась Татьяна Николаевна Свинцова, та, что нищенствовала между церковью и магазином. Однажды вечером она пригласила меня в свою келью-палату. Я сел на пустующую койку.
– Что, Татьяна Николаевна…
– Игорь Петрович, я слышала, вы людям о Библии рассказываете. Я бы хотела, чтобы вы и со мной такие занятия проводили.
– Что ж, я польщён. У меня как раз с собой Библия в сумке. Сейчас принесу.
Я принёс свою неизменную Библию Макария и стал объяснять ей какое-то вероучение. Свинцова благодушно меня выслушала. Я спросил: возможно, у неё есть вопросы вообще, по Библии?


