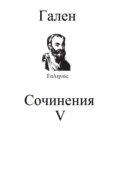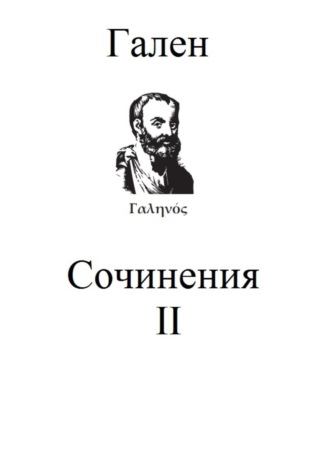
Гален
Сочинения. Том 2
Для Галена как врача вопрос о местопребывании разумной части души имеет приоритетное значение не столько относительно проявления ее сущности, сколько для понимания источника движения и произвольных действий человеческого тела. Анатомическое вскрытие с целью накопления эмпирически достоверных знаний, по мнению Галена, есть единственный заслуживающий доверия способ изучения устройства организма. Применение этого метода позволяет ему открыто критиковать мнение оппонентов, которые считали, что артерии превращаются в нервы и это предоставляло возможность рассматривать сердце как источник «высшей пневмы», расходящейся по нервам. Подобный подход Гален называет «пустой теорией»: «Не следует с помощью [пустых] теорий пытаться разыскивать артерии, которые изначально превращаются в эти нервы, чтобы только потом пошевелить пальцем или другой частью руки»[56].
Важнейшей в философии Стагирита и крайне важной для развития медицинской теории и практики является теория движения. Во вступительной статье к третьему тому отечественного издания собрания сочинений Аристотеля именно так оценивается его взгляд на проблему движения: «Так как все существующее существует либо в возможности, либо в действительности, то любой вид Движения может быть определен как действительность (энтелехия) существующего в возможности, поскольку оно таково (например, качественное изменение есть действительность тела, могущего качественно изменяться, поскольку оно способно к такому изменению и т. д.)»[57].
В его системе существуют следующие виды движения – качественные изменения, рост и уменьшение, возникновение и уничтожение и, наконец, перемещение. Нетрудно заметить, как органично и легко можно описывать медицинские явления с помощью предложенных Аристотелем видов движения. Безусловно, раскрыть содержимое этих понятий относительно явлений, изучаемых медициной, можно только эмпирическим путем. Особенно важной нам представляется принципиальная оговорка об энтелехии существующего в возможности. Действительно, осмыслить всю совокупность явлений общей патологии можно только при понимании многовариантности, заложенной в возможностях организма, и при системном обобщении обилия эмпирических явлений, раскрывающих многовариантность. При этом мы должны четко соотносить возможность объяснения эмпирических наблюдений с понятийным аппаратом. Явствует ли из врачебной практики возможность качественных изменений в человеческом организме? Конечно, и она усматривается в самых разных группах явлений. Разберем ее на примере функции дыхания во всей ее совокупности. Первое назначение дыхания – охлаждение внутреннего огня. Именно она реализуется в организме, когда, с одной стороны, внутренний огонь необходим для пищеварения и питания плоти, а с другой стороны, это сопровождается качественным изменением перехода первоэлемента огня в первоэлемент воздуха. Нарушение функции дыхания повлечет за собой нарушение питательной функции крови, которая, в свою очередь, приведет к гниению плоти. В далеко зашедшей фазе эта цепочка нарушений наблюдается врачом в контрасте между, например, здоровой нижней конечностью и ногой, пораженной гангреной. Налицо качественное изменение плоти вследствие реализации цепочки взаимосвязанных нарушений функций организма. Важным моментом в представленной нами картине последовательности патологических процессов является тот факт, что все они реализовывались на фоне перемен в другом виде движения – перемещений. Как правило, аристотелевское «перемещение» описывается историками науки в категориях механической физики, например перемещение предметов в пространстве. Однако не менее важной является реализация этого вида движения в виде процессов, невидимых глазу, но понимаемых с помощью теории первоэлементов и в контексте физиологических процессов, протекающих в человеческом организме. Перемещение питательных веществ с помощью крови и качество усвоения их тканями объясняется в аристотелевской системе с помощью совокупности видов движения. Такие виды движения, как рост и убыль, возникновение и уничтожение, очевидным образом реализуются в процессе эмбриогенеза, роста и умирания человеческого организма. Именно таким образом в медицинской практике античности движение постигается как отношение.
Аристотель следующим образом соотносит четыре вида движения с базовыми категориями: в отношении сущности – возникновение и уничтожение; в отношении количества – рост и уменьшение; в отношении места – перемещение; в отношении качества – качественные изменения. Возникает вопрос о соотношении этих видов движения друг с другом и возможности установления иерархии этих видов движения при описании процессов, происходящих в биологических системах: «Ведь невозможно, чтобы рост происходил без наличия предшествующего качественного изменения, так как растущее иногда увеличивается за счет однородного, иногда же за счет неоднородного, так как пища считается противоположным [присоединяющимся] к противоположному, а все возникающее возникает, когда однородное [присоединяется] к однородному. Следовательно, необходимо, чтобы качественное изменение было переходом в противоположное. Но если происходит качественное изменение, должно существовать нечто изменяющее и делающее из теплого в возможности теплое в деятельности. Таким образом, очевидно, что движущее ведет себя не одинаково, но иногда находится ближе, иногда дальше от качественно изменяемого. А это не может произойти без перемещения. Следовательно, если движение должно существовать всегда, то необходимо, чтобы и перемещение всегда было первым из движений, и, если одно из перемещений первое, а другое последующее, чтобы существовало первое перемещение»[58].
Известный историк античной философии П.П. Гайденко указывает, что Аристотель устанавливает «некоторую иерархию между ними, объявляя первым движением перемещение». Тонко чувствуя внутреннюю логику Аристотеля, она приводит пример употребления пищи как иллюстрацию к этому тезису: «Таким образом, качественные и количественные изменения уже предполагают перемещение как свое обязательное условие; так, например, пища должна быть перемещена к существу, которое питается ею и таким образом изменяется и количественно и качественно. Перемещение, следовательно, выступает как такое движение, которое опосредует все остальные виды движения»[59].
Ставя своей задачей исследование системы Аристотеля в контексте истории медицины, обратим внимание на определенную трудность выделения первичности того или иного вида движения при анализе процессов обмена веществ. На первый взгляд может показаться, что качественные изменения имеют большее значение для описания физиологических процессов, однако, по нашему мнению, следует согласиться с трактовкой П.П. Гайденко. Действительно, изменения качества – от измельчения пищи в полости рта, ее переработки в желудке и печени до взаимопревращения первоэлементов в процессе тканевого обмена невозможны без перемещения соответствующих субстанций внутри организма.
Наблюдая очевидную (и крайне полезную) преемственность взглядов Платона и Аристотеля в отношении медицинской теории, попытаемся оценить уровень их практических знаний об устройстве и функционировании человеческого тела. В диалоге «Тимей» (70a-d) Платон говорит об устройстве сердца, характеризуя его как «узел» (или клубок) вен и «родник» (или источник) крови. Его описание носит довольно поверхностный характер, не приводятся четкие данные ни по анатомии (например, описание отделов сердца), ни по физиологии (Платон даже не указывает, что сердце является первопричиной движения крови по сосудам). Однако он обращает внимание на связь между сердцем и легкими посредством сосудов и помещает в сердце источник внутреннего тепла, который должен охлаждаться дыханием. Нетрудно заметить взаимосвязь этих двух аспектов. Описание сердца как центра сосудистой системы мы встречаем и в текстах «Корпуса Гиппократа». Существует трактат «О сердце», содержащий описание сердечной анатомии и физиологии и трактат «О питании», где сердце оценивается как центр сосудистой системы, проводятся определенные различия между венами и артериями и излагается основа учения о пульсе как важном факторе диагностики. Позднейшие критические исследования относят эти два текста «Корпуса» к более позднему времени, чем работы Аристотеля. В историографии 90-х гг. XX в. трактат «О сердце» стали датировать II в. или даже I в. до Р. Х. Основанием к этому служат «впечатляющие» (выражение Дж. Лонгригга) знания о сердечной анатомии, которые, как считается, могли быть получены только после анатомических исследований Александрийской школы в III в. до Р.Х. Возражение, на наш взгляд, достаточно спорное: оно, по сути, основано на априорном «знании» современных историков о том, что и когда могло происходить. По нашему мнению, в трактате «О сердце» нет ничего такого, что не соответствовало бы возможностям врачей гиппократовского времени. Предметом дискуссии может быть только вполне праксагоровское разделение сосудов на вены и артерии. При этом заметим, что приоритет Праксагора (а не, например, его неизвестного нам старшего современника) тоже выявляется по косвенным, позднейшим упоминаниям. Однако здесь мы не будем настаивать на своем мнении и обратимся к трактату «О плоти» («De carnibus»)[60]. Это произведение содержит важную информацию по интересующему нас вопросу, однако на русский язык оно не переводилось и, соответственно, с ним невозможно ознакомиться по изданию «Корпуса Гиппократа» под редакцией В.П. Карпова (перевод В.И. Руднева). Относительно этого текста в зарубежной историографии существует консенсус: он определенно считается по времени предшествующим Ликею. В главе 5 этого трактата содержится следующее описание сердечной анатомии и физиологии: «В сердце находится много вязкого и холодного. Под влиянием тепла его плоть становится жесткой и вязкой, и вокруг него образуется оболочка, которая бывает полой, но иным образом, чем вены, и находится она в начале наиболее полой вены. Ведь имеются две полых вены, исходящих от сердца. Одна называется артерией, а другая, к которой присоединяется сердце, – полой веной. И сердце имеет наибольшее количество тепла в том месте, где расположена эта полая вена, и именно она распределяет по телу пневму. К этим двум венам присоединены другие, проходящие сквозь все тело. Наиболее полая вена, к которой присоединено сердце, проходит через весь живот и диафрагму и разделяется по направлению к каждой почке. В чреслах эта вена расходится в разные стороны, достигая других частей [тела], а также спускается в обе ноги. Таким же образом по направлению к шее, находящейся над сердцем, некоторые [сосуды] идут справа, а другие слева. После чего эти сосуды достигают головы и в области висков разделяются. Можно перечислить другие, наиболее крупные вены, но именно от полой вены и от артерии расходятся по всему телу другие вены. Самые полые вены – те, которые идут к сердцу и шее, а также находятся в голове и расположены ниже сердца, вплоть до бедренных суставов»[61].
Обратим внимание на четкое различие, проводимое автором, между двумя полыми сосудами, которые в современной анатомии называются vena cava superior и aorta. Гален неоднократно обращал внимание на характерное для времен Гиппократа неумение врачей проводить различие между венами и артериями, относя это на счет недостаточного опыта вскрытий. Действительно, в современной историографии принято считать, что первым, кто описал это различие, был Праксагор. Сердце в трактате «О плоти» уверенно описывается автором как центр сердечно-сосудистой системы. Оценка сердца как органа, несущего пневму и распределяющего ее, по мнению Галена, характерна для врачей, стоящих на натурфилософской позиции школы перипатетиков. Этот момент ранее не обсуждался в историографии. Мы обращаем на него внимание впервые, высказывая это соображение на основе одного из фрагментов первой книги «О доктринах Гиппократа и Платона»[62]. Нельзя исключать, что мнение Аристотеля и Диокла в этой части не оригинально и лишь продолжает какую-то из теорий врачей и философов-досократиков, которые неизвестны нам в силу отсутствия источников. Здесь возникает новое противоречие. С одной стороны, это описание сердца вполне соответствует взглядам последователей Аристотеля (на что недвусмысленно указывает Гален), с другой – сердечная анатомия в трактатах Аристотеля, существенно контрастирует с данными трактата «О плоти». В сочинении «История животных» Аристотель резко критикует ошибки своих предшественников во взглядах на устройство сердца, указывая на необходимость основывать свои суждения исключительно на опытах анатомических вскрытий. Он приводит следующее описание сердечной анатомии и функций: «Сердце имеет три желудочка; оно расположено выше легкого соответственно месту разделения трахеи. Имеет оболочку, содержащую жир, толстую, посредством которой прирастает к большой вене и аорте; оно лежит на аорте острой частью; расположена же эта острая часть в груди одинаковым образом у всех животных, которые имеют грудь. Но у всех животных, как имеющих, так и не имеющих эту часть, острый конец сердца обращен вперед; это часто можно не заметить, так как у вскрытых животных он изменяет положение; выпуклая же часть сердца обращена кверху. Острая часть сердца обыкновенно мясистая и плотная, и в ее полостях находятся жилы.
Расположено сердце у прочих животных по середине груди, у человека более в левой части, слегка отклоняясь от места разделения грудей к левому соску и верхней части груди. Оно не велико, и весь его вид не продолговатый, но более округлый, только верхушка его сходится в острие.
Как было сказано, сердце имеет три желудочка, самый большой в правой стороне, самый малый в левой, средний по величине – посередине. Два желудочка у него небольшой величины, и оба имеют сообщение с легким; это ясно заметно в одном из желудочков книзу от места прирастания. Самым большим желудочком сердце подвешено к большой вене, с которой соединена и брыжейка; средним – к аорте.
Идут также от сердца протоки в легкое и разделяются таким же образом, как и артерия, сопровождая во всем легком ее разветвления; протоки, идущие от сердца, лежат сверху, и ни один проток не сообщается [с разветвлениями артерии], но пневму они получают через соприкосновение и переправляют ее в сердце: один проток идет в правый желудочек, другой в левый. О большой вене и аорте самих по себе мы скажем вместе впоследствии»[63].
В трактатах «О частях животных» и «История животных» Аристотель комментирует разницу между устройством сердца животных и человека следующим образом: самой большой полостью сердца у человека является правый желудочек, топографически располагающийся выше других полостей, тогда как само сердце залегает в грудной полости по диагонали с вершиной, наклоненной влево. Объяснить эти ремарки чем-либо иным, кроме практического опыта наблюдения человеческого сердца, невозможно. Однако здесь мы вновь ограничены априорным предположением о невозможности вскрытия человеческих тел в Афинах времен Аристотеля в силу религиозных запретов. Единственным правдоподобным объяснением из числа существующих в историографии мы считаем идею В. Огла[64], предположившего, что Аристотель черпал свои знания из наблюдения за анатомией человеческого эмбриона, полученного при аборте на поздних стадиях беременности. Это утверждение В. Огл обосновывает прямым указанием Аристотеля на возможность наблюдения сердца у человеческих эмбрионов после аборта, содержащимся в трактате «О частях животных».
Крайне важной для истории медицины следует считать фигуру Диокла из Кариста[65]. Он считается представителем Ликея, внесшим важный вклад в развитие медицинских знаний, прежде всего в отношении широты использования анатомических вскрытий. На всем протяжении ХХ в. фигуре Диокла уделялось значительное внимание исследователей, между тем, автор этих строк неоднократно имел возможность убедиться, что она плохо известна российским историкам медицины. Историческая оценка работ Диокла, прежде всего в сопоставлении его с Аристотелем, несколько раз существенно менялась. По мнению известного немецкого философа и историка философии Г. Дильса, Диокл считал сердце вместилищем интеллекта, схожую позицию высказывал М. Уэллман[66]. Диокл считал, что у вместилища интеллекта есть две стороны: правая половина отвечает за ощущения, левая – за интеллект. Диокл описывал сердце как имеющее два предсердия и желудочки. Из сердца в определенных его частях отходят сосуды для крови и пневмы. Дж. Лонгригг интерпретирует упоминание «желудочков» во множественном числе (т. е. более одного, в отличие от представлений Аристотеля) и двух предсердий как указание на четырехкамерное устройство сердца. Таким образом, М. Уэллман и Дж. Лонгригг ставят вопрос о причинах неверной интерпретации Аристотелем результатов анатомических вскрытий и наблюдений за сердцем, предполагая, что Стагирит исходил «из скорее метафизических, чем анатомических» представлений. Существуют и расхождения между Аристотелем и Диоклом в отношении принципов питания эмбрионов в утробе матери. Речь идет о критике Аристотелем представления Диокла о «котиледонах» – похожих на соски молочных желез образованиях, якобы существующих внутри материнской утробы, через которые питается эмбрион, привыкая к навыку сосания материнской груди. К. Йегер[67] считает, что Аристотель таким образом поправлял Диокла, датируя его работы как более ранние. В эту полемику позднее включились такие известные специалисты, как Л. Эдельштейн[68], Г. Фон Штаден[69] и Ф. Солмсен[70]. Суть ее касалась вопросов «кто кого исправлял?» и/или «кто у кого учился?». Эта дискуссия была достаточно продолжительной, для нашего изложения она не принципиальна. Важно ее резюме: на данный момент Диокла принято считать видным представителем Ликея, современником Аристотеля, занимавшимся исключительно медицинскими исследованиями. В отношении конкретных взглядов на анатомию и физиологию у него были расхождения с Аристотелем, имевшим гораздо более широкие естественнонаучные интересы.
Физиологическая концепция Диокла основана на идее о четырех противоположностях, развивающей преставления Филистиона и Эмпедокла о четырех первоэлементах. Процесс пищеварения, по его мнению, является формой разрушения, вызванного воздействием внутреннего тепла на пищу, вследствие этого процесса образуется кровь. Наличие чрезмерного количества внутреннего тепла производит желчь, при дефиците внутреннего тепла возникает флегма. Таким образом Диокл сочетает гуморальную теорию Гиппократа о четырех жидкостях с концепцией «внутреннего тепла». Вслед за Гиппократом он предполагает, что преобладание определенных телесных жидкостей связано с временами года, на этом основаны его диетические предписания. Диокл разделяет мнение Филистиона и Платона о причинах болезней как нарушении равновесия первоэлементов и соглашается с существованием типа болезней, вызванных затруднениями кожного дыхания, т. е. прохождением пневмы через поры в коже. Такие затруднения, по мнению Диокла, происходили из-за отрицательного влияния желчи и слизи на венозный кровоток. Преобладание желчи вызывало кипение крови и ее свертывание, а преобладание слизи – переохлаждение и запустевание. В обоих случаях нарушалось питание тканей, затруднялось распространение пневмы по всему телу, что приводило к развитию лихорадки. Акцент, который делал Диокл на теории пневмы, создавал методологическую возможность разрешения вопроса о механизме передачи функции восприятия и контроля за произвольными движениями от центра интеллекта непосредственно к частям тела. Тем самым появлялся шанс на решение одного из основополагающих вопросов медицины – о строении и функциях нервной системы. Отнесение функции интеллекта не просто в сердце, а именно в кровь в районе сердца придавало крови признаки философской сакральности, что весьма органично вписывалось в представления Эмпедокла, но совершенно не соответствовало рациональности познания физиологических процессов, характерных для системы Платона и Аристотеля. В конечном счете кровь видится Аристотелю тем, чем в сущности и является, – одной из систем организма, отвечающей за питание.
Аристотель настаивает на наличии в полостях сердца пневмы, не указывая четко пути ее проникновения и локализацию. Диокл располагает пневму в левом желудочке сердца, полагая, что оттуда она распространяется по всему организму по сосудам, при необходимости выделяясь из крови под действием внутреннего тепла. Позднее Праксагор, уточняя анатомическую разницу между артериями и венами, выдвинет и тезис об их различной функции: кровь движется по венам, а пневма – по артериям. В литературе есть мнение, что Диокл придерживался этого взгляда еще до Праксагора.
Вообще считается, что Праксагор во многом следовал за Диоклом: оба рассматривали приступы эпилепсии и апоплексии следствием блокировки прохождения психической пневмы от сердца через аорту из-за скопления флегмы. Оба они считали сердце вместилищем интеллекта, а процесс пищеварения – происходящим под действием внутреннего тепла. В. Йегер, оценивая историческую роль Диокла, утверждает, что «около двадцати лет после смерти Аристотеля школа Гиппократа на Косе находилась под доминантным влиянием медицинского отделения школы Аристотеля»[71]. Известно, что Герофил был учеником Праксагора, есть мнение, что он и Эрасистрат находились под влиянием философии перипатетиков. С последним утверждением мы не согласны и считаем Эрасистрата сторонником атомизма. Однако с учетом известной преемственности между исследованиями Диокла и Праксагора, с одной стороны, и работами Александрийской школы – с другой, невозможно переоценить историческую роль медицинских исследований в Ликее.