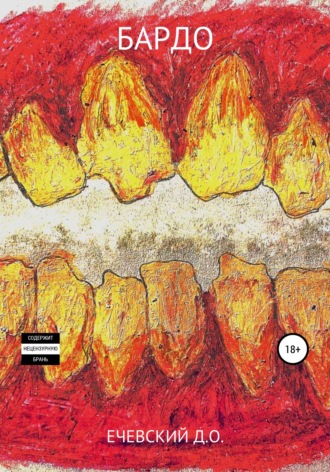
Данил Олегович Ечевский
Бардо
Роман жмет на нее. В комнате смещаются плиты. Смещается, как долговязый шкаф. Не понимая ничего, как медуза. Поспешно, как моча. Лёха. Его голая спина сдвигается на два шага назад. Высвобождает картину у стены, намалеванную двумя руками с окровавленными кулаками. В углу девушка, скрюченная в красно-бледного червя. Ее ручки ладонят рану лица листьями ладоней. Прячут ужас. Скрываются, защищаются, стонут. Червь меж ног мотыляется из стороны в сторону при свете лампового солнца. На время тухнет свеча сознания. Он напуган, он не ожидал, не ждал Романа.
– Ты че, хер, перепутал че-то? Те че надо тут?!
Романовы глаза обыскивают комнату и ублюдка, прекращают обыск на девушке в углу. Романово тело строго тянет в ее сторону руку.
– Одевайся.
Глаза возвращаются в исходную позицию:
– Она пойдет со мно.
Романово тело на полу. Мышцы сожжены в дрожащий пепел и, кажется, уже бессильны. По ним бежит зарядом гнево-шок. В остановившемся времени ведется война. Дыхание-его-Романово-дыхание. Кожа елозится о пол в ожог. Трепыхания, плевки, слюни сбегают с губ и падают в глаза. Не понять, кто кого душит. Горло-рука-горло-рука. Не понять, что происходит. На миг они оба поднимаются с пола. Удары. Колено. Локоть. Сложно. Вновь падают на пол. Трясутся в небе мебель и полки. Девушка ползет в стену. В какой-то момент. Роман. На нем. Душит его. Спустя долгое ничего, руки парня целуют паркет. Сил в них нет. Теперь-то уж точно. Роман отпускает на волю его шею и принимается за лицо. Хлысь. Хлысь. ДА-А-А-А-А. В кровь. Хорошо. Вот так бы сразу. НАКОНЕЦ-ТО. А то было лицо как лицо. А теперь у урода уродливо-кровоточащее ничто. Его нос, брови, губы больше не видят друг друга. Слились в одну кровавую свалку на помойке лица. Ломоть отборной уродины. Роман счастлив. Вот он и нашел наконец себя. ДА ЭТО ЖЕ ПРЕКРАСНО. Но где-то из-за кулис кто-то кричит:
– Хватит! Пожалуйста!
Роман останавливается.
– Ну чего ты сидишь? Вставай одевайся!
Быстрым броском Романовых ног он достигает кровати, хватает одежду девчонки и швыряет ей. Подбегая, он помогает девушке встать, одевает.
– Э. Э-э-э-эй!
Лёха поднялся. Что? Не только поднялся, мудак лезет в карман своей куртки. Роман оборачивается. Да у него нет лица. Как же он видит без глаз? Куртка выдала суке на руки нож. Но у Романа тоже есть куртка, как все мы помним. И каким бы абсурдом все это ни было, кто-то выдавливает из себя испражнение:
– Лёх, а че ты тут делаешь?
Лёхина свита, давно позабытая, которой была забита квартира, вся на пороге комнаты. Нарики, нарколыги, наркоманы, торчки, обдолбыши и все остальные. Миг. Еще миг. И еще. Роман стреляет в яйца Лёхе. Все в шоке. И че?
Стишок кишок
«Этот момент имеет первостепенную важность: если ты сейчас отвлечешься, потребуется бесконечная вечность, прежде чем тебе удастся выбраться из Трясины Несчастья.
Изречение, истина которого применима здесь, звучит так:
«В одно мгновение проводится грань;
В одно мгновение достигается Совершенное Просветление».
Мгновение назад это Бардо представало перед тобой, но ты отвлекался и поэтому не узнал его. По этой причине ты испытывал весь этот страх и ужас. Если ты отвлечешься и сейчас, то разорвутся струны божественного сострадания Сострадающих Глаз, и ты отправишься туда, откуда нет немедленного освобождения.»
Бардо Тхёдол. Тибетская Книга Мертвых.
На улице ночь. Здесь свежо и тревожно. Совсем никого. Лишь они. Нет прохожих. Столбы одиноко кривятся вдоль этой дороги, на них повисают лучистыми трупами света – Висят и ждут ветра. – Фонарные ноги. И все фонари впали в дрожь, что совсем ни на что не похожа, только и лишь на тревогу.
Фонарные ноги заходятся в судороге. Дрожат, как при обмороке. Вместе с дыханьем прерывистым, грубым, уставшим. Они трясутся вместе с руками Романа, одна из которых все рвется куда-то. Это Лена. Быстрым шагом, закупорив боль. Она схватила за руку Романа и тащит все вдоль, все куда-то, затем… Поворот. Они сворачивают во дворы, подальше от света и проезжей части.
– Быстрее!
– Что?
– Иди быстрее! Ты можешь?
– А что такое?
Все его тело вздрагивает и подергивается. Надо остановиться. Подумать. Надо подумать. Роман неохотно волочится, как ребенок, которого ведет в школу его металлическая бабка-тиран. Мысли в пол вместе с глазами, потеряны и разрозненны. Да что это за ночь такая?
– Они могли вызвать полицию. Хотя… Но тебя уже ищут его дружки, я уверена. Тебе нужно отсидеться где-нибудь.
Отсидеться. Да. Она права. Нужно посидеть и подумать. Надулся дури, теперь подумай на улице. Где тут лавочка? Лица не было. Тоска какая-то.
– Я ведь его не убил?
– Я не знаю. Думаю, нет. Но он так просто это не оставит.
– Куда ты меня ведешь?
– К подруге. Квартира свободна. Я живу там пока. Никто о ней не знает. Так что нормально.
Заблуженный взгляд Романа шаркает, трется о кирпичные стены домов. Сырые, дряблые, рыхлые. Кирпичи выпирают. Вдоль них, вдоль двора. Поворот за угол. Через детскую площадку. По газону. Потная ладонь. Его рука. Спутано все. Лавочки. На них никого. Но только не это. Полицию? Ищут? Вот он и дом. На пороге в подъезд Роман замирает. Руку одернул. Стоит нерешительно.
– Постой. – Его мысли все мнутся. – Зачем? Просто оставь меня здесь. Все хорошо.
– Ты больной?
Ее взгляд не согласен. Как это он останется? Лена хватает Романа. Дверца трезвонит. Они входят в подъезд.
– Только т-с-с-с!
Вверх по пролетам. Лестницы. Ступенятся ноги. Уставший. Но ему все равно. Все опустело. Коричневые мягкие ромбы. Все снова. Роман вжимается в ромбы двери. Они плюшевы. Смотрит. Ее руки тоже трясутся, а с ними ключи. Но нужный находится, режет замок. Поворот. Поворот. Скрежет замка вонзается в ухо. Отрыто.
– Пойдем. Заходи.
Совсем другой запах. Нет сырости, влаги подъездной. Нет свежести трезвой, что на улице. Нет. Это теплая табачная затхлость. Сейчас бы на кухню. Посидеть за столом, выпить чай. Закурить сигарету и… Так спокойно. Спокойная ночь.
– Ну что ты стоишь? Разувайся.
Лена вталкивает Романа в комнату. Свет. Лампочка загорается. Усаживает в старое кресло. Томно вздыхает. Поправляет взъерошенные волосы. Она уже совсем забыла, что… Глубокое, резкое дыхание Романа клубится, затмевая всю тишину. Романовы пальцы так сильно дрожат, ее тоже. Лена встревоженно садится возле колен.
– Тебе плохо?
– Не знаю… Нет.
Его взгляд в стену уперся, затем кружится по комнате, как мотылек.
– Ты весь бледный. Успокойся.
Она кладет свою руку поверх его ладони.
– Надо успокоиться. Надо подумать.
Бормочет Роман.
– Да успокойся же, ну! Все хорошо. Нас не найдут.
– Я спокоен.
Просто Вера-Вер-Вера, а что, если с ней?
– Нет, тебе надо что-то… что-то… так… так… сейчас.
Лена шарится в разинутой пасти рюкзака, кинутого возле кровати. Из него доносится шелест алюминия, свернутой бумаги, лязг.
– На вот, выпей.
Лена тянет таблетку.
– И эту тоже.
И еще таблетку. И еще одну. И еще. Еще.
– Что это?
– Не важно. Тебе станет хорошо. Не могу смотреть, как ты изводишься.
Таблетки у него в ладони. Роман неподвижно-тревожен.
– А, да, точно! Вот, на, запей.
Бутылка с водой во второй. Роман повинуется. Глаза Лены ожидающе-нежно-надежно вглядываются. Взгляд Романа ловит ее лицо. Зарёванна, красная, опухло все, туш потекла и смешалась с…
– У тебя кровь.
– Где?
– Везде. Все лицо.
Засохла. Она вспоминает. Щупает пальцами незнакомые прежде, такие “неожиданно ее” припухнутые неровности лица. Водит подушечками пальцев по коже. Засохшая кровь.
– Зачем ты пошла к нему? Зачем сделала это?
– Не знаю.
Вранье. Роман знает. Она знает, что он знает это. В этом вся игра.
– Ты сумасшедшая.
Неожиданно на ее порванных, припугнутых губах возникает нежная, наивная, отчаянная улыбка. Улыбочка-ребенок, который понимает, какую глупость совершил, но знает, что совершил бы ошибку еще, совершал б вновь и вновь, вновь и вновь, все в надежде на какой-нибудь другой исход, так как иного выхода для него нет. Эйнштейн сказал бы, что… Эйнштейн сказал бы, а она, глядя в глаза, смеется так, что у Романа накрапывают слезы.
– Сейчас я… Ты тут посиди. Я сейчас. Ненадолго.
И правда недолго. В руке почти бычок. Бычок? Вот что такое бычок? А, это молодой бык.
Затяг. Еще один. Еще один затяг. Скурил.
– А есть еще?
– Ну есть, но..
– Дай, пожалуйста, еще.
– Ну ок, хорошо.
Лена роется, рыщет. Глаза – обугленный метал, раскалены, кровоточат. Как красный, выпитый бокал, они хотят еще напиться, чтобы было чем пролиться на кровать.
– Вот, смотри, но только это не трава.
– Да по хер. Дай сюда. И зажигалку.
Огонь палит бумагу, дым ворчит, летит куда-то. Стены. В потолок летит и бьется о него, о стены гроба. Затяг. Еще одна затяжка. Легким тяжело, на сердце мягко. Будет мягче. Вот еще одна затяжка. Режет горло странный дым. В нем слишком вязко, все увязло. Утопают безнадежно все «пришло», «ушло» и «можно». Светом тает уголек, пожирая кислород. Вот затяжка, и еще одна. А в голове тревога и туман.
– Может, все-таки не будешь? Дай-ка мне!
– Нет-нет, я буду. Само то!
Углем полнится дурман. Всюду здесь притон, обман. Я покурю еще немного, станет все не так уж плохо. Темные тона, приливы и отливы дна. И лампочка засела, угнездилась наверху, заполняя дымом света комнатную тьму. Она стоит и смотрит, выжидая. Чего ждать? Она не знает. Вот затяжка. И еще одна. И тухнет пламя, догорая, как надгробная свеча. Было мало, стало слишком много. На душе мне было тяжело, а стало вмиг легко и больно. Жестом пламенным бычок в оконце. Блять. Промазал. Сознание размякло и осталось лишь на донце. Плохо.
– Дай воды. Во рту все пересохло.
Почему-то все в груди застряло и скребет истомно. Мягко, плавно, сильно, больно. Падаю. Где руки, что простерты снова? Нет руки?
– Ну на вот, пей воды.
– Спасибо.
Мне так все на этом свете мило. Вот же гнида! Ну зачем? Да, в общем, я… Короче. Надо спать. Лечь, укутаться, на правый бок. А со всем, что есть и будет, разберется Бог. Хотя, какой такой, блин, нахер? Сейчас не разобрать: где левый, а где правый. Нет. У стенки лучше. К ней прижмусь. Прижмусь, а там, быть может, и покинет грусть. Она. Она. Она. Да где же, ну? Я запутался лишь больше с тех самых пор, как я ищу.
– Ты там чего? Скажи мне, все нормально?
– Я не знаю. Как-то грустно и печально.
– Оно понятно.
– Я, наверно, спать.
– Ну ладно.
Есть лишь маленькая горсть причин вставать и целый мир причин устать. Да где же одеяло? Может быть, оно, как я, устало? Ноги подевались в пустоту. И дышат кровью безнадежные «да ну!» Она пропала, испарилась. Что с ней? Где она? Да вот же, снизу! Где? Не вижу? Испарилась, как слюна.
– А где вода?
– Ну вот бутылка на кровати.
– На кровати? На какой из них? И, кстати… Слушай… Дай, пожалуйста. Я не могу понять, где верх, где низ.
Она сует бутылку в руку. Как открыть, когда так плохо и так пусто? Крышка прям не хочет открываться. Ну поддайся, поддержи же братца! Ага, открылась. Льется водопадами. Не подавиться! Каждый мой глоток, как море в горле. Каждый мой глоток есть шанс покинуть это место, сдохнуть. Как пить, когда забыл, как жить? И что же там? Затем? Когда… Там ничего и пустота. Нет Я, кровати, Веры, Бога. Помню, в самом детстве я сидел один в ужасном кресле. Там, в уютном месте. И не помню почему, я провалился в пустоту. Впервые эта мысль… Одиноко… Что же будет после морга? Было ли все это, что здесь было? Или просто вечность пошутила? В этом самом кресле. Я один, я понял, я почувствовал, как все уходит, оставляя лишь порог в прихожей. Куда она, когда она мне так нужна? а-Мама-ма-Мама-маМа. Наверно, в магазин. Вернется скоро. А может, никогда уж не вернется. Мама… Ты прости меня. Никогда-никогда-никогда. Она ведь тоже пропадет? Уже пропала. Оставив лишь могилу, горы хлама: фотографии, альбомы, платья, серьги и воспоминанья в доме. Дом ушел. А ведь я знал еще тогда, вернись она, все ж не вернется никогда. а-Мама-ма-Мама-маМа. От воды пьянит сильнее, чем от крепкого вина. Да, постой-ка, но ведь это не твоя вина. а-Мама-ма-Мама-маМа. Никогда-никогда-никогда. И все, что бывало, бывает и будет носит и носит, уносится тоже. Ты посмотри, как мне больно. Уносится вдаль, как слюна. а-Мама-ма-Мама-маМа.
А я помню, как ты мне сказала впервые. Сказала впервые. Сказала, что любишь меня. И обнять тебя – это единственное, то единственное, то едино-единственное, то, о чем я мечтал и мечтаю. Спасибо тебе. Твои волосы. Впершись в них, впершись лишь, можно дышать. Ты прости мне, прости, мне так жаль, мне так жаль, мне так жаль. И я в них, я дышу. И такое прегрустное счастье. И счастье все душит так грустно. Ведь я. Это я. Я во всем виноват. Ну прости мне, наверно, покажется странным, но… Можно мне, можно тебя обниму? Если я не… Глаза. Я просто хочу, очень сильно хочу кого-нибудь, ну, обнять. Для меня это… Я. Прошу, ну впусти меня! Знаю. Я люблю тебя. Говори со мной. Запах твой. Сводишь с ума. Так останься. Давай просто ляжем. И спать. В этом мире нигде не остаться. Лишь под одеялом. С тобой. Негде остаться. Обними меня. Не в ком остаться. Давай мы останемся здесь. Навечно мы есть. Никого нет навечно. Лишь тени домов. И лишь моя тень на стене. Ведь я призрак, который с тобой. Так люблю, если близко, ты близко, ты близко, ты так далеко, когда близко. А губы и волосы отдай мне, отдай. Я люблю твои ноги, ресницы. А руки – тонкие струйки, что тянутся вверх и так тихо волнуются над головами. Никто. Я никто без тебя. Я люблю, когда ты улыбаешься, я улыбаюсь. Иначе умру. А я можно тебя поцелую? А смерть лишь приходит, скажи, почему же тогда, почему ты ушла? Ну а если бы мир создавался твоими руками, скажи мне, ты бы осталась?
– Мне плохо.
– Что такое?
– Я не знаю. Ноги сковывает. Легким больно. Я не чувствую, как дышат. И тело падает куда-то, ниже.
– Успокойся.
– Не могу.
– На вот плед, укройся.
– Почему?
– Что?
– Почему я один?
Роман начинает плакать.
– Почему я один? Почему никого нет? Я так устал от всего.
Его тело содрогается. Кривятся губы. По лицу морщины скулятся.
– Ты не один.
– Я совсем один. Она ушла. Здесь нет никого. Я несу какую-то чушь тупую. Никакой я не писатель, я просто больной и несчастный человек и не понимаю. Не могу. Я не могу. Я просто не могу больше. Где она?
– Кто?
– Не важно. Какая разница? Ее просто нет, и все, и я не знаю, где она.
– Ну тише-тише. Успокойся.
– Ты не знаешь, каково это.
Губы Романа дрожат. Морщинится Романова кожа, кривится. По ней слезки кап-кап из красно-замученных Романовых глаз. Лена подается к нему. Силуэт неспокоен. Романовы руки трясутся Романа бледными пальцами. Она их хватает, сжимает потуже запястья Романа. Романовы кисти дрыг-дрыг, ее пальцы скользят к ним повыше. Прилив. Истерика тучится в нем, набухает бессознательной искрой. Он не дается. Ее ладони сжимают Романовы кисти и кости. Теплей. Обволак. И крепче-нежней. Обволак-обволак-обволакивают. Теплее, нежнее. Его кисти в ее. Его кисти в ее. Ее кисти в его. Ладонями словно лелеющий ландыш. В ласковой хватке Лены ладоней согрета и поймана легкая ласточка. Но ласточка стонет, и плачет, и бьется о мокрые стенки ладоней. Роман неспокоен.
Дергаясь резко то вверх-вверх, то вниз-вниз, его голова повисает. Пытаясь поймать, ладони бросают дрожащие кисти. Лены ладони хватают Романа горящие, влажные щеки. Его голова тяжела и разнуздана, валится. Лены ручонка скорей подпира-подпира-подпирает Романов затылок. И крепче, и крепче, и крепче, нежнее. Но голова его все тяжела и разнуздана, плачет и валится. Ручонка слегка побивает по щечкам. Ну что ты? Ну что ты? Ну что ты? И глядят, бездыханно сверкая, Лены глаза в заблудшие, красные, потеря-потеря-потерянные Романа глаза. Ее губки припухли, его – напряглись. И шепчут, и шепчут, и шепчут потерянным шепотом: Вера…Вер…Вера…Вер…Вера…Вернись.
ее губки припухли.
ее боль далеко.
его слезки струятся.
и настежь окно.
сосочки припухли.
совсем далеко.
он плачет и плачет, а ей
хорошо.
Он шепчет и плачет, зажат меж ладонями. Ее руки кладут его. Ее руки крадут его. Простынь промокла.
Подушка, подушке. Помягче, поуже. Головку – подушке. Он будто простужен. И теснятся в глазницах лица потолка потеря-потеря-потерянные глаза Романа.
ее боль далеко, а колено его,
а колено его
прямо меж ее ног,
колено так близко, нескромно проникло,
ютилось и грелось, дрожа, прямо меж ее ног,
то нежно, то резко и грубо колено подерг-и-подерг-и-подергивалось,
щекоча и давя, обдавая и гладя, подерг-и-подерг-и-подергивалось
прямо меж ее ног.
Его слезки, кап-кап, перестали кап-кап. Он лежит, успокоен. Разбит на подушке. Глядит в потолок, как в пропадину ног. Грудь все вздымается, тяжко дыша. И Лена на нем замирает, глядя на потеря-потеря-потерянные глаза Романа.
и вот, ее руки, потея, отважно скользят по нему,
и пониже, под майку, и щупают торс.
она прижимается крепко к груди.
каждый вздох,
каждых дёрг,
каждый он.
Она хочет его.
Она хочет его, очень хочет его, очень хочет его, пока боль далеко. Его запах и сердце, что гулко страдает, побивают и ее стенки сердца. Роман в ее венах.
по вене,
по вене,
по вене,
вся Лена обмотана венами,
и в каждой из вен течет он.
губки дышат и пухнут,
и пухнут сосками.
ее руки спускаются ниже.
ей не хватает,
ей не хватает,
ей не хватает его потеря-потеря-потерянных глаз
в ее глазах.
Лена спускается ниже. Поближе к нему, к теплоте. Ей тепло. Не сейчас. Нет, сейчас. Каждый вдох, каждый выдох. Слезки кап-кап. Кап-кап пот. Кап-кап твердо, решительно, нужно, сейчас у нее между ног. Скользко. Скользит, раздеваясь. Раздета. И к телу. Прижаться. Потуже. Поуже. Поближе. Прости мне.
Недвижим. Уснул? Или нет? Заметит? Мне можно? А в той голове скребется все то же:
Нет ничего красивей тебя. Зачем же? Зачем? Темнота. Ты ушла. Никогда-никогда-никогда. Я приеду. Я еду. Я скоро. Тебя. Темнота. И нет ничего у меня. Так люблю. Тебя. Я.
Содрогаясь от страсти, руки, все снять с него, снять с него все. Ширинка и пальцы. Надо снять все.
Останься. Прильни ко мне. Ближе. Скажи мне. Мне страшно. Одна ты? Одна? Обними меня. Я… Темнота.
И там что-то ниже, пониже, в паху, посреди темноты, внизу темноты, между губ. Там пониже так влажно и сколько, приятно и мягко. Да что это? Я… Темнота. Щекотно, но так что. Не знаю. Припало и тянет. Припала и тянет-потянет. Лишь миг и всего меня вывернет прям наизнанку. От счастья. Так мокро и гладко, так больно и гадко в любви! Вера…Вер…Вера…Вер…Вера…Вернись.
Но ты есть, даже нет если. Нет даже, есть ты. Ты есть, даже если тебя не нашел я. Среди темноты. Здесь вся жизнь, ее смысл, все-все уместилось в пре-крохотных: Я… Я люблю тебя… Я… Темнота. И оргазм.
Не его, не ее, не сейчас, но потом.
А в соседней квартире послышались стоны. В одной из тех комнат параллельной вселенной: «Как все там могло бы все ж быть, если б не…» Ну вы поняли. Если б Роман был другой.
Один хер подцепил одну девку, что сносна. Хотя, как сказать? Туповата и… В общем, он тоже не очень. Неопытен, сонный. Разлегся и смотрит. И смотрит. Он… Смотрит. Я… Смотрит. Я…
Я смотрю на лицо ее. Так тупо глазеет и улыбается. Мне же отвратно, как не старается. Опять берет его в рот. Не встает. Что за радость? Откуда? Волосы, что ли, потрогать? Отвлечься. Приятно. Широки. В этой позе. Глаза. Зачем сверлит меня? Закрываю. Прикольно. Так лучше. Вдалеке пустота. Только звезд нет. А так, прямо космос. Нет, ну только не яйца. Мне больно.
– Не надо. Не трогай их. Это не очень приятно.
И какой идиот придумал так развлекаться, чтоб яйца? Я что, леденец? Пылесос. Че за хрень? Ну-ну, а вот так уже лучше. Еще бы. А может, схватить ее? Нет. Только трогать. И нежно. А то неприлично. Обидится. Волосы мягкие. Трогать.
Люблю трогать грудь. А ведь все для детей. Я вхожу. Ну зачем так кричать? Ах! Ах! Да, помедленней. А! Это слишком приятно. Стонет прям в ухо. Глубокие вдохи. Не продержусь. Нет, ненадолго. Голову вверх. О чем-то подумать. Почему они стонут? Нет, чтобы… Море. Кругом океан. Там киты. Такой бледно-зеленый. Не отдых. Не время. Погода не та. Затянуто небо. Тянет к себе. Поцелуй. Я же только отвлекся! Хотя, уже лучше, держусь. Ох, как же приятно все это! И шея. И мочки ушей. И тяжелые стоны. Прервать их губами. Да где же язык? Мне нужен язык, а не нёбо! А если быстрее?
– Дай мне язык!
Что же приятней? И на хер так жить! Ведь если не это, то что? Природа, конечно, хитра. Мы же просто животные. И сколько проблем и тревог, на хрена? Нет, оно того стоит. Да и толку во всех этих россказнях?
Ноги загнуть. Да, вот так. И как же красива! Вроде секс, просто секс, но как это мило. Тонкие, гладкие. Чуть-чуть щетины. Ее пятки на вкус, как… На губках капли вроде росы. Сосок такой нежный. Как его, блин..? Пососать?
– Так не больно?
Не больно. Так влажно и гладко. Не чувствую член. Какие милые дырочки, а ведь она из них… Нет.
У нее тоже пузико, немалое с этого ракурса. И еще, небось, загоняется! Зря…
Курить, блять, бросать. К тридцати-то годам. Не, ну а вдруг импотентом! Ну и, что тогда?
Не могу. В этой позе. Чуть-чуть только. Нет, не могу. Ну все, фух! Это было прекрасно.
Только чтоб. Не порвался? Вот гадкий, пиздец. Прижаться поближе. Иди же.
А все же приятно вот так вот в обнимку. Как типа с игрушкой, но я. Ведь я знаю, что так не засну. Постараюсь. Как ни крути, а все мы животные. Как ни крути, ласки хочется тоже. Зачем этот разум? Он задолбал. Чего хочет, не знаю. Пусть думает сам. Дыханье. И тело. Так нежно, прекрасно. Люблю ее. Точно, походу, любовь.


