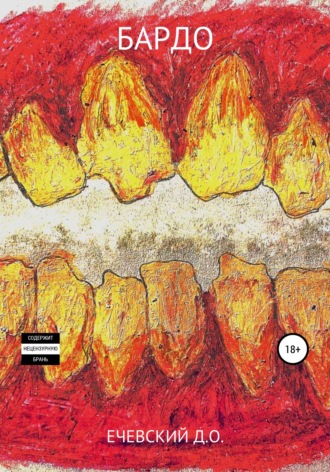
Данил Олегович Ечевский
Бардо
Книга не пропагандирует употребление наркотиков, психотропных веществ или каких бы то ни было других запрещенных веществ. Автор категорически осуждает производство, распространение, употребление, рекламу и пропаганду запрещенных веществ. Наркотики – это плохо!
Книга не пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. Автор категорически против Родителя Один, Родителя Два, Родителя Три и всех последующих. Автор убежден, что задний проход пригоден только для прохода сзади каловых масс, для колоноскопии и (в некоторых случаях) для массажа простаты.
Книга не пропагандирует суицид, так как она считает, что самоубийство только для слабаков, или для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, или только для кого-нибудь еще, кто не тот, кто это читает.
***
Путь в иной мир – есть не что иное, как сам путник.
Демчог В.В.
Чикхай Бардо
«О высокородный, ты находился в обмороке в течение последних трех с половиной дней. Как только ты очнешься от этого обморока, то подумаешь: «Что же случилось!»
Делай все, чтобы узнать Бардо. В это время вся сансара будет вращаться; и пред тобой предстанут видения различных сияний и божеств. Все небеса будут казаться синими».
Бардо Тхёдол. Тибетская Книга Мертвых.
Обними
Как только ни вредит себе человек, чтобы не умереть. Не живые, но все еще мертвые не решаются на полную смерть, а выбирают крохотную. Каждый день. И неслучайно дым сигареты так жаждет целовать легкие. Убить себя не своими руками. Руками другого. Как покончить с собой, не убивая себя? – Влюбиться. В такого же. Да! Да! Точно. Так, чтобы это была любовь! Худшее всегда всем удается лучше. Чем что? Трупов много. Их больше. Морги пусты, а улицы переполнены. Трупы ползут друг к дружке сквозь время. На ищущих до крови коленях. Встречаются потому, что никогда не должны были встретиться. Нельзя. Не в силах убить себя, но в силах убить другого. Совместный суицид. Так они любят. Умереть вместе. Друг от друга.
– Я уже еду. Скоро буду.
– Нет, не будешь.
– Что это значит?
Но ответа нет.
– Ответь, пожалуйста.
Но нет ответа.
– Возьми трубку. Хотя бы скажи мне, что происходит. Просто скажи. Ну за что ты так со мной?
Вера выключает телефон. Роман просит таксиста ехать быстрее. Забегает в подъезд. Стучит в дверь. Жмет на звонок. Отключен.
– Пожалуйста, впусти. Ну зачем ты так со мной?
Кричит в угрюмое лицо двери, умоляет. Ответа нет. Ничего. Подъездная полутьма. Мигающая лампочка повесилась на худом проводе. Тишина, прерываемая криками чужих жизней. Роман стоит у двери. Падает на нее. Ждет, что та поймает. Но у двери нет рук, как и у людей. Сползает вниз. Обнимает колени. Глотает горло. Челюсти пальцев кусают лицо. Ногти хотят крови. Подъезд ничего не чувствует. Он – только пасть с множеством голосов. Крики ссорятся, рассказывая об одной и той же жизни, одинаковой у всех, своей у каждого. Роман плачет.
Сверток человеческой бумаги. Как бы ветер не унес Романа. Неуклюже-оброненная капля человечины. Харчок на полу. Клочком мясного мусора Роман ненужно валяется у ног двери, жмется к ее подошве. Сознание Романа жмется к Вере. Но как одна, так и другая – холодны. Одна и другая – закрытые двери. Человеческая кожа тепла, как лед. В объятиях – замерзаешь.
В минуты вроде этих. Роман всего ближе к Вере, когда ее нет. И когда он противится ей. Чем больше противится, тем меньше сил сопротивляться, тем уязвимее сила. Чем больше прячется в одежды, тем обнаженнее тело. Роман борется с Верой. Но чем дальше он от нее разумом, тем ближе – сердцем.
Она всегда далеко. Особенно когда лежит у него на груди. Целует его кожу. На прощание. Спокойной ночи. Она лжет. Их тела в одной кровати. На расстоянии прикосновения. Такого нежного и теплого, но невозможного. Отворачиваясь, она толкает труп Романа в одиночество. Спокойная ночь – это то, чего он не знает. То, чего не желает ее сон.
Фантазия Романа ползет сквозь стену червем. Пытается узнать. Вновь и вновь. Любит ли она его? Роман видит ее. Несчастное безумие с широко-испуганными глазами. Не пускает Романа. Не дает помочь. Быть может, стынет сейчас у двери. Как у своей последней двери. Безумие, которое он любит.
Дома, как в гробу. На земле, как под землей. Заплаканная мумия. Игрушка страхов. Тщетная минута, вздохи тщетны. Призрак, скомканный в тревогу. Ноги тихо бродят. Губы подергиваются. Боится ротик. Шаги не уверены, есть ли они на самом деле. Болят тонкие колени. Они слишком долго бились о пол. В сомнении согнута спина. И мертвый свет. Вера. Жизнь цветет, как дым и сигаретный уголек. Нет силы, чтобы вырваться. Есть силы, чтобы тлеть. Пустая комната. В воздухе, как в океане, плавает лед. Безмолвно кресло, затертое мыслями до дыр. Возможно, Вера видит в скважину замка или в глазок. Нет ничего, но есть вопрос. Впусти.
Сейчас, когда Роман растекся по полу. Прижат. Всегда. Сердцем к сердцу, даже когда ее нет. Будет ли еще хоть что-то? Его любовь понимает все. Но это все, что она может. Дверь обита черным дерматином, на ней ромбы. Навзрыд молчат глаза. С дверью не поспорить. Дверь лучше всех на свете знает, как правильно, что верно. Она просто закрыта. Разбейся о нее. Люди говорят, что счастье существует и не врут. Но счастье всегда остается за дверью, сквозь которую нас не пропустят.
Роман схватил затылок. Тянет вниз. Но голова не падает. Почему все самые важные двери остаются закрытыми? Двери, как и слезы, никогда не кончаются. Может быть. Красными пустынями глаз Роман оглядывается по сторонам. Лучше бы этого никогда не случилось. Коробкообразная черная клетка подъезда давит на стенки черепа. Садится на голову жиром бедер. Прутья клетки невидимы, но несгибаемы. Высушенный солью взгляд замирает на блевотных пятнах, размазанных коричневой глазурью по полу. В углу валяется недопитая бутылка пива. Лучше бы этого никогда не случилось.
Холод. Прочь от. Роман ползет, как мотылек. К батарее. Тепло. Роман смотрит в стену. Смыкает глаза. Видит маму. Роману ее не хватает. Ему всегда ее не хватало.
В черноте. Занавес сомкнутых век. Там брызжут огни, цветут звезды. Лучи прожекторов в прокуренно-бетонном воздухе. Клуб. Роман допивает пятую банку пива. Лучше бы это никогда не случилось. Здесь они познакомились. Толпа лает и завывает. Машет руками. Кому они машут? Пьяная гидра с множеством шей и позвонков, без единой головы, машет Богу.
Роман задыхается радостью. Он в газовой камере счастья. Дышит так, будто пьет впервые. Денег на шестую банку нет. Роман старается дышать реже пивом. Прожекторы нарезают плотный воздух. Ломтями черного мяса. Языки лживого пламени убегают от глаз. Как живые жирные призраки, выпуклые. Магические бабенки-бабочки. В какой момент все это началось? Артист кричит в микрофон. Тысячи ртов глотают его голос. Помашите Богу. Вам жалко, что ли?
Каждый раз, когда Роман поднимает глаза, ему мерещится всякое. Широкие длинные бревна, плюющиеся огнем. Жерло костра ядовито-лимонного цвета. Множество ног, бегущих друг подле друга. Танец вокруг света. Таинственный воздух, облитый мокрыми напевами. Облизанный хлесткими звуками. Это песня, заглушаемая грозным и томным мычанием бесконечной ночи. Ночь мычит, как страшный Бог. Плотная трезвая тишина, не дающая продохнуть. П-с-с-с. Кто это? Это пан козлит песню. Копытит тепло-влажную почву вместе с человеком. Его мудрая, когтистая борода вплетается в толсто-древние корни дерев. Пан неустанно шепчется с ними. Их говор не устает никогда. О чем они разговаривают? Млечный путь стынет лавой. Вперемежку с объемисто-черными мазками. На картине небесного художника. О чем беседует пан с деревьями? Может, о том, что блюдце Луны – это колодец в другой мир?
На самом деле деньги есть. Просто Роман заранее решил приберечь. На потом. Но какой смысл в потом? Какой смысл в завтра, если сегодня нельзя выпить? Нога уже просится пойти за новой банкой пива, но тело не подчиняется зову. Каждый раз замирает на месте. Боится споткнуться, утонуть, захлебнуться, зацепиться за чужую ногу. Уставшие после рабочего дня Романовы части не клеятся. Поролоновые ноги надламываются. Норовят припасть к полу. Роман боится упасть, ноги – заблудиться в людях. Те хороводят вокруг него лесной пожар. А потому он откладывает, откладывает и откладывает поход за новой трезво-прохладно-волшебно-невероятной баночкой пива. Он уже сутки не спал. Ему хорошо. Ему безгранично. И каждый раз, когда Роман поднимает глаза, ему мерещится всякое.
Будто пространство вокруг бесконечно. И темно-бетонные стены не прячутся где-то там в глубине. Нет. Все эти люди. И Роман среди них. Все они визжат в туманном облаке радости. Посреди пустоты. Стенки облака не дают людям упасть. В то время как пропасть – повсюду: и сверху, и снизу, и сбоку. А этот пузырь или стеклянный шар, подобный тем, что дарят на Рождество, обклеен, облеплен со всех сторон невидимой коркой. Густой копотью. За почти незримыми стенками аквариума: безграничное ничего. Нечеловеческий, бесчеловечный космос.
Может, все-таки пойти и взять еще? Роман встает с нагретого наслаждения. Покидает зацеловавшую его медом сладкую атмосферу. Подергивающиеся волны людей расплескиваются. Роман подплывает еще ближе к сцене. К ее правому берегу, что возле колонки. Музыка толкает и топчет перепонки. Стоит слегка повернуться и он под наркозом гипноза. Тело вновь вязнет в пластмассе. Душно-прокуренный задушевнейший воздух. Подставляет ладони со всех сторон, обцеловывает. Нет. Достаточно. Хватит и этого. Рука потряхивает баночку. Да там еще половина! Или кажется? Потяжелела. Рука или баночка. Обмякла. Роман стоит возле сцены. Она далеко, как нос. Она близка, как созвездия. Поет надрывающаяся истерика голоса. Артист вползает внутрь Романа. Дырявит сердце. Вливает туда алкоголь. Сладкая грусть-аскорбинка тает на языке. Как он поет…
За каждым жестом, каждой эмоцией, за каждым рывком губ. Его грусть рвет себя на окровавленные куски мяса, но вместе с тем живые, такие цветущие мгновением, такие счастливые куски. Такое грустное счастье. Грустное-грустное… но бескрайне счастливое «сейчас». Этот миг. Это внутренний миг. Счастье – которое есть первое и последнее мгновение счастья на Земле. И кроме него – ничего. Только банка пива, которую Роман заносит над головой. Жмет к губам и выхлебывает до конца. Последний куплет песни. И она.
Она стоит перед Романом. Ее тело волнится, как флаг и как рыба. Ее душа пляшет и плачет. Сердце стиснуло зубы. Взгляд прилип. Не к артисту. Ее волосы.. светлые.. цвета несбыточных грез, растворенных в лиловых оттенках света прожекторов. Волосы взлетают, бушуются и порхают, ниспадая на лицо Романа. Ее руки – тонкие струйки – тянутся вверх и тихо волнуются над головами. Если бы и мир был слеплен этими женскими, ранимыми, чувственными руками, был бы он лучше? Не знаю.
Роман кружится в музыке. Роман поется в песне. Точно во сне. Он на вершине, но что-то не так. Чего-то не хватает. И без этого нечто, все – ничего. Обнять ее – единственное, о чем он мечтает. Нерешительность изводит и истощает. "Стыдно" не дает перевести дыхание. Но "Вдруг она откажет?" оказывается слабее голода по телу другого. Роман застывает. Миг. Он никогда не жил. Никогда прежде. Он один. Он застыл. Он хочет вдвоем. Он живет лишь сегодня. Дороги назад стерты. Он осторожно припадает к ее уху:
– Скажи, ты одна?
Все ушло. Рев колонок поблек. Есть только ее ответ:
– Да.
– Прости, это, наверно, покажется странным, но.. Можно я тебя обниму? Если я не.. Я просто очень хочу кого-нибудь обнять. Для меня это очень важно. Вопрос жизни и смерти.
Где-то по ту сторону всего, что было, что будет, что есть, Господь лижет этот невинный момент. Он шепчет миру: "Ну ты же видишь, как она нравится ему? Отдай. Пусть."
Ответом на ответ – ответ:
– Обними.
Голая пустота
«О высокородный, настал твой час искать Путь в реальности. Твое дыхание вот-вот остановится. Твой гуру уже подготовил тебя к встрече лицом к лицу с Ясным Светом, и теперь тебе предстоит испытать его в реальности в состоянии Бардо, где все вещи подобны пустому и безоблачному небу, а обнаженный, незамутненный разум подобен прозрачному вакууму, не имеющему ни границ, ни центра. В сей момент познай себя и пребывай в этом состоянии. Я тоже сейчас готовлю тебя к встрече с ним».
Бардо Тхёдол. Тибетская Книга Мертвых.
Руки не верят. Не веря, оплетают трогательной дугой талию Веры. Смыкаясь, целуются внизу живота. Романовы пальцы трясутся. Веры нет дома. Он уверен. Не уверен ни в чем. Где же она? Она обязательно, обязательно открыла бы ему, будь это иначе. Иначе. Будь все иначе. Всё, будь иначе. И все же, что если?
Иногда, чтобы помочь себе, нужно помочь другому. Преступление – лишать возможности помочь. Согласие на помощь – это тоже помощь. За что она так со мной?
Человек всегда проходит больше, чем может. Роман даже не представляет, сколько предстоит идти без сил. Пока только до соседней квартиры. Но это пока.
Пока. Прощая, прощай. До свидания. Тук-тук. Здравствуйте. Романов взгляд уперся в дверь соседки. По соседству с соседней дверью. Серая обивка конфеты, седая начинка. Со всех сторон подъезд. Обтекает Романа плотной жижей. Краска пузырится и морщится болезненными наростами. Вздуто-бледные пузыри на потолке. Один за другим. Как громадные прыщи. Вот особенно выпуклый. Вывален внутренностями наружу, как липкое объемное пузо навозного жука, повисшего над сметённой головой Романа.
Подъезд будто болен. Бычки и пустые стеклянные бутылки. Ракушки на заблеванном берегу. Здесь никогда не тихо. Шепчут голоса и крики отовсюду. Наркоманский говор, не попадающий зуб на зуб и ищущий новой дозы. Гостеприимный домашний притон. Теплый навоз. Горячий недовоздух.
Спертые коридоры. В желудке червя. Прямоугольные канализационные трубы. Улыбаются хмельной ухмылкой заплывшие стены. Как пьяные чернорабочие. С наотмашь размазюканными толстым слоем потекшими красками. Разных цветов. Слой за слоем. Инвалидный свет пары лампочек. Каждая – в своей петле. Сброшены с потолка на проводах. Краски, как бензин в лужной жиже. Оттенки, тени и блики глубокого ночного кошмара. Сухой воздух насквозь промок кошачьей мочой. Кружится Романова голова.
Уперт в дверь старухи. Мысли никак не собираются, а руки не успокаиваются. Роман не хочет, чтобы голос дрожал, когда откроется рот. Нужно выглядеть спокойным, хотя бы выглядеть. Спокойно. Он ныряет в слова телевизора, орущего по ту сторону двери. Орущего на старуху. Пытается, тает. Переключиться. Но мозг – не пульт. Россия двадцать четыре. Новости. Свежачок. Спецвыпуск. Тук-тук.
Тишина захрипела и поперхнулась:
– Кр-кр. Да-да. Кто там?
– Это… Это Роман из соседней квартиры.
– А-а-а, Рома. Хороший мальчик. Сейчас.
Замок переваривает ключ. С несварением и скрипом. Да-да. Вот. Да. Кто там? Кто там?! Где? Везде. Кто видит везде? Кто всегда всегда всегда только приходит и никогда никогда никогда не уходит? Загадка. Смерть. Глаз, что облепливает все и всех со всех сторон, как невидимые липкие стены. Лучше всех видит слепой.
– Да что ж ты будешь делать!
Кр-кр. Рычит замок. Нараспашку вонь. Поток. Темный огонь в глаза. Обои полуслезли и пытаются бежать со стен. Подъезд захворал старушечьим трепом. Дряхлым, как гнилые зубы, спертым, как паранойя и разумным, как галлюцинация.
Из-за плеча глазеет на Романа съеденный белой краской дряхло-деревянный подоконник. Нам нем блаженные пенсионеры, будто в европейской кафешке: денежное дерево, фиалки, фикус, бегония и кактус. Устало обнимаются в горшках, как досыта наевшийся тучный хрен на унитазе с сальной газеткой в руках: Гхм, т-э-эк, чего у нас тут, в мире? Теплый уход старушечьих рук вновь и вновь наливает растения зеленкой, не позволяя им сделать то, что давно сделала кожа этой некогда девушки. На месте, что не упустить глазами, желчная фотография. Выцветший останок с ленточным червем поперек: черной отметиной вечности. Цветы живы, пока ее сын мертв.
– Рома, хороший мальчик. Чего тебе?
– Да я.. Валентина Вячеславна, скажите, а вы не знаете, где Вера?
– Она умерла?
– Что?
– Котят видал? Вон там на лестнице у нас сидят. Черт его знает, оставил кто-то. Я их сегодня покормила…
– Валентина Вячеславна.
– А? Чего?
– Вы не знаете, где Вера?
– Кто?
– Вера.
– О-о-о. Девка-то твоя?
– Ну да.
– А-а-а, загуляла? А я говорила тебе, что баба твоя..
– Валентина Вячеславна, она пропала.
– Чего-хо-хо? Так взяла и пропала?
– Да. Может вы слышали что-нибудь? Или видели, как она уходила?
– Видеть не видела, но знаешь, что я тебе скажу, внучок?
– Что?
– Час тому назад или больше. Я тогда как раз выключила телепередачу. Думала поспать немножко-х. Отложила это, пульт, все. Ложусь. Свет выключила. А там, у вас, за стенкой-то, кто-то все кричит и все воет. У-у-у. Как зверь какой-то, ей Богу. Я думаю, да что такое? Все там, это, падает, разбивается. И так еще воет страшно. И голос прям такой: как у диавола. Я тебе говорю, какая-то дьявольщина в этом доме. Я так и встала, перекрестилась и больше не спала. И еще вот совсем как раз до того, как ты пришел. Вот, сижу, опять слышу, дьявол стонет. Прямо вот под дверью моей стонет. Я сразу включила передачу, чтобы не слышать дьявола.
– Валентина Вячеславна, ну а Вера?
– Кто? Ай, да брось ты эту девчушку. Говорю тебе, пускай катится колобком, э-э-э. Ты себе лучше найдешь. Ничего хорошего с ней не будет. Не-бу-дет.
– Ничего не знаете?
– Чего?
– Так вы про Веру ничего не знаете?
– А, не знаю и знать не хочу за твою прошмандовку, прости меня, Господи.
– Ладно, Валентина Вячеславна, я тогда пойду. Спокойной вам ночи.
– Да. Ты пойди. И тебе всего хорошего, внучок. А девку свою эту забудь. За-будь.
– До свидания, Валентина Вячеславна.
Ему приходится. Роман уходит. Этот диалог мог бы еще длиться, как лестница. Поворот, поворот, поворот, вечность. Вечная несправедливость, дорогие машины. Когда Роман выходит на улицу, ему встречаются смуглые лица. Жестоко засевшие в глупых глазницах. Несколько мужчин. С ними какие-то цыпы с приталенными и затушенными лицами. Ладони на талиях. Одноразовая помойная яма с гламурной одноразовой любовью. Больше половины квартир – на одну ночь. Этот простит-дом. В нем все одноразовое, кроме помоев и грязи. Прохлада. Во дворе. У входа. Еще одна свора голов с гноем вместо мозгов. Агрессивный гной. Пара иномарок и хохот. Роман духом бредет сквозь вражеский воздух. Подальше от подъезда. Где она?
После того как однажды Вера пропала на весь день, они установили себе приложения по отслеживанию местоположения. Чтобы всегда суметь найти друг друга. И не только в постели с полным непониманием, где они. Зеленая точка на карте зависла на месте: «Дом» и усмехается над Романом. Над его пытками. Вера была в сети три часа назад. Три часа назад она отключила геолокацию.
Каждому есть, что терять. Это отлично. Ведь именно способность терять делает нас живыми. Указывает на то, что мы живы. Жив только тот, кто теряет. Ничем не владеет лишь никогда не существовавший. Каждый умерший, так же, как и каждый не родившийся, никогда не существовал. Ведь ничего, кроме сейчас нет. И само это «сейчас» – жуткое место.
Во дворе никого. И те, что были, ушли. Лишь тьма, что бегает за спиной и прячется щекоткой возле висков. Близко. Далеко. Качается месяц. Жизнь не кончается. Во дворе никого, только Роман и час ночи. Всех углов не хватит, чтобы спрятаться. Минуты волокутся дальше. Их нет. Уже два на часах. Ему страшно. Где же она? Романовы нервы озираются по сторонам и, спотыкаясь, бредут к изнеможению. Романовы ноги – к лавочке. Осесть в грунте под ногами. Романова голова пролазит в узкое пространство жуткого воспоминания.
Déjà Vu. Он уже видел все это. И это всё уже видело Романа. Этот двор, этот месяц, повешенный небом, эти тени в углах. Он – ребенок. Он хочет домой, хочет спрятаться. Пятится назад, пытаясь нащупать хоть что-нибудь, на что можно было бы опереться. Но позади нет ничего. Голая пустота. Пальцы повисают в черной невесомости. И вдруг нечто проскальзывает своим язычком по его ладони, упертой во мрак. Может ветер, а может…
Быстро, ноготком, чей-то палец порезом течет по его пугливой ручонке. Роман застывает. В ужасе. Хочет бежать, но ноги против. Роман бежит стоя. А что, если это его собственный палец? Собственный палец Романа гладит Романа. И собственные глаза глядят в глаза. Куда бежать, когда некуда спрятаться? Куда бежать, когда негде остаться? Как жить, когда некуда бежать, негде остаться, негде быть, некуда бежать, некуда некуда некуда негде негде негде ГДЕ?! Еще чуть-чуть и это нечто вгрызется зубами Роману в затылок. Обхватит сзади и вонзится пальцами в ребра. А что, если это его затылок дышит ему в затылок? Роман падает на землю. Вокруг никого. Он один. Он одинок.


