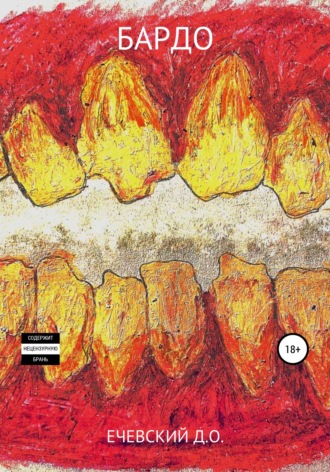
Данил Олегович Ечевский
Бардо
Помогите
«Не испытывай любовь к тусклому свету цвета дыма, идущему из Ада. Это путь, открывшийся, дабы принять тебя, поскольку сильный гнев увеличил твою дурную карму. Если он привлечет тебя, ты провалишься в Адские миры; и после попадания в них тебе придется испытать невыносимые страдания, от которых ты неведомо когда избавишься. Это помеха, которая задержит тебя на Пути к Освобождению, не смотри на этот свет; и избегай гнева. Не позволяй ему привлечь себя; не будь слабым».
«В это время не поддавайся тем видениям, что явятся тебе. Не испытывай к ним влечения. Не будь слабым. Если, поддавшись слабости, ты возлюбишь их, тебе придется блуждать по Шести Лока и испытывать страдания».
Бардо Тхёдол. Тибетская Книга Мертвых.
– Как долго это продолжается?
– Минут двадцать-тридцать.
– Эпистатус.
Они бросают Веру в топку. Роман порывается. Медработник не дает завершиться начатому.
– Нет.
– Но я.
– Нет.
Пасть машины скорой помощи захлопывается.
– Вы отвезете ее в больницу?
– Сейчас посмотрим.
– В каком смысле?
Пасть открывается и захлопывается вновь. Оконце, расползшееся панорамой по ребрам машины. Романовы ножки встают на носочки. Внутри. Там. Кошмар. Руки и ноги привязывают. Медсестра. Опаловые камни в глазницах. Зрачки то появляются, то вновь растворяются в бело-кровавой жиже. Зверь рвется наружу. Крепят голову. Вспузыренная слюна. Белые клубы пены изо рта. Шприц. Игла. Парень. Парень!
– А?
Прохожие глаза глядят то туда, то сюда. Держат руки в карманах. Озираются по сторонам. Что, и ему спрятать холодные руки в ледяные карманы и греть зиму? Испуганные проходимцы-лица. Парень.
– А?
– Это твоя девушка?
– Да.
– А что с ней?
– Не знаю. Эпилепсия.
– Жутко все это.
– Да.
Ветер смущает прижатые к машине тела своим холодом. Просит отойти всех в сторону. Но у Романа нет стороны для отхода. Без Веры – у него нет дома. Замерзший прохожий описывает виноватый полукруг зрачками: от ужаса в окне до ужаса в глазах Романа:
– Парень.
– А?
– Только ты не бросай ее.
– Конечно. Конечно. Это не я, скорее она.
Распахнутая дверь прерывает Романа. Холод кусает щиколотки.
– Молодой человек.
– Да? Ну что с ней?
– Вроде успокоилась.
– А что вы сделали?
– Вкололи противосудорожное и транквилизатор.
– А что дальше?
– Повезем в приемное отделение. Вы на такси или с нами?
– С вами.
Дверь открывается. Снежинки жаждут войти вместе с Романом. Но их не пускают. Вера. Роман плачет. Невольно и неизбежно.
– Ты чего, парень? Все хорошо. Вернее, нехорошо, конечно. Но все будет в порядке. Сейчас отвезем ее..
– Где мой телефон?
Верин вопрос перепугался и застрял в Романовой глотке комом. Пьяные глаза Веры рассматривают разваливающиеся обломки.
– Она в сознании?
– Да, но мы вкололи ей довольно сильный транквилизатор. Она может немного того.
Ладонь медсестры веером кружится возле уха.
– Где мой телефон? Где мои вещи?
Вера слоняется затревоженным взглядом по внутренне-белым стенкам. Очень-очень взволнованно-пьяным. За окном машины чернеющая ночь. Светлеются лишь хлопья снега, стучащие в стекло белыми кулачками. Умоляющие впустить их, сползающе-брошенные снаружи.
– Все в порядке, они у меня.
Роман оборачивает Верину ладонь в свою. Она отбирает у него свою руку.
– Где мои вещи?
Настойчиво-грозный голос. Ее глаза ищут правильного ответа на вопрос. Медсестра делает все возможное:
– Девушка, успокойтесь. Все вещи у вашего парня.
– Моего парня?
Дождь у подножья Романовых глазниц накрапывает. Вера, как слепая.
– Да, и телефон тоже у него. Вот он. Справа.
Ее голова падает набок. Вера глядит перед собой, но ничего не видит. Внезапно. Как скрип гвоздя по стеклу:
– Дима?
Романов взгляд теряется в слезном лесу. Но его море пытается не показываться наружу. Он молчит. Его голокожие слова любви – ничто. Вера морщится, деловито разглядывая ложь, как картину:
– Нет-нет, вы врете. Мой парень умер.
Медсестра бросает глаза в Романа:
– Как это? Вас как зовут, молодой человек?
– Роман.
Голос спотыкается. Медсестра переспрашивает Верин вопрос:
– Ну вот. Роман. Вы такого не знаете?
Верины губы придурковато улыбаются. Насмешливо смеются презирающие его скулы.
– А, этот? Он мне никто. Мы даже не женаты.
Румян медсестры кровенеет. Тишина заглушает кваканье двигателя. Окно усеяно иероглифами-инеем. Зима пишет на ажурном языке: "Помогите".
Дела внутренних органов
«Эти сорок два совершенных божества, исходящих из твоего сердца и порожденных твоей собственной чистой любовью, явятся и воссияют. Узнай их.
О высокородный, эти сферы не открываются откуда-то извне. Они являются из четырех пределов твоего сердца, что, включая его центр, составляет пять сторон света. Также и божества не являются откуда-то еще: они существуют от начала вечности в способностях твоего собственного разума. Осознай, что такова их природа».
«И, увидев, можешь ощутить отсутствие веры и даже полное неверие в свою религию. Ты сможешь распознать в людях страх и боязнь, от тебя не укроются никакие черные поступки, неблагочестивое поведение или ошибки в исполнении молитвы. Возможно, ты подумаешь про себя: «Увы! поистине они обманывают меня». Эта мысль породит в тебе гнетущую тяжесть, и из-за великого чувства обиды тебя покинут любовь и смиренная вера, и взамен им придут разочарование и неверие. И тогда ты не избежишь рождения в одном из несчастливых состояний».
Бардо Тхёдол. Тибетская Книга Мертвых.
Город.
под прицелом микроскопа снуют полупрозрачные люди.
Город.
время утекает, как вода, парфюмированная для утюгов.
Город.
откуда он взялся вообще?
Господь сказал Город.
мухи полопались,
оргазмируя и тужась.
гулящие дроны стали небом,
всколыхнули страницы силиконовых книг.
будущее прояснилось, как апельсин,
который нам не достанется.
воробьи допели свои песни
и свалили за границу.
вместо них запели обнаженные стоны.
вот так:
ах! ах! ах!
только глубже,
с многочисленными повторами и придыханиями.
в то время как те,
чьи тела никто не найдет
и искать не станет,
наконец заткнулись
с щеками,
краснеющими от гниения их трупов.
в африку направляется гуманитарная помощь
в виде штукатурки
с лиц проституток,
но о существовании африки знают лишь галоши,
прохаживающиеся по песку,
горячему и бессмысленному,
как и ты тоже.
патриотизм ныне не к черту,
а к Богу,
только Бог совсем позабыл,
что Он – патриот.
людьми разработана программа
расчеловечивания,
главная статья расходов —
бред.
никто больше не верит в растения,
и потому
они не растут здесь.
ночью проходит день.
людьми уже начата программа
расчеловечивания
и тут же завершена
с успехом.
на квадратный метр жизни
ни осталось
ни одного человека,
только метры.
быстро?
а то как же!
трудилось
все человечество.
бездомные умные кричат о своих знаниях,
как шлюхи о своих задницах,
на улицах,
но их никто не слушает.
слушают экстрасенсов.
историки выяснили, утверждение:
«проституция – самая древняя профессия»
несостоятельно.
ученые доказали, проституция —
это единственная профессия.
преступность легализована беззаконием.
граждане вселенной двуполые:
члены и чехлы для членов
с технологиями на подсосе.
третьи не существуют,
хоть их и больше.
народов тоже не существует,
лишь разновидности приспособлений
для массажа предстательной железы.
все знают, как пролезть в мыло через жопу,
но только чехлы умеют делать это без жопы
и даже без мыла.
народная мудрость гласит:
пролез, и дело в шляпе,
только шляпы нет
и некуда вылазить.
мозг не заканчивается там,
где начинается стрижка.
пузатые члены правят миром.
чехлы правят пузатыми членами.
все побрито.
получеловек-полувоздох
с обложки своей новой книги,
написанной членом, по-видимому,
объясняет всем и каждому,
как нужно жить
без рук и ног.
вам не нравится черный юмор?
вы ему тоже не нравитесь.
животным не чуждо ничто животное.
более того,
отныне людское чуждо людям.
совесть сомневается в собственной адекватности,
спрашивает,
не бессовестна ли она,
спивается.
смелость ломает стену.
за стеной возникает стена,
которая ломает
смелость.
кто-то соскакивает из жизни.
кто-то заскакивает в магазин.
кто-то вписывается в поворот.
кто-то записывается в морг.
кто-то ебаный идиот.
кто-то долбаеб еще к тому же.
так это была жизнь? —
спрашивает смерть у себя.
смерть пишет сатиру на жизнь.
но не дописывает
и дохнет от передоза.
одиночество заселило все новостройки.
больше в городе никто не живет,
и ничего больше нет,
кроме многого.
и нигде не найти себя.
как туман в горах.
хребет скрыт под кожей дождя.
не видно ни хера.
так это, что, и есть Россия?
нет, это
Город. Город. Город.
в котором все самоубийцы.
в котором все уже убиты.
Господь сказал Город.
зачем Он это сказал?
Чтобы Роман дошел до отдела общественной самообороны. Ему слепит глаза глянце-рисовая белизна городского дня. Он не способен не видеть солнца. И ни один желудок не способен. Даже если собрать все желудки вместе. Им не переварить слова. Слова, которыми так легко, вместо слюны, плюнули Верины губы, но которые так неприятно и желчно, кислотно забили ухо острым колом-пробкой и прилипли к уму.
Вот оно. Кирпичное Здесь. Храм надежды и краха надежды. Отделение полиции. Тяжелая дверь. Тяжелые мысли, когда Романова нога переступает порог их квартиры.
Его встречает курносая рожа. По званию: какой-то мудак, по сути – тоже. И это я сейчас не к тому, что все полицейские – уроды. Эта профессия очень почетная. Просто почет сейчас – не в почете. Это как… Вот что вы думаете о банкирах? Они все плохие? А? А? Вот и заткнитесь.
Так вот, то был первый. Теперь же, пакетно-мешочное брюхо второго глазеет Роману в лицо. Такой жирный, будто труп в себе перевозит. И чувство такое, словно четыре утра. Без предупреждения нападают фразы-блицкриги. Мы не будем все их цитировать. Как и всякое разное остальное. К чему нам скукачушные подробности? Наше дело правое, наше дело другое.
– Добрый день.
– Вы по какому вопросу?
– Пропал человек.
Сотрудники смотрят на Романовы руки и ноги.
– Вон туда положите все свои телефоны. Да, а теперь проходите. Поищем у вас металл в жопе.
Сотрудники лапают Романово тело, Романовы ноги. Тычут металлодетектором в глотку.
– Деньги есть?
А ну-ка.
Деньги или жизнь?!
Жизнь или веревка?!
Как сказал Диоген Собака: „Для того, чтобы жить как следует, надо иметь или разум, или петлю.“
Либо вешайся, либо не ной.
Собака знала, что гавкала.
У автоматов по выдаче слов кончаются патроны.
– Вон туда. Проходите.
В жопу жопы.
– По какому вопросу?
– Я хотел бы подать заявление о пропаже.
Пожилая подошва лица с волосами, выкрашенными в цвет волос, задает свой нежнолюбимый вопрос:
– Пропаже кого?
– Моей девушки. Она вчера не вернулась домой. Могу я подать заявление о пропаже?
– Нет, не можете.
– Почему?
– Лишь по прошествии трех суток с момента пропажи.
– Но как же?
– Кем Вы сказали Вам приходится пропавшая?
– Девушкой.
– А заявление может подать только родственник. Так что ничем помочь Вам не можем. До свидания.
– Ддобрый ддень.
– По какому вопросу?
– Я ххотел ббы пподать ззаявление о ппропаже.
– Пропаже кого?
– Ппослушайте, ееё ззовут…
– Это не важно. Как давно гражданка пропала?
– Ввчера.
– Молодой человек, Вы разве не знаете про три дня?
– Ччто ттри ддня?
– На третьи сутки воскрес Иисус.
– Ччто, ппростите?
– С момента пропажи должно пройти трое суток.
– Ии ччто?
– В ином случае Ваше заявление не принимается.
– Ппочему?
– Ну, вдруг Ваша девушка тоже Иисус. В наше время все может быть, сами понимаете.
– Яя нне ззнал, ччто оона ттакая.
– Вы не знали. Наше какое дело? Чем я могу Вам помочь?
– Я хххотел бхбы ппподать зззаявление о пппропаже.
– Пропаже кого?
– Мммоей дддевушки.
– А Вы кто?
– Я ееё пппарень.
– Не родственник то есть?
– Ппослушайте.
– Вы же не родственник, я Вас правильно понимаю?
– Ннетт, ннне рродственник.
– От третьих лиц заявления о пропаже не принимаются. Чем я могу Вам помочь?
– Я хххоттел бббы пподдать ззаяввление о ппроппаже.
– Пропаже кого?
– Ммоейй ддевушшки. Она ввчера не ввернулась ддомой. Ммаленького рроста. Ррусая.
– Это не важно. Бабушке своей расскажите это. Мы принимаем заявления лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения Человека.
– Нно введдь это ннеправда.
– Как это? Здесь все – только правда. Чем я могу Вам помочь?
– Уу ммення ддавнно ужже ннет ббабушки. Ии ддевушшки ттепперь ттожже ннет.
– А чем я могу Вам помочь?
– Я ххотттел ббы пподдатть ззаявленние о ппропажже.
– Пропаже кого?
– Ммоей ддевушки.
– Пишите.
– Ддайте ппожалуйста ллисток и рручку.
– А где же Ваша бабушка? Пусть она Вам бумагу с ручкой и даст.
– Ннапписал.
– Написали? Хорошо, вон туда проходите.
– Ккуда?
– Я не знаю. С Вами побеседует сотрудник уголовного розыска.
– Ккакой? Ккогда?
– Молодой человек, Вы меня спрашиваете? Я не знаю. Чем я могу Вам помочь?
– Я хххоттелл ббы пподдаттть ззаяввленние о ппроппажжже.
– Пропаже кого?
– Мммоей ддевушшкки.
– Обстоятельства пропажи?
– Нне ввернуллась ддоммой.
– Родственникам звонили?
– У ннее ннет нникого. Рроддиттели уммеррли. Ббольшше нникогго. Ттоллькко я.
– Но Вы ей не родственник?
– Ннетт.
– То есть Вы не знаете, где она находится?
– Ннет.
– Тогда чем я могу Вам помочь?
– Я хххоттел ббы пподдать ззаяввление о ппроппажже.
– Пропаже кого?
– Ммоейй ддеввушшки.
– Какой девушки?
– Я хххотттеллл ббы пподдатть ззаявленнние о ппрропаже.
– Пропаже кого?
– Ммоейй ддевушккки.
– Звонили в медицинские учреждения, вытрезвители, морг?
– Нннетт.
– В морг не звонили?
– У мммення ннетт нномерра мморрга, ттоллько номмеррр Ббогга, нно Онн ссо ммной нне гговвворит. Я сспрашшиваю Егго, ззачемм ввсе этто, нно Онн ввсеггда ттоллькко ммолччит вв ттрубку илли хихихихикает.
– Тогда чем я могу Вам помочь? Вы по какому вопросу?
– Ппроппал ччелловек.
– Человек! Ну Вы сказали! Человек никак не может пропасть. Он в руках Божьих.
– Ввы ддолжжны егго ннаййттти.
– Как же мы его найдем? Пути Господни неисповедимы. Чем я могу Вам помочь?
– Я ххотел ббы пподать ззаявление о ппропаже.
– Пропаже кого?
– Ммоей ддевушки.
– Мы не принимаем подобных заявлений.
– Нно ввы оббязанны пприннять. Ммоггу я уззннать ввашши ффамиллию, иммя иии оттчествво?
– Простите. Мои что?
– Ввашши ффамиллию, иммя иии оттчествво?.
– А Вас как зовут?
– Ммменннння? Ррроммманнннн. Иии яя хххоттттелл ббббы пппппппппподддддддддддддтттттттттттттт.
Никогде
«Твое собственное сознание, не сформированное ни во что, в действительности пустое, и разум, сияющий и блаженный, – оба они неразделимы. Союз их есть состояние Совершенного Просветления Дхармакайи.
Твое собственное сознание, сияющее, пустое и неотделимое от Великого Тела Сияния, не знающее ни рождения, ни смерти, и есть Неизменный Свет – Будда Амитабха.
Знания сего достаточно. Осознавать, что пустота собственного разума – есть состояние будды, и понимать, что это твое собственное сознание, значит пребывать в состоянии божественного разума Будды».
Бардо Тхёдол. Тибетская Книга Мертвых.
Только ночь. И бездушный взгляд луны. Лишь молчание неба. И бурление мыслей. Лишь поиск смысла. И совершенно бессмысленная ночь, прекрасная ночь, что дышит чистым и свежим воздухом.
Волшебная одинокая ночь, что встречает всё в каждом новом мгновении.
Что за тень на асфальте? Тянется одиноким метанием под фонарями. Это ночь.
Здесь она правит, сама себе конец, сама себе – начало. И одинокий шаг, и безмолвный крик. Тише, тише… Зачем же кричать так тихо? Где это мы?
Ночь. Вокруг ничего. По ничему идут шаги. Идут, проходят свой путь и пропадают в прошлом, навсегда пропадают.
Вопросы не устают. Никогда не устают задаваться. Что стоит за жизнью? Кто за ней прячется? Выходи, мы посмотрим на тебя. Никого.
Что стоит за всеми событиями? Что происходит с ними? Нет никаких событий. Они ушли. Вместе с мгновением.
Кто же пришел? Ведь не бывает ничего. Вы не видите? Вот она. Провожаемая прошлым. Встречаемая будущим. Лишняя в настоящем. Ночь.
Почему жизнь должна жить? Почему смерть все время умирает? Почему всё прогоняет всех, но уйти им не позволяет? Она так хочет. Кто она? Ночь.
Но зачем жить тем, у кого ничего не осталось? Она так хочет. Так это она все решает? Нет, был день.
Долгий, составленный из долгих часов, что склеены были из долгих минут, что таили в себе долгие секунды, в которых прятались долгие мгновения, долгие и нудные, как это предложение.
Но теперь день ушел. Теперь он никто. Стало так спокойно. Нет. И после всех нанесенных миром порезов, человек может дать себе то, чего не могут никакие деньги, никакой Бог. Он может дать себе себя, и все.
Вопросы не устают и не спят. И что? Куда мы идем? Мы возвращаемся из пути в путь. Мы вернемся из пути в путь, когда уйдем. Нет. Увы. Не вернемся.
Тогда что мы делаем здесь, на этой улице? Что мы делаем здесь, так это калечим наши души. Так сказала ночь. Лишь для этого все нужно.
Но ведь это не ответ. Что мы делаем на этой улице? Кто здесь? Тише, тише… Пистолет в дрожащей руке. Не нужно так давить на курок. Не стоит так тревожить судьбу, дергать за хвост струну. Мы в сознании другого. И нам спокойно.
Откуда у него пистолет? Там такая история. Я бы рассказал, но нет. Вы все равно не поверите. И правильно. Бумаге можно доверять, но нельзя верить. Лучше сэкономим время. Да, так и сделаем. А что нам время, когда его нет?
Сейчас это. Но было и другое. Когда Роман вспоминает, его язык западает, прилипает к небу. Или каменеет вместе с челюстями и легкими.
Не надо так скоро. А что же? И нам что? А вы все еще думаете, вся эта история про Романа? Глупые. Нет, это история про вас и про меня. Но сейчас не до разговоров, ведь дитя рвется увидеть солнце.
В пузе у Романа колотая рана, порванное душевное мясо. Он рожает боль. Пистолет в руке. Тяжелит карманы. Кровь подгоняет. Кто-то должен умереть.
Сердце бьется, глаза ищут. Вынутые и простертые миру. Чему вслед они сморят? Что они ищут?
Поздно.
Всякая разумная мера, собрав волосы в хвостик, затем нервно распустив и для пущей уверенности бережно-быстро заплетя их в косичку, подправив помаду, подчеркнув ресницы и собрав все необходимое в чемодан, разбила свой череп о стену. Роман не здесь.
Все хорошо. Лето. Летний вечер. Они идут под сенью лета. В одной его руке – ее рука, в другой его – баночка от кофе, с кофе, что полуполна.
Не полупуста, не так, как раньше. И он чувствует ветер, как он сквозь него и через все… в безмятежное «может?»… Жизнь так близка! Он на ветру, она – как ветер.
Жизнь вибрирует стаканчиком, потеет ручкой ангела. В его руке. Ее волосы – тонкие русые камни, разлитые краской по майке. Ветрятся, волнятся. В них отражается свет фонарей.
Они под фонарями, как под теплыми великанами, что горбатятся дóбро. Слева – дорога, а справа от них раскинут парк.
Они говорят. Говорят о многом, много. Столь много есть им рассказать друг другу. Друг о друге. Но спроси их кто-нибудь вдруг: «О чем вы говорили?» Они не нашлись бы, что ответить.
Ведь пока их рты, казалось, были заняты словами, их умы следили за глазами, смотрящими друг в друга, друг на друга. И под конец, сказав столь многое, никто из них все ж не сказал ни слова из того, что хотел. О самом главном все молчат. Нет времени на слова.
Они гуляют до Вериного дома. Внезапная подмога. Вера приглашает его к себе на чай, на чай с Романом, что пьют вдвоем и пьют до самой ночи, даже дольше. Они болтают дальше. Дальше. Дальше. Много. Пьют и чай совсем недолго. Лишь недолго, потому что очень сложно пить и дальше чай, лежа в кровати, да притом в обнимку в страсти.
Это мгновение прекрасно, как и последующее прекрасно. Как и все прекрасное – прекрасно. Когда все кончено, Роман молчит. Ведь он не знает, что же будет дальше. Должен он уйти или остаться? И вот Вера говорит, что боится спать одна. Она всегда спит одна.
И если бы на этом все кончалось, на моменте, когда они вдвоем укрылись в постели без одежды, несчастные без надежды, но Романовы бездны озираются, озираются, озираются по всем сторонам, чтобы увидеть свое первое воспоминание.
В конце концов глаза каждого, каждого-прекаждого, ищут тепла. А если озера лица ищут крови и хотят ее есть? Звездная фонарная лампа еще висит над ночью. Луна светит тьмой. Если глаза не ищут тепла, то это не человек. Это Бог. И вместо жизни в Нем – смерть. Ужасно, но нелюдей куда больше, чем людей.
Лед ищет тот, кому было отказано в тепле. Лишь в холоде не замерзнуть до смерти. Его глаза мстят за то, чего никогда не видели. Его голодные рты хотят пустить теплую кровь – как кипяток в лед – за то, что холод не позволил ему стать человеком. Это монстр. Если существуют чудовища, то только несчастнейшие из всех возможных.
Первое, что помнит Роман – это завод материнской груди. Место, где производится любовь. Не помнит, но чувствует, как мать положила его на свою печь. На свою жгущую любовь. И как он впитался в ее малиново-нежную кожу. Роман чувствует, как аккуратно-любя билось ее сердце. Как этот стук-постук простукивал каждую вещь на свете, отзывался эхом из каждой пещеры будущего, пропитывал каждый кусочек настоящего, бережно положенный в ротик, был всем, что существует. Весь мир – это биение. Биение маминого сердца. А потом этот стук исчез.
И на каких бы пляжах ни лежало его сердце, ему не согреться и не услышать тот стук-постук. Мир умер. А все, что за этим последовало: какой-никакой дом, детский сад допоздна, а иногда на всю ночь, школа – это похороны матери, что никак не заканчиваются и не могут закончится и никогда не закончатся, потому что невозможно поверить, что она могла умереть, да еще и так, как будто она никогда не жила.
Нет, он видел, она была, она выходила в магазин. Может, мама просто потерялась и скоро придет?
– Пап, пап, а где мама?
– Отвали, че те надо? Мамы нет, у-все.
– А когда она придет?
– Иваныч, это че, сын твой? – вдруг весело потянуло перегарным сквозняком из уст силуэта, сидящего за столом. Бородатого, как бритва, что многое брила. Обрамленный пластиковой скатертью стол. С узором цветочков цвета мочи. Запах малосольных огурцов, слитых с помидорами, борющийся против вони гниющего табачного налета на зубах, которые, как пьяные грязные моряки, глядят, едва не выпадая за борт.
– Это кто так пацанёнка? – желто-синий палец утыкается в Романа. Синяки от побоев.
– А те че? Не суй свой нос, пока тебе не оторвали! Понял?
– Пап, когда придет мама?
– Кто-у разрешил те сюда? Я-у сказал, а ну, те заняться нечем? Иди, уроки вон!
– А ма-ма?
– У тебя нет мамы!
– Но я видел, она был-а..
– И никогда-у не было! Здесь я был! Иди отсюда-у-у! Это мой дом, и я его построил, тут у-у-все мое-о! Я здесь говорю, что делать! Не суйся ко мне, понял?!
Малявка. Папа убил маму? Это правда? Сон думает за Романа. Но Роман не спит. Роман спит наяву. Так сказали забияки в школе. Забияки? Тупое слово. Так сказали нелюди.
Сначала они говорят, что защищают тебя, и ты веришь им. Думаешь, они любят тебя.
Мое тело – это храм. Но молятся в нем не Богу. В нем никому не молятся. В нем молится сам себе – дьявол.
Мое тело – это тюрьма, в которой я спрятался. Но в этой тюрьме я не один, больше нет. Теперь я вижу, теперь я выглядываю из окна своей камеры и вижу, что за окном ничего нет. Потому что весь мир здесь, со мной, в моей тюрьме, в моей камере, в моем сердце, во мне. А во мне – ничего нет.
Роман видит осколки, помнит лишь их. Но целого нет. Не существует. Где ее лицо? Забота. Тепло. Ласка. Ваниш. Или все же Калгон? Их нет, но есть все хорошее в нем. Все хорошее от нее. Успело впитать, как швабра моющее средство, тонкое сердце Романа.
Он никогда не знал и не узнает, что с ней произошло. Люди говорили разное. Мама умерла. Мама убежала. Мама убита отцом. Или просто тяжело вздыхали обо всем.
Роман искал и ищет до сих пор тепло ее несуществующих глаз: на полках в магазине, под матрасом, в Вериных глазах. Но в Вериных глазах только – ничто.
В конце концов он сам создал ее образ. Из книг, рассказов. Эх, романтика. Вся его жизнь превратилась в поиск утраченной мамочки. Иногда кажется, ее не было никогда. Есть Вера, есть смысл не сдаваться. Ха-ха.
Одиночество осязаемо. Осязаемо даже во сне. Все осязаемо, когда слишком. Когда много. Чувство того, что ты мусор. Съедаемый меж зубьев трактора, но не до остатка, а так, чтобы ты еще – остался.
Но. Любовь. Больше всего любят тех, кого нет. Когда оборачиваешься. И еще раз. И по кругу. Не понимаешь где. А он в тебе. В тебе. Внутри. Всегда там был. Ты не один, если нашел в себе другого. Но если ты нашел в себе кого-то, кроме себя, не значит ли это, что ты сошел с ума?


