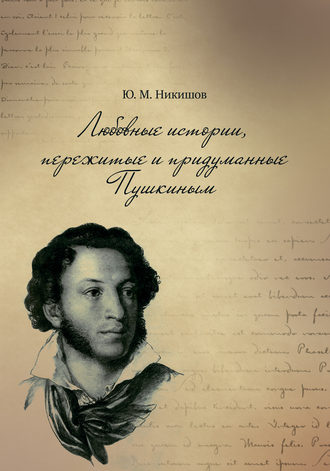
Юрий Никишов
Любовные истории, пережитые и придуманные Пушкиным
Еще полнее, невзирая на погружение в мир античных образов и картин, соответствует пушкинскому мировосприятию и в частности отношению к женщине «Торжество Вакха». В подтверждение привожу описание вакханок и финальное обращение:
Поют неистовые девы;
Их сладострастные напевы
В сердца вливают жар любви;
Их перси дышат вожделеньем;
Их очи, полные безумством и томленьем,
Сказали: счастие лови!
Их вдохновенные движенья
Сперва изображают нам
Стыдливость милого смятенья,
Желанье робкое – а там
Восторг и дерзость наслажденья.
‹…›
Друзья, в сей день благословенный
Забвенью бросим суеты!
Теки, вино, струею пенной
В честь Вакха, муз и красоты!
Последний призыв особенно показателен. Стихотворение начинается картиной явления Бахуса-Вакха празднично разодетым поселянам: читательское восприятие настраивается на стилизацию в жанре идиллии, столь характерной для Дельвига. Финальное обращение поэта переносит действие в современность, и акт этот можно понимать двояко: либо и «торжество Вакха» надо воспринимать как современный карнавальный праздник, либо авторское обращение просто перечеркивает многовековую дистанцию времен и слитно дает две картины – торжество Вакха и торжество (без карнавальных одежд) в честь Вакха. Обращение к античным образам предназначено подтвердить устойчивость исповедуемого образа жизни.
В черновом отрывке 1818 года удивляет какая-то неадекватная реакция.
Как сладостно!.. но, боги, как опасно
Тебе внимать, твой видеть милый взор!..
Забуду ли улыбку, взор прекрасный
И огненный, волшебный разговор!
Волшебница, зачем тебя я видел –
Узнав тебя, блаженство я познал –
И счастие мое возненавидел.
Если «сладостно», то почему «опасно»? Если выделено «блаженство» и «счастье», то почему это понадобилось ненавидеть? В контексте стихов периода картина проясняется: поэт сердится на себя, что некие отношения принимают серьезный характер, выходят за рамки отмеренного и дозированного (вбирают элемент духовного – «огненный, волшебный разговор»). Объективно этому можно было бы радоваться, поэт же предпочитает сдерживать себя.
Та же проблема ставится на ином материале:
Чья мысль восторгом угадала,
Постигла тайну красоты?
Чья кисть, о небо, означала
Сии небесные черты?
Ты гений!.. Но любви страданья
Его сразили. Взор немой
Вперил он на свое созданье
И гаснет пламенной душой.
Недоконченная картина
Чужой пример, пример художника, постигшего тайну духовной красоты, контрастен принципам поэта – и служит для него доказательством от противного: пример художника вызывает даже и восхищение, только цена духовного прозрения воспринимается слишком высокой, поскольку надламывает силы человека, и логика осторожности, которую исповедует покамест поэт, отвращает его от этого примера. (Кстати говоря, словоряд стихотворения уже нечто сулит: «гений», «красоты», «небесные черты». Но пока этот словоряд не схватывается сознанием поэта: его мысль устремлена совсем в другую сторону.)
Та же тенденция просматривается в дружеских посланиях Пушкина, где речь заходит об амурных делах приятелей; наиболее подробно это сделано в послании «Всеволожскому». Поэт воображает себе быт приятеля «в приюте отдаленном», но отнюдь не в одиночестве, а в кругу новых друзей.
А там египетские девы
Летают, вьются пред тобой;
Я слышу звонкие напевы,
Стон неги, вопли, дикий вой;
Их исступленные движенья,
Огонь неистовых очей
И всё, мой друг, в душе твоей
Рождает трепет упоенья…
Детали картины прямым образом перекликаются с деталями описания вакханок в «Торжестве Вакхa». Между тем поэт напоминает другу и о «пленнице младой», которая томится в столице под присмотром «грозных аргусов»; мужским влечениям отдан приоритет.
4
В лицейские годы совсем юный поэт, в духе традиций легкой поэзии, платил дань мотивам прикрытой эротики, ограничиваясь намеками и останавливаясь в опасной близости к описанию пикантных положений. В лирике столичной жизни тенденция фактически пресекается, но не за счет целомудренной сдержанности, а наоборот – за счет нарастания циничной открытости. Но интерес к изображению прикрытой эротики не ослаб, просто реализация его перешла в эпическую форму. Пушкин пробовал ее (в тех же целях) и на лицейской скамье («Монах»), но с нею не справился, не дописав поэму. Теперь, не забывая о юношеских устремлениях, поэт доводит пробу пера до завершения.
Лирике всех петербургских лет сопутствует «Руслан и Людмила». Соседство тут самое тесное: и перекличка многих мотивов, и даже ассоциативные связи, поскольку ряд лирических набросков возникает прямо на страницах рукописи поэмы.
Выпуская в 1828 году второе издание поэмы, Пушкин предпослал ему предисловие: это самая оригинальная из его критических работ. С минимальными авторскими комментариями это подборка из критических отзывов на поэму и даже на публикацию журнальных фрагментов ее. Подобраны сплошь самые резкие отзывы (и лишь в сноске приведена одна «антикритика» – эпиграмма Крылова на хулителей поэмы). Поэт, теперь уже с дистанции времени, как бы предлагает новому читателю самому оценить и опровергнуть педантизм старых критиков, не понимавших художественного слова (от педантов Пушкину в новых условиях приходилось защищать «Евгения Онегина»).
Сошлюсь на один из приводимых отзывов (в подборке он последний): «Долг искренности требует также упомянуть и о мнении одного из увенчанных, первоклассных отечественных писателей, который, прочитав Руслана и Людмилу, сказал: я тут не вижу ни мыслей, ни чувства; вижу только чувственность. Другой (а может быть, и тот же) увенчанный, первоклассный отечественный писатель приветствовал сей первый опыт молодого поэта следующим стихом:
Мать дочери велит на эту сказку плюнуть.
Автор отзыва – поэт И. Дмитриев. Тут не все ясно. Восьмая глава «Евгения Онегина» начинается развернутым портретом пушкинской музы. В первой строфе рассказывается о ее явлении и первых затеях, во второй строфе – как ее встретили мастера того времени. В печатном тексте романа от строфы оставлено лишь четверостишие – о благословении Державина. Рукописное продолжение строфы известно. Далее говорилось:
«И Дмитрев не был наш хулитель…» Закономерен вопрос: не был или был?
В начале предисловия находим едва ли не самый обширный пушкинский комментарий: «Автору было двадцать лет от роду, когда кончил он Руслана и Людмилу. Он начал свою поэму, будучи еще воспитанником Царскосельского лицея, и продолжал ее среди самой рассеянной жизни. Этим до некоторой степени можно извинить ее недостатки». Странно: поэт готов признать недостатки поэмы – и обширно цитирует критиков, писавших о недостатках ее?
Второе издание – это и вторая редакция поэмы. Добавлено очень важное введение («У лукоморья дуб зеленый…»). Проведены сокращения. Казалось бы, поэт мог широко реагировать на мнения критиков и принять те замечания, с которыми согласен. Он не принимает иных замечаний – кроме замечания Дмитриева. Не все сокращения каcaются эротически откровенных мест, но наиболее обширные и существенные сокращения – именно таковы. Отмечу два. «Вы знаете, что наша дева / Была одета в эту ночь, / По обстоятельствам…» Другое сокращение касается ситуации, когда Людмила попадает в сеть Черномора и вроде бы становится доступной его притязаниям.
Был ли Дмитриев «хулитель» – или просто сказал правду, которую признал поэт? Какими обстоятельствами «самой рассеянной жизни» он готов объяснить недостатки поэмы? «Рассеянная жизнь» отнюдь не исключала самого упорного трудолюбия. Но она включала чувственность как этический и тем самым эстетический принцип. Некоторые места поправить было можно, но освободить поэму от чувственности – нельзя: она на ней держится. В петербургские годы именно «Руслан и Людмила» максимально реализует интерес поэта к прикрытой эротике, его стремление при изображении пикантных положений пройти в рискованной близи, но не пересекая запретную черту.
Разумеется, оценить одним словом пафос объемной поэмы, синтезирующей несколько тенденций, означает выделить лишь одно слагаемое, оставляя в тени другие, не менее важные; это оценка явно односторонняя (кстати, в письме к Вяземскому и Дмитриев отметил в поэме «очень много блестящей поэзии, легкости в рассказе…»). Стало быть, на одно понятие и надо возлагать нагрузку не большую, чем оно может выдержать, и не упускать опоры иные.
Полифонично, очень емко, строится уже первая картина – свадебный пир.
В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана
И мед из тяжкого стакана
За их здоровье выпивал.
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши
С кипящим пивом и вином.
Они веселье в сердце лили,
Шипела пена по краям,
Их важно чашники носили
И низко кланялись гостям.
Колорит времени передается скупыми, но впечатляющими деталями. Тут архаизмы, передающие ушедший быт, а вместе с тем звонкие, нисколько не выпадающие из слога автора: гридница, чашники. Очень выразительна деталь: «из тяжкого стакана»; непривычный для современников эпитет поясняется контекстом: «серебряные чаши».
Вместе с тем это эпическое, былинное начало уже включает лирический элемент. Авторское присутствие – через головы веков – нимало не скрывается. В веселую картину пира врывается обозначение – «предки наши». Ведь мы видим их – могучих, основательных, брак освящающих во имя продолжения рода, и вдруг «предки», от которых ничего не осталось, только «преданья старины глубокой». А предки – «наши»: вот и обозначилось присутствие поэта с его читателями, и любопытно: продолжается та самая картина пира в гриднице с чашниками и тяжкими стаканами, а прибавилось современных поэту ассоциаций. Серебряные чаши «веселье в сердце лили»: тут уже немало от эпикурейских стихов Пушкина, а «шипела пена» обещает его хрестоматийное: «Шипенье пенистых бокалов / И пунша пламень голубой».
А следом калейдоскоп зрительных картин меняется на слуховые образы: гостей «шум невнятный» пресекает «глас приятный» песни Баяна.
Богатырское начало! Оно объединяет древнее и современное, зримая и слышимая панорама наполнена ассоциативными толчками для раздумий самого разного плана. А поэму создает восемнадцати-двадцатилетний автор. Ему интересно все. Его радует, что муза помогает ему оживить дела давно минувших дней. Но он – нимало не чернокнижник. И среди его важнейших забот на первом месте – жизнь сердца, как он ее сейчас понимает. Разнообразны сцены пира, но они – вширь, а есть стержень, к которому повествование возвращается регулярно.
Но, страстью пылкой утомленный,
Не ест, не пьет Руслан влюбленный;
На друга милого глядит,
Вздыхает, сердится, горит
И, щипля ус от нетерпенья,
Считает каждые мгновенья.
И все глядят на молодых:
Невеста очи опустила,
Как будто сердцем приуныла,
И светел радостный жених.
Жених в восторге, в упоенье:
Ласкает он в воображенье
Стыдливой девы красоту…
При троекратном возвращении к описанию переживаний Руслана никак нельзя сказать, что эти переживания разнообразны; жених поглощен одним ожиданием. Поэт идет герою на помощь: он подробно описывает то, чего герою больше всего и хочется.
И вот невесту молодую
Ведут на брачную постель;
Огни погасли… и ночную
Лампаду зажигает Лель.
Свершились милые надежды,
Любви готовятся дары;
Падут ревнивые одежды
На цареградские ковры…
Вы слышите ль влюбленный шепот,
И поцелуев сладкий звук,
И прерывающийся ропот
Последней робости? Супруг
Восторги чувствует заране;
И вот они настали…
Сюжет поэмы удивительно соответствует авторской установке на изображение прикрытой эротики. Вот и описано все, что можно было описать, и поставлено многоточие, далее которого поэту ходить не принято. Но запретную черту пересекать не пришлось: сюжетное «вдруг» позволяет переключиться на новую тему повествования. Впрочем, острота ситуации еще тревожит воображение поэта, и – остывая, набирая дыхания для дальнейшего рассказа – он возвращается к прерванному эпизоду хотя бы с авторским комментарием.
Ах, если мученик любви
Страдает страстью безнадежно,
Хоть грустно жить, друзья мои,
Однако жить еще возможно.
Но после долгих, долгих лет
Обнять влюбленную подругу,
Желаний, слез, тоски предмет,
И вдруг минутную супругу
Навек утратить… о друзья,
Конечно, лучше б умер я!
Живописуя доступные подробности брачной ночи, поэт уже реализует творческий принцип, который будет прямо провозглашен несколько позже:
Я не Омер: в стихах высоких
Он может воспевать один
Обеды греческих дружин
И звон, и пену чаш глубоких…
(Замечу в скобках, что сцена свадебного пира подтверждает: и молодому поэту никакие уголки жизни не запретны и досягаемы.)
Милее, по следам Парни,
Мне славить лирою небрежной
И наготу в ночной тени,
И поцелуй любови нежной!
Против того, что милее, возражений нет. Но далее возникает новый поворот проблемы: дело не в самом предмете изображения, но в характере отношения к нему, в тех ассоциациях и чувствах, которые сопровождают изображение, если угодно – в самой цели изображения.
Если смотреть на изображение драматически прерванной брачной ночи под таким углом зрения, то естествен вывод. Несмотря на то, что главный эмоциональный нерв сцены – нетерпеливая плотская страсть Руслана (и только!), сцена остается нравственно чистой и светлой. Имеет свое значение прикрытие интимностей супружескими отношениями. Поэт и далее в поэме не будет углубляться в духовную сферу любви, но он показывает союз добровольный, равный и потому естественный и привлекательный. Роль начала велика: оно задает тон, который помнится и настраивает восприятие на дальнейшее. Что-то и в дальнейшем подкрепляет эту линию, поскольку супруги верны друг другу и стремятся к воссоединению. Но в авторском повествовании – и дальше больше – целомудрие оттесняется фривольностью.
Поэту понадобилось вернуться к описанию брачной ночи.
Моей причудливой мечты
Наперсник иногда нескромный,
Я рассказал, как ночью темной
Людмилы нежной красоты
От воспаленного Руслана
Сокрылись вдруг среди тумана.
Повод к напоминанию эпизода есть: поэт обращается к описанию злоключений Людмилы и делает это от той же точки отсчета. Но нет сюжетной обязательности в ассоциативной вставке, которая нужна исключительно автору и характеризует его мировосприятие.
С порога хижины моей
Так видел я, средь летних дней,
Когда за курицей трусливой
Султан курятника спесивый,
Петух мой по двору бежал
И сладострастными крылами
Уже подругу обнимал;
Над ними хитрыми кругами
Цыплят селенья старый вор,
Прияв губительные меры,
Носился, плавал коршун серый
И пал как молния на двор.
Взвился, летит. В когтях ужасных
Во тьму расселин безопасных
Уносит бедную злодей.
Напрасно, горестью своей
И хладным страхом пораженный,
Зовет любовницу петух…
Он видит лишь летучий пух,
Летучим ветром занесенный.
Ассоциативный перифраз отправного сюжетного события существенно понижает его. Пусть и вначале преобладала плотская страсть – она была возвышенной. Теперь она заземлена, обытовлена, задета иронически. Такова устойчивая грань авторской позиции.
Поэт делает полемический выпад против критика, задавшего вопрос, который якобы ставит автора в тупик:
Зачем Русланову подругу,
Как бы на смех ее супругу,
Зову и девой и княжной?
Неожиданная и тайная цель автора – под видом полемики обратить внимание читателя на некоторое пикантное обстоятельство, которое, не будь этого акцента, могло бы пройти мимо сознания читателя. Прецедент значим – и повторен в «Евгении Онегине». К строкам описания сна Татьяны:
Онегин тихо увлекает
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью…
– делается авторское примечание: «Один из наших критиков, кажется, находит в этих стихах непонятную для нас неблагопристойность». На самом деле цель примечания – вовсе не радение за благопристойность. Вопросы, для чего Онегин кладет девушку на скамью, что он дальше собирался делать, – могли возникнуть в сознании читателя, но они не обязательны: кто-то недогадлив, кто-то увлечен совсем иным. После авторского примечания подумать над поставленными вопросами придется каждому. Вновь под видом полемики автор сам старается, чтобы пикантное обстоятельство было непременно замечено.
В «Онегине» остается рецидив на уровне шутки, в «Руслане» поэт резвится во всю силу. Попробуем уточнить, какую же цель ставит перед собой сам творец?
Возьмем на заметку два фрагмента. Первый – «Посвящение».
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.
Второй фрагмент – еще одно обращение:
Но ты поймешь меня, Климена,
Потупишь томные глаза,
Ты, жертва скучного Гимена…
Я вижу: тайная слеза
Падет на стих мой, сердцу внятный;
Ты покраснела, взор погас;
Вздохнула молча… вздох понятный!
Ревнивец: бойся, близок час…
При некотором сходстве двух рассуждений различия между ними очень существенны. В первом фрагменте ощущается дистанция между поэтом и адресатами его посвящения. Автор называет свое сочинение «труд игривый», «песни грешные». Красавицы, девы, которым адресована поэма, способны на «трепет любви», поэт не ставит задачей обратить своих читательниц в свою веру, ему достаточно малого внимания, подаренного «украдкой». Во втором фрагменте у поэта с некоей символической Клименой полное единодушие: «грешные песни» разжигают в читательнице страсть к греху; «жертве скучного Гимена» хочется веселья вне брака, и поэт подталкивает подобную решимость. Получается: поэт воспевает чувственность, насаждает чувственность и доволен, когда это дает результат.
Почему так происходит? Потому что поэма создается в годы, когда любви чаще находится синоним сладострастье. Правда, в поэме перемешивается древнее и современное; древнее ставится выше: «любовь и дружбу старых лет» поэт полагает «незнаемыми в мире» (в современном мире).
Чем же выделена «та» любовь? Тем, что предполагает верность; в остальном же она тоже держится на сладострастье. Ныне поэт исключает верность из числа добродетелей.
Общий сладострастный элемент любви поэт ценит всего выше, и поэма сочиняется не с желанием упрекнуть современников опытом предков, а с намереньем (как в «Онегине» сказано) «жар сердца успокоить». В результате древнее подтягивается к современному, а обращение к героине поэмы перерастает в обращение к современнице – прототипу героини. Зигзаг совершает мысль поэта: начинает он с описания нрава героини, очень быстро сбивается на черты прелестницы, а под конец видит только это, причем открыто увлекается «сюжетом» своего же послания «К Щербинину» («Кто Наденьку, под вечерок, / За тайным ужином ласкает…»). Контрастный образ Дельфиры эмоционально дан вполне отчетливо, в ней «духовность» вытеснила природные инстинкты, и это ее не красит.
Отчего же планка духовности опущена столь низко, если вообще имеет какое-либо значение? Ответ найдем и в поэме, и опять он адекватен авторскому выбору, который определен в лирике. Вещает Финн:
Я к ней – и пламень роковой
За дерзкий взор мне был наградой,
И я любовь узнал душой
С ее небесною отрадой,
С ее мучительной тоской.
По мысли поэта, непременно так: если любовь познается «душой», то состояние влюбленного обязательно раздваивается. А между тем желанна «небесная отрада» – и несносна «мучительная тоска». Как сохранить одно, избавясь от другого? Выбрать отношения проще, без «души»; «отрада» будет, пусть не небесная, зато без тоски…
Итак, выбор сделан? Он надежен? Увы, нет обретений без потерь. Искателей сладострастья подстерегает свой удар.
Но есть волшебники другие,
Которых ненавижу я:
Улыбка, очи голубые
И голос милый – о друзья!
Не верьте им: они лукавы!
Страшитесь, подражая мне,
Их упоительной отравы
И почивайте в тишине.
Воспевая чувственность, поэт сохраняет внутреннюю честность: он знает обаяние сладострастья – и расхваливает его, но он испытывал и острое разочарование – и не умалчивает о том.
Альтернатива сладострастью разработана в поэме менее активно, чем воспевание сладострастья, но опустить этой попытки тоже нельзя.
После долгих и трудных испытаний Руслан освобождает милую, желанную супругу, но он обнаруживает ее объятой волшебным сном. Витязю не пришлось терзаться загадкой: голосом Финна он утешен и ободрен. Но вновь возникает пикантная ситуация: после долгой разлуки Руслан держит в руках обретенную супругу – и пылает неутоленной страстью. Поэт не отказывает себе в удовольствии подробно живописать эту острую ситуацию, обрамляя ее всякими ассоциациями, но сдержанность «славного витязя» дает основание для нравственного вывода: «Без разделенья / Унылы, грубы наслажденья…»
Есть и еще пример, пример Ратмира, обретшего подругу и ради нее отвергнувшего все иные соблазны жизни.
«Мой друг, – ответствовал рыбак, –
Душе наскучил бранной славы
Пустой и гибельный призрак.
Поверь: невинные забавы,
Любовь и мирные дубравы
Милee сердцу во сто крат –
Теперь, утратив жажду брани,
Престал платить безумству дани,
И, верным счастием богат,
Я всё забыл…»
Ратмир преодолевает даже соблазн взглянуть на когда-то пленявшую его Людмилу: в его новой жизни ни к чему для него какие-то всплески того, что твердо оставлено за чертой прошлого. Опыт отделенных от поэта героев уже позволяет включать в арсенал ценностей «верное счастье».
Опыт поэмы и опыт лирики не полностью совпадают в своих объемах, но соотносимость одного и другого очень велика; в разных формах поэт поет одну песню. Не только в Лицее, когда личный опыт отсутствовал либо был незначительным, но и теперь, когда поэт «на свободе» и его опыт стал широким и разнообразным, опыт литературный не утратил упреждающего, потенциального, воспитывающего значения, пусть даже переход литературно постулируемого принципа в практику происходит подчас отнюдь не легко и не сразу.
5
Поэт очень своеобразно пользуется мудростью поговорки «Свято место пусто не бывает». В стихотворении «Платонизм» красноречиво признание: «Ты молишься другому богу…» В контексте стихотворения переадресовка молитв мотивирована: героиня послания, Лидинька, страшится Эрота, «проказника милого», чурается Гименея и сознательно предпочитает им «другого бога», «брата любви». Но слово произнесено, и оно хорошо выражает пушкинское вольнодумство, не отрицание официоза, но замену его другими, подчас игривыми установлениями. Еще пример:
Когда сожмешь ты снова руку,
Которая тебе дарит
На скучный путь и на разлуку
Святую библию харит?
Амур нашел ее в Цитере,
В архиве шалости младой.
По ней молись своей Венере
Благочестивою душой.
«Когда сожмешь ты снова руку…»
Моленье «другому богу» совсем не обязательно носит иронический характер. Вот начало взволнованного, просветленного лирического послания:
Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой
И скромную семьи моей обитель!
Домовому
Вера в домового – вера домашняя, неофициальная, подкрепленная фольклорной традицией. Она может быть истовой, но может – шутливой или полушутливой (по пушкинскому стихотворению и не определить, какая она). Такая неопределенность на пользу стихотворению; в конце концов, здесь пафос совсем не в кодексе веры, но в любви поэта к образу жизни, к домашнему очагу, к кругу милых предметов. Соответственно, такой вере – добродушной, неритуальной, непринужденной, свободной – поэт готов отдать предпочтение.
Сменой настроений интересно стихотворение «К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего сада»: здесь сочетаются жанровые черты эпиграммы и мадригала. Ирония адресована святоше:
Митрополит, хвастун бесстыдный,
Тебе прислав своих плодов,
Хотел уверить нас, как видно,
Что сам он бог своих садов.
Возможно всё тебе – харита
Улыбкой дряхлость победит,
С ума сведет митрополита
И пыл желаний в нем родит.
Итоговая строфа формально продолжает изложение переживаний персонажа, над которым поэт откровенно подсмеивается, но этот персонаж практически уходит из поля зрения, там остается только предмет его воздыханий. Но тут выясняется, что главный адресат послания заслуживает восхищения, его не задевают стрелы иронии (разве что чуть-чуть рикошетом, за то, что нехотя старика свела с ума). Годом раньше поэт и сам попадал под обаяние этой женщины («Экспромт на Огареву», 1816). Теперь он, пересказывая взгляд незадачливого персонажа, делает это с такой горячностью, с таким темпераментом, что фактически проговаривается о своем чувстве:
И он, твой встретив взор волшебный,
Забудет о своем кресте
И нежно станет петь молебны
Твоей небесной красоте.
Здесь предвосхищается то настроение, которое позже сконденсируется в принцип «Ты молишься другому богу…» Сам поэт находит эту ситуацию вполне естественной, отчего в финале и звучит, взамен голосу персонажа, его собственный поэтический голос. Но в целом стихотворение сохраняет пикантность ситуации, поскольку в положение меняющего веру поставлен человек, давший обет верности Богу; грех моленья «другому богу» многократно усиливается.
Такая ситуация интересна поэту – и он к ней возвращается в ином жанровом (балладном) ключе («Русалка»). Начало баллады близко напоминает ситуацию незавершенной лицейской поэмы «Монах».
Над озером, в глухих дубровах
Спасался некогда монах,
Всегда в занятиях суровых,
В посте, молитве и трудах.
Уже лопаткою смиренной
Себе могилу старец рыл –
И лишь о смерти вожделенной
Святых угодников молил.
Но на этом сходство заканчивается. Искушение старцу Панкратию («Монах») досталось полегче (всего лишь юбка), и козни дьявола искушаемый легко раскусил, и одержал победу над искусителем. В балладе искушение серьезнее.
И вдруг… легка, как тень ночная,
Бела, как ранний снег холмов,
Выходит женщина нагая
И молча села у брегов.
По народной традиции на ритуальное число «три» ориентирован сюжет баллады. Уже первое явление русалки производит на монаха катастрофическое воздействие.
Всю ночь не спал старик угрюмый
И не молился целый день…
После второго явления русалки монах уже ни о чем другом и думать не может.
На третий день отшельник страстный
Близ очарованных брегов
Сидел и девы ждал прекрасной…
Концовка оставлена непроясненной. Достоверно известно одно: «Монаха не нашли нигде…» Правда, есть уточняющее сведение: «…бороду седую / Мальчишки видели в воде». Но это сведение не наверняка – не перепутали ли чего мальчишки? Даже если принять эту версию, остается неясной причина смерти монаха: увлекла ли его в воду русалка, сам ли он покончил с собой, не дождавшись третьего явления русалки. А может, и не погиб монах, а ушел в иную жизнь – и не с русалкой вовсе, а с земной женщиной? Эпический рассказчик, наглядно в картинах описавший происшествие двух вечеров, над третьей картиной оставил завесу тайны.
«Русалка» вполне идет дорогой послания «К Огаревой…», причем обобщенный образ безымянного монаха выгодно отличается от угадываемого лица митрополита. Ослабляется ирония: она лишь слегка задевает героя в первой строфе, поскольку святому образу жизни, которому подражает монах, поэт не склонен доверять. Картина искушения лишена иронии вовсе: поэт сочувствует желанию героя молиться «другому богу».
Пушкин не считает невозможным моленья двум богам:
Один лишь ты, любовник страстный
И Соломирской, и креста[14],
То ночью прыгаешь с прекрасной,
То проповедуешь Христа.
Тургеневу
Стихи обращены к Александру Ивановичу Тургеневу, служившему директором департамента духовных дел: в адресате поэту симпатично сочетание несоединимого; в шутке поэта нет язвительности.
Возможность перехода человека в иную веру используется в качестве поэтической метафоры, суть которой как раз и состоит в перенесении свойств и признаков одного предмета на другой; происходит и переход от одного значения слова к другому (от веры как вероисповедания к вере как умонастроению в самом широком и разнообразном содержании понятия); естественно, что такой прием легко выходит на комический эффект.
В метафорическом значении набожность включается элементом характеристики приятелей-эпикурейцев: «Венеры набожный поклонник…» («N. N. (В. В. Энгельгардту)»).
В лицейский период ирония Пушкина над вопросами веры смягчалась благодаря античным одеждам обрядности: «чужая» вера не понуждала к принятию ее всерьез. По мере снижения удельного веса античной образности она замещалась образностью христианской: поэт играл с огнем, поскольку ироничности при пользовании христианской символикой нимало не убавилось.
Прямые обращения к Богу у Пушкина насквозь ироничны. Таков зачин четвертой песни «Руслана и Людмилы»:
Я каждый день, восстав от сна,
Благодарю сердечно бога
За то, что в наши времена
Волшебников не так уж много.
К тому же – честь и слава им! –
Женитьбы наши безопасны…
Их замыслы не так ужасны
Мужьям, девицам молодым.
Можно было бы попытаться увидеть здесь предпочтение христианской религии перед религией языческой; но для этого потребовалось бы принять означенную молитву всерьез и весь фрагмент лишить столь откровенной ироничности: жертва недопустимая.
В общих суждениях Пушкина о жизни, о целях жизни разброс предельно широк – от беспросветно мрачных: «К чему мне жизнь? Я не рожден для счастья…» («Позволь душе моей открыться пред тобою…») – до беззаботно игривых: «Мы пьем восторги и любовь, / Для нас надежды, наслажденья…» («Нет, нет, напрасны ваши пени…»); в собраниях сочинений эти стихотворения сошлись и встали рядом. Но удельный вес контрастных заявлений неодинаков: пессимистические настроения – рецидив преодолеваемого кризиса, упоение радостями жизни – лейтмотив в пушкинской поэзии петербургского периода.
В философской лирике трехлетия варьируется и развивается традиция лицейской лирики: жизнь быстротечна, она проходит природой установленные стадии; надо ловить ускользающие радости жизни, уметь ценить их. Конечная человеческая жизнь вписывается в поток бесконечного исторического времени. Одно с другим несопоставимо. «Мгновению жизни» противостоит «веков завистливая даль». Но это драматичное для человека соотношение поэта не тревожит. Он помнит о смертности человека и пишет о смерти. Но больше его привлекает жизнь и ее радости.
Своеобразное кредо философской позиции Пушкина можно видеть в «Стансах Толстому». Стихи обращены к другу, который не по годам серьезен:
Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни,
На игры младости глядишь
С молчаньем хладной укоризны.
Поэт не против серьезности друга, но считает ее преждевременной:
Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодных истины забот
И бесполезных размышлений.
Адресат «Стансов» вполне может восприниматься как «юноша степенный»; но тогда он, по определению («К Каверину»), «смешон»? Однако в «Стансах» никакого иронического оттенка нет. Возможно, поэт помнит о своей пережитой «степенности» периода кризиса и не спешит ее осудить. Было время – поэт сам выпадал из типового хода времени. Теперь он судит об индивидуальной, а не типовой судьбе – с пониманием, но не одобрением, защищая типовое установление.




