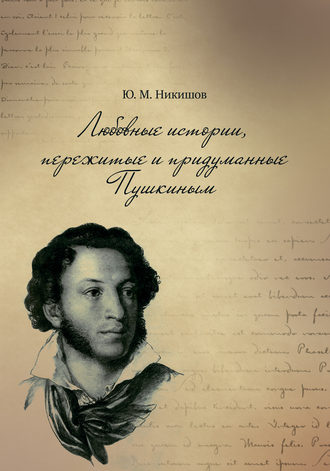
Юрий Никишов
Любовные истории, пережитые и придуманные Пушкиным
Глава 3. «Бурь порыв мятежный» (1817–1820)
1
Три года столичной жизни – может быть, самый счастливый период жизни и творчества Пушкина, если под счастьем разуметь высокое совпадение устремлений личности и благоприятных условий для их реализации. Еще на лицейской скамье согретый вниманием корифеев современной литературы – Державина, Жуковского, Батюшкова, Вяземского, принятый полноправным членом в «Арзамас», Пушкин в гуще современной литературной жизни. Диапазон реальных впечатлений необозрим – от высших духовных общественных исканий (в легальных формах; нелегальные организации Пушкина отторгают) до чувственных утех. Кстати, этот разброс интересов предопределил и существенную разницу в восприятии Пушкина как современниками, так и в последующем исследователями его жизни и творчества.
Пушкин бывал самоироничен, как, например, в такой автоэпиграмме:
«Больны вы, дядюшка? Нет мочи,
Как беспокоюсь я! три ночи,
Поверьте, глаз я не смыкал».
– «Да, слышал, слышал: в банк играл».
Но если Пушкина, как впоследствии – и его героя, воспринимать только как «жертву бурных заблуждений», значит – очень немногое понимать в нем. Указанные годы – это годы самоопределения личности. Это напряженная и творчески продуктивная пора. Отбывая в ссылку, Пушкин успел не только закончить, но и сдать в печать «Руслана и Людмилу». Он готовил к изданию первую книгу лирики: обстоятельства сорвали реализацию этого издания; но дружескому кругу (а это и основной круг тогдашних читателей) лирика поэта была широко известна. Уже в эти годы было признано, что Пушкин занял первое место среди русских поэтов.
Пушкин иногда позволяет себе забывать, что он прежде всего поэт; он бывает демонстративен, подчас готов поставить радости жизни выше упоения поэзией: «Поэма никогда не стоит / Улыбки сладострастных уст» («Тургеневу»). Обычно поэзия Пушкина близка к жизни и отлично уживается с нею. Но тут лихое перо вот куда завело! Мало того, что жизни отдано предпочтение, тогда как поэтические упражнения помянуты с явным пренебрежением, – приоритет отдается ценностям сомнительным. Нарочитость мотива послания «Тургеневу» очевидна. Тем не менее встретятся и еще размышления, где ценности жизни будут поставлены выше ценностей поэзии. Таково вступление к шестой песне «Руслана и Людмилы» (с переменой лица); в послании «Тургеневу» упоминается о некой Нинете, чьей улыбкой дорожит поэт, теперь сама Нинета (ей подобная) становится адресатом лирического пассажа: «Любовь и жажда наслаждений / Одни преследуют мой ум». Правда, до конфликтной ситуации тут не доходит, но причиной тому не позиция поэта, готового предпочесть «жажду наслаждений» «звукам лиры дорогой», а снисходительность героини, поощряющей певца к творчеству.
Но ты велишь, но ты любила
Рассказы прежние мои,
Преданья славы и любви;
‹…›
Решусь; влюбленный говорун,
Касаюсь вновь ленивых струн;
Сажусь у ног твоих и снова
Бренчу про витязя младого.
Сделаем поправку на то, что позиция поэта демонстративна, поскольку провозглашаемое предпочтение «наслаждений» остается декларацией и не подтверждается практикой. Но и оставить без внимания даже крайность тоже нельзя. Расклад ценностей тут не абсолютный, а ситуативный, и любопытен предел, которого достигает мысль поэта хотя бы и в азарте.
Нет надобности мотивировать исключительную важность трехлетия старта самостоятельной жизни для формирования личности поэта. Отмечу только, что на советском этапе нашей истории особое внимание уделялось формированию гражданской позиции Пушкина. Происходило и это! Но раскладка интересов в сознании поэта (в «Гавриилиаде») иная:
Поговорим о странностях любви
(Иного я не смыслю разговора).
Еще об одной «любовнице» как не упомянуть: Пушкин любит рисовать портреты своей музы. Муза обычно представала в освященном литературной традицией облике богини, и это понятно: если муза – явление не индивидуальное, а родовое (для всех поэтов), то для всех, изначально и одинаково, она и предстает богиней. Этот смысл не утрачен и у Пушкина, но примечательно, что в черновом незавершенном наброске «Наперсница волшебной старины…», в отрывке «Любовник муз уединенный…» (1818), в посланиях «Жуковскому» и «Дельвигу» (1821) муза принимает облик… прелестницы!
Облик музы-прелестницы исключительно важен для понимания профессионально-поэтических медитаций Пушкина. Однако не путем плавных переходов, но путем контрастных отталкиваний в творчестве поэта возникает муза совсем иного облика. Это связано с решительным возрастанием роли политической, гражданской лирики: очевидно, что муза-прелестница этой роли соответствовать не может.
«Вольность», по закону жанра, включает композиционный зачин: обращение к главному (часто – заглавному) предмету размышлений; Пушкин совмещает с этим мотивом обращение к музе:
Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру…
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.
Открой мне благородный след
Того возвышенного Галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.
Полемический пафос резок. Для целей и задач оды «воспеть Свободу миру» и «на тронах поразить порок» привычная манера не пригодна. Отсюда бескомпромиссные ряды: «Цитеры слабая царица», «венок», «изнеженная лира» – и «Свободы гордая певица», «возвышенный Галл», «гимны смелые».
«Вольность» – не единственное произведение, где объявлена подобная антитеза. Отречением начинается известное послание «К Чаадаеву»:
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман…
Послание к Чаадаеву – очень личные стихи Пушкина. Отказ от обмана «любви, надежды, тихой славы» – это (объявленное) расставание Пушкина с кругом забот поэта-эпикурейца, поклонника «легкой поэзии», мотивам которой заплачена щедрая дань в лицейских стихах. В первой строке послания исчислены предметы поэзии, от которых и провозглашается отказ.
Итак, пушкинская муза в стихах данного периода предстает в двух ликах: муза-«прелестница» и муза – «Свободы гордая певица». Если разобраться, это, как следует из первоисточника, сестры, но каждая с настолько своенравным характером, что по-житейски им было бы трудно уживаться в одной семье. Конфликты между ними реальны, мы их и наблюдаем в пушкинских стихах. Удивительнее другое: широта пушкинской поэзии, ее стремление заглянуть во все уголки бытия включают не только центробежные силы – значительнее их силы центростремительные. Разброс картин и мнений представлен в пушкинской поэзии, но даже крайности взаимодействуют, стремление к синтезу преобладает.
Вольнолюбивая муза старательно пытается отмежеваться от легкомысленной сестры: это получается, но в отдельных ситуациях. Процесс имеет свои законы: попытки обособлений слабее корневых связей. Так что сестры, как в жизни, могут ссориться; в конечном счете важнее их кровное родство.
«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня» совершенно недвусмысленно воплотили тенденцию к обособлению певицы Свободы. Но гони в дверь – влетит в окно! Послание «К Чаадаеву», начинающееся отрешением от «легких» устремлений, включает сравнение, явно навеянное музой-прелестницей:
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Сравнение должно было бы восприниматься странным, неестественным, но волшебник Пушкин демонстрирует чудо: контрасты уравниваются, силы синтеза удерживают в единстве чрезвычайно разнородные детали. Образ жизни, который ведет Пушкин, явно противостоит аскетичной, спартанской модели поведения, которую культивируют декабристы. В конечном счете Пушкин оказывается проницательнее и дальновиднее, а его установка на полноту жизни – теплее и гуманнее: не противопоставлять одно другому, а уметь ценить все, причем с точной оценкой, что чего стоит.
Удивительно, что и слово «свобода» у Пушкина мерцает смыслами: это и состояние духовной раскрепощенности человека, это и явление общественное, гражданское, политическое. Разумеется, можно провести дифференциацию понятия, выделить тексты, где содержание слова конкретизируется, тяготеет к однозначности. Но для Пушкина более характерно, когда слово многозначно, и даже тогда, когда акцентировано одно значение, оно не исключает иных, а подразумевает их, контактирует с ними. Приведу здесь (чтобы к теме более не возвращаться) стихотворение 1821 года.
Эллеферия, пред тобой
Затмились прелести другие,
Горю тобой, я вечно твой,
Я твой навек, Эллеферия!
Ее пугает света шум,
Придворный блеск ей неприятен;
Люблю в ней пылкий, правый ум.
И сердцу глас ее понятен.
На юге, в мирной темноте
Живи со мной, Эллеферия,
Твоей…… красоте
Вредна холодная Россия.
«Эллеферия, пред тобой…»
«Эллеферия» – по-гречески «свобода». Но это же слово – и женское имя; соответственно жанр стихотворения раздваивается: перед нами и политическое стихотворение, и любовное послание, где героиня – именно женщина с привычками, с характером и неотразимым обаянием. Как круто сказано: «пред тобой / Затмились прелести другие…» Утверждение допускает двойное толкование. Читаем стихотворение обращенным к женщине: здесь клятвенное предпочтение, отданное одной перед всеми остальными. Видим в послании обращение к свободе: речь идет об изменении приоритетов в иерархической шкале системы духовных ценностей. Пушкин демонстративно сводит воедино штрихи и детали, которым уместнее было бы образовывать собственные ряды, но поэту необходимо именно взаимообогащающее совмещение: обаятельное женское лицо только добавляет притягательности свободе; интимное чувство прекрасно уживается с чувством гражданским.
Умение преодолеть во многом внешнее противостояние музы-прелестницы и музы – певицы Свободы еще раз явлено Пушкиным, теперь как воспоминание, в восьмой главе «Онегина». Тут смешение особенно демонстративно, элементы противостояния двух обликов музы сняты совершенно. Решительно надлежит истолковать обозначение «молодежь минувших дней»: это молодежь декабристского круга. Однопланово показан и облик музы: резвая муза, ветреная подруга, вакханочка – это не комбинированный портрет, это нарочито однозначно показана хозяйка «изнеженной лиры». Но Пушкин находит точнейший ракурс: страстей много, а правит ими «единый произвол». Вот почему вакханочке не зазорно явиться на пир спартански настроенной «молодежи минувших дней»; в тон им она может выбирать и песни не развлекательные, а героические. Элементы картины разнородны, а сплав поразительно органичен; то и другое придает уникальность пушкинскому восприятию мира.
2
Теперь войдем в ту сферу, где муза-прелестница – полновластная хозяйка. Поэтическая тема «любовь» – это целый океан содержания. Любовь нескончаемо многообразна как гамма отношений, которые возникают между людьми. Слово богато – как мир.
Искрится оттенками это слово в лирике Пушкина. Казалось бы, его поздние лицейские стихи создают прочную базу для нового духовного взлета: элегический цикл обогатил поэта образом незабвенной, была дана клятва хранить эту любовь вечно. Вспышка платонической любви Пушкина просто удивительна силой потрясения; такие глубокие переживания не могут пройти бесследно.
Первые стихотворения петербургских лет подтверждают эти ожидания. Я уже обращался к посланию «К ней» (1817) в связи с рецидивом кризисных настроений и преодолением их. Необходимо отметить еще некоторые детали.
Но вдруг, как молнии стрела,
Зажглась в увядшем сердце младость,
Душа проснулась, ожила,
Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.
Всё снова расцвело! Я жизнью трепетал;
Природы вновь восторженный свидетель,
Живее чувствовал, свободнее дышал,
Сильней пленяла добродетель…
Хвала любви, хвала богам!
Вновь лиры сладостной раздался голос юный,
И с звонким трепетом воскреснувшие струны
Несу к твоим ногам!..
Закономерно ставятся рядом «любовь» и «добродетель». Это нормальное, единственно естественное сочетание, если в любви видеть приоритет духовного содержания: такая любовь облагораживает человека, развивает его внутренние силы, побуждает требовательнее смотреть на себя и вокруг себя.
А рядом с посланием «К ней» идут стихи о княгине Е. И. Голицыной, воссоздающие идеальный облик женщины; выпуклость портрета оттеняется контрастным отсветом. Опять на первый план выдвинуты духовные черты.
Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина – не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?
Отечество почти я ненавидел –
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.
Здесь важно отметить равенство отношений и уровень, на котором оно устанавливается: рядом с духовно богатой женщиной в мужчине возникает стимул собственного внутреннего роста.
Стихотворения «Краев чужих неопытный любитель…» и «К ней», близко стоящие к элегическому циклу и перенимающие уровень духовного отношения к женщине, могли бы наметить устойчивую тенденцию. Этого не случилось. В стихах о Голицыной духовное поклонение женщине не предполагает иных, кроме духовных, отношений. В послании «К ней» вспышка влюбленности показана внезапной и мгновенной – «вдруг, как молнии стрела…» В контексте пушкинской лирики этого времени видно: так же «вдруг», быстро, как вспышка молнии, это чувство и гаснет.
Настроение стихов о Голицыной с поклонением духовно содержательному облику женщины быстро проходит. Пушкин не ищет новых кумиров и не возвращается к прежним. Этот факт подтверждает, что Бакунина, мимолетно посетившая Лицей и посеявшая некоторую смуту в сердце Пушкина (и его друзей), не может считаться прототипом и героиней его элегического цикла: это стихи не о реальной возлюбленной, а об отсутствии возлюбленной. Кстати, после Лицея какие-то отношения Пушкина с Бакуниной продолжались. В петербургские годы Пушкин пишет серию мадригалов (сохранившиеся – «Мадригал М…ой», «К. А. Б* * *», «В альбом Сосницкой», «Бакуниной»): часть из них поэт напечатал, другая часть дошла до нас разными путями, минуя печать. Они однотипны по настроению, форму варьируя. По одному варианту поэт сразу берет предельную ноту комплимента, возвысить которую, кажется, уже не представляется возможным; от заключительной строки ожидается разве что отступление, оговорка; но нет: поэт находит-таки возможность усиления комплимента. По другому варианту в комплимент, тоже неожиданно, включается нечто на него не похожее, даже колкость; заключительная строка опровергает предыдущее, все расставляя на свои места. Выбираю именно мадригал в адрес Бакуниной:
Напрасно воспевать мне ваши именины
При всем усердии послушности моей;
Вы не милее в день святой Екатерины
Затем, что никогда нельзя быть вас милей.
«Вы не милее…» настораживает, сулит обидеть, но выдержана пауза – и комплимент обретает новое сияние, контрастируя с принижающей оговоркой. Изящный мадригал свидетельствует об искусстве поэта говорить комплименты, но не о глубине чувств поэта к адресату стихов. Соседство мадригала к Бакуниной с однотипными мадригалами к другим лицам подтверждает это.
Послания «К ней» и стихов о Голицыной оказалось недостаточно, чтобы возродить высокий духовный облик женщины, равный образу незабвенной или соотносимый с ним: образу незабвенной на неопределенное время назначено было угаснуть. Произошло это, возможно, по той причине, что настрадавшееся сердце убоялось пылких страстей, даже если они с положительным эмоциональным зарядом: любовь воспринимается синонимом страдания. Правда, иногда и страдание воспринимается отрадным. В послании «Тургеневу» любовь названа «милой сердцу мукой». Но подобный мотив не поддержан, мука сердца перестает восприниматься «милой».
В стихотворении «Мечтателю» поэт порицает адресата послания за то, что тот находит наслаждение «в страсти горестной» или, иначе говоря, рад своему пробудившемуся, но неутоленному желанию любить. Поэт не верит приятности такого переживания, считая чувство мечтателя самообманом.
Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель.
О если бы тебя, унылых чувств искатель,
Постигло страшное безумие любви;
Когда б весь ад ее кипел в твоей крови;
Когда бы в долгие часы бессонной ночи,
На ложе, медленно терзаемый тоской,
Ты звал обманчивый покой,
Вотще смыкая скорбны очи,
Покровы жаркие рыдая обнимал
И сохнул в бешенстве бесплодного желанья, –
Поверь, тогда б ты не питал
Неблагодарного мечтанья!
Подобная страсть губительна, потому что человек не властен над ней, напрасны даже мечты о возвращении покоя, напрасна мольба:
«Отдайте, боги, мне рассудок омраченный,
Возьмите от меня сей образ роковой;
Довольно я любил; отдайте мне покой…»
Но мрачная любовь и образ незабвенный
Остались вечно бы с тобой.
Такое вот странное по форме стихотворение написалось в 1818 году. Здесь внешняя адресованность некоему условному «мечтателю» понадобилась лишь как средство прикрытия страстной исповеди-воспоминания. «Мечтатель» – это в сущности не кто иной, как сам поэт периода 1816–1817 годов. Теперь поэт отрекается от себя былого и пережитой мучительной страсти. Если в последних строках прямо прорвался «образ незабвенный», он упрятан в глубины памяти – и подальше. Сильная любовь воспринимается как «мрачная любовь»; забыть ее невозможно, но и возродить или повторить ее поэт не желает.
В «Мечтателю» сказываются рецидивы кризиса 1816–1817 годов. Итоги кризиса имеют позитивное значение для духовного возмужания поэта. Но духовные поиски художника (равно как и прогресс искусства в целом) решительно невозможно представить линейно и эволюционно – как простое накопление ценностей и углубление их. Обретения не обходятся без потерь. Опыт неразделенной и неутоленной страсти, где поэт прошел школу целомудрия и нравственной закалки, привел к душевной усталости. Только проблеском («К ней» и «Краев чужих неопытный любитель…») обозначился порыв к установлению высоких духовных отношений – и с «елеем надежды». Усталое сердце испугалось сложностей жизни и пылких страстей, ищет отношений, что попроще. И если на поле гражданской лирики пушкинская муза-прелестница потерпела серьезное поражение, то на поле лирики интимной, любовной муза-прелестница берет решительный реванш; сила ее такова, что позволяет врываться в зону господства сестры – певицы свободы.
Программно Пушкин возвращается на позиции эпикурейства. Доминирует молодое фрондерство, бесшабашная легкость, с какими не ставится, а устраняется проблема.
Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем:
Право, нам таким бездельем
Заниматься недосуг.
Пусть остылой жизни чашу
Тянет медленно другой;
Мы ж утратим юность нашу
Вместе с жизнью дорогой…
И далее, опять-таки в духе лицейских фантазий живописно представив предсмертные забавы, поэт на той же ноте заключает:
Смертный миг наш будет светел,
И подруги шалунов
Соберут их легкий пепел
В урны праздные пиров.
Кривцову
Вроде бы о трагическом явлении ранней смерти идет речь, но ни намека на трагедию. Жизнь равна только юности – это благо, поскольку наполнена только радостями и лишена «остылых» уныний. Новоселье гроба поэта не пугает, потому что такой жребий вытягивается добровольно. «Легкий пепел» символизирует легкую жизнь и такую же легкую смерть. Система воззрений здесь именем не называется, но ее эпикурейский контур прозрачен.
Подобные же воззрения развиваются в послании «К Щербинину». Здесь провозглашается безмятежный образ жизни.
И мы не так ли дни ведем,
Щербинин, резвый друг забавы,
С Амуром, шалостью, вином,
Покамест молоды и здравы?
В отличие от послания «Кривцову» предполагается не жизнь, равная юности, а нормальная жизнь, со старостью. Но и в эту даль поэт смотрит с невозмутимым спокойствием, грядущие утраты принимая разумеющимися.
Но дни младые пролетят,
Веселья, нега нас покинут,
Желаньям чувства изменят,
Сердца иссохнут и остынут.
Тогда – без песен, без подруг,
Без наслаждений, без желаний –
Найдем отраду, милый друг,
В туманном сне воспоминаний!
Тогда, качая головой,
Скажу тебе у двери гроба:
«Ты помнишь Фанни, милый мой?»
И тихо улыбнемся оба.
«Дверь гроба» обозначена, но она не вызывает тревожных эмоций. Ракурс восприятия своеобразен. Истинные жизненные ценности всецело отнесены к юности. Они объявлены вечными, хотя юность не вечна. Просто с уходом юности ее ценности переходят из области практики в область воспоминаний (перевод реального в сферу сознания, замена первого вторым – это для Пушкина-поэта такой знакомый, такой интимно теплый процесс). Альтернативы ценностям юности не выдвигается. Расставание с оскудевшей на радости жизнью становится легким, не вызывающим никаких рефлексий.
Нам, отдаленным потомкам, не все ясно в этом стихотворении. Кто такая Фанни, упоминание о которой, не сомневается поэт, вызовет двойную улыбку? Щербинину это имя, вероятно, напоминало о чем-то приятном, а поэт всегда рад радости друзей. Для подобных деталей не обязательна расшифровка, ощущалась бы их эмоциональная атмосфера.
3
С самого начала рассматриваемого периода происходят значительные перемены в форме пушкинской любовной лирики. Закончилось время доопытной литературной игры, когда, лишенное возможности корректировки практикой, воображение поэта устремлялось вперед и нередко обеспечивало прогнозирующий, даже пророческий характер стихов. Теперь поэт с головой погружен в непосредственные впечатления бытия. Очень многие произведения становятся страницами его лирического дневника. Обобщенное их звучание не уничтожается и все-таки слабеет.
Еще разительнее перемены в содержании любовной лирики. Они вызваны не изменой поэта какому-то лицу, не разочарованием в нем, даже не подвижками в шкале ценностей. Изменился образ жизни поэта. Начался этап со своим кодексом чести, с новыми устремлениями. Пушкин в эти годы нисколько не помышляет о жизни семейной; в черновых вариантах «Руслана и Людмилы» это оговорено прямо:
Бог весть, увижу ль наконец
Моей Людмилы образец!
К ней вечно сердцем улетаю…
Но с нетерпеньем ожидаю
Судьбой сужденной мне княжны
(Подруги милой, не жены,
Жены я вовсе не желаю).
Но поэт не ищет и постоянной подруги жизни, не стремится к любви единственной и беспредельной. Он не нуждается в любви-переживании и вполне довольствуется чувственными утехами.
Безграничное слово «любовь» охватывает и такого рода отношения, и все-таки в этой сфере ему несколько неловко, оно скудеет без духовного содержания, которое непременно предполагает. Чуткий к слову Пушкин умеет назвать переживаемое абсолютно точно: «Люби недевственного брата, / Страдальца чувственной любви!» («Когда сожмешь ты снова руку…»); «Я хладно пил из чаши сладострастья» («Позволь душе моей открыться пред тобою…»); «…о таинства ночей, / Воспетые цевницей сладострастной…» («Мне вас не жаль, года весны моей…»). Такой образ жизни мстит даже опасностью для физического здоровья, о чем тоже находим свидетельство:
За старые грехи наказанный судьбой,
Я стражду восемь дней, с лекарствами в желудке,
С Меркурием в крови, с раскаяньем в рассудке…
Отрывки, 1819
(См. о том же в развязном и циничном, передающем стиль компанейского общения письме к П. Б. Мансурову от 27 сентября 1819 года; письмо не удобно для цитирования).
Подобного рода отношения предопределяют выбор героини.
Лаиса, я люблю твой смелый, вольный взор,
Неутолимый жар, открытые желанья,
И непрерывные лобзанья,
И страсти полный разговор.
Люблю горящих уст я вызовы немые,
Восторги быстрые, живые…
Этот незавершенный черновой набросок 1819 года показателен. Равенство партнеров здесь тоже абсолютное, как в стихах «Краев чужих неопытный любитель…», только уровень отношений совсем иной. Поэт ценит в названной условным именем героине то, что ей реально присуще и что она сама с готовностью демонстрирует своим посетителям («смелый, вольный взор», «открытые желанья» и пр.).
Еще фрагмент такого рода – отрывок послания
«К * * *»:
Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный,
Без томной робости твой ловит светлый взор,
Движенья милые, игривый разговор
И след улыбки незабвенной.
Так что открытому, смелому, вольному поведению женщины должно соответствовать по выработанному для таких отношений этическому кодексу аналогичное («без томной робости») поведение мужчины. (Попутно отмечу неуемную щедрость поэта: непритязательной героине в последней строке отдан эпитет, позаимствованный из иного, лучшего контекста.)
Еще откровеннее «договорные» отношения представлены в послании «О. Массон»: адресат здесь аттестуется «жрица наслажденья», испрашивается встреча «ради резвого разврата». Что уж совсем ставит эти отношения «по ту черту» – поэт пишет не от личного «я», а от имени компанейского кружка «мы». Правда, героиня может и подтрунивать над своими знакомцами.
Поцелуем сладострастья
Ты, тревожа сердце в нас,
Соблазнительного счастья
Назначаешь тайный час.
Служанке же дается наказ не впускать явившихся посетителей. Привожу концовку:
Ради резвого разврата,
Приапических затей,
Ради неги, ради злата,
Ради прелести твоей,
Ольга, жрица наслажденья,
Внемли наш влюбленный плач –
Ночь восторгов, ночь забвенья
Нам наверное назначь.
Да, тут нет никаких иллюзий, нет интриг и обманов, установлено равенство сторон в приятии таких отношений.
Легко назвать типовое имя героини пушкинских стихов – это прелестница. Тогда видно, что уже в многолетнем (с Лицея) соперничестве между прелестницей и несравненной, как только Пушкин выходит «на свободу», прелестница берет реванш и решительно вытесняет несравненную.
Интерес Пушкина к типу прелестницы настолько велик, что героине уже тесно в рамках лирических стихов, и она претендует на роль заглавной героини его первой светской повести «Наденька» (1819), пусть лишь слегка начатой.
Выбор типа главного кумира поэта этой поры активно влияет на характерность авторской позиции. Вначале приведу контрастный пример. В незавершенном отрывке мадригала к актрисе Колосовой восклицается:
О ты, надежда нашей сцены!
Уж всюду торжества готовятся твои,
На пышных играх Мельпомены,
У тихих алтарей любви.
«Утихих алтарей любви» – так заведено, и это мудро. Но в петербургские годы Пушкину это установление кажется пресным. Тихое обращается в бурное, тайное афишируется. С прикрытого сдернут покров, вещи называются своими именами, чаще все же с прикрытием эвфемизмами, а подчас и без них.
Наиболее опасное следствие понижения этического идеала – появление цинизма при изображении женщины. Обстоятельства создания стихотворения «27 мая 1819» комментирует П. П. Каверин: «Щербинин, Олсуфьев, Пушкин у меня в Петербурге ужинали; шампанское на лед было поставлено за сутки вперед; случайно тогдашняя красавица моя мимо шла; ее зазвали; жар был несносный; Пушкина просили память этого вечера в нас продолжить стихами; вот они; оригинал у меня».
Веселый вечер в жизни нашей
Запомним, юные друзья;
Шампанского в стеклянной чаше
Шипела хладная струя.
Мы пили – и Венера с нами
Сидела прея за столом.
Концовка стихотворения печатается с заменой слова (в относящемся к той же поре послании «Мансурову» – целой строки) точками. Смена повествовательного тона особенно показательна: пусть вначале идет речь о простых бытовых вещах, но изложение ведется с теплой, задушевной интонацией; однако поэт, уважая друзей, более чем неуважительно относится к их «красавицам».
Прецедент заразителен: женские образы проникают в жанр эпиграмм. Выбираю для примера такую, которая не связана с эротическими претензиями:
Всё пленяет нас в Эсфири:
Упоительная речь,
Поступь важная в порфире,
Кудри черные до плеч,
Голос нежный, взор любови,
Набеленная рука,
Размалеванные брови
И огромная нога!
На Колосову
Допустим, язвительность поэта имеет подтекст: театральная партия Семеновой выступает против ее соперницы Колосовой. Литературная форма произведения виртуозна: стихи начинаются в тоне мадригала – и незаметно набирают контрастные детали. Но по сути эпиграмма неэтична, поскольку вместо разбора игры актрисы переходит на личность. Адресат проявил великодушие: эпиграмма дошла до нас в сообщении самой актрисы. За свою нетактичность Пушкину пришлось приносить извинения (см. «Катенину»).
Несколько понятнее, когда подобный стиль отношений культивируется в рамках узкого кружка единомышленников, собутыльников: здесь естественна подогреваемая соперничеством бравада.
Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!
‹…›
Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и…….
Где с громким смехом сладострастье
Ведет нас пьяных на постель.
Юрьеву, 1819
Но нашедшая общий язык молодежь вовсе не желает таиться, она выставляет сокровенное напоказ, делает свое поведение демонстративным.
Пушкин обращает браваду в свое оружие, имея успех:
А я, повеса вечно-праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний…
Юрьеву, 1821
Пушкин упивается своими победами, в согласии с представлениями о цикличности жизни он оставляет за юностью все права на бесшабашные удовольствия; понимая, что юность не вечна, он спешит наполнить ее годы до отказа. О будущем он не думает, дозволяя ему прийти в свой черед. Поэт захлестнут впечатлениями бытия.
Давно ли тайными судьбами
Нам жизни чаша подана!
Еще для нас она полна;
К ее краям прильнув устами,
Мы пьем восторги и любовь,
Для нас надежды, наслажденья…
«Нет, нет, напрасны ваши пени…»
Разумеется, многозвучие жизни нельзя свести к одному тону, но не приходится колебаться в определении пушкинских приоритетов.
Умножайте шум и радость;
Пойте песни в добрый час:
Дружба, Грация и Младость
Именинницы у нас.
Между тем дитя крылато,
Ваc приветствуя, друзья,
Втайне думает: когда-то
Именинник буду я!
Именины
На поверку выясняется, что крылатое дитя празднует именины едва ли не ежедневно.
Большинство приведенных фрагментов в силу их конкретности воистину могут быть восприняты страницами пушкинского дневника. Эти страницы обладают некоторыми свойствами типизации, поскольку передают не только личный опыт, но и стиль кружкового приятельского общения. Сравнительно реже встречаются стихи, где обобщенность включена в природу жанра.
Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Всё непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность
И ласковых имен младенческая нежность.
Дориде
Данный портрет несколько отличается от портретов «жриц наслажденья»: тона и краски здесь несколько приглушены; в героине отмечены стыдливость (хоть и робкая) и непритворность; отношения именуются любовью; наконец, поэт говорит об индивидуальном чувстве, исключая наличие соперников. Правда, последнее основано лишь на вере, а поэт верит лишь потому, что «нужно верить». Возможно, известную мягкость деталей уместно объяснить простым предположеньем: предназначенностью данного стихотворения к печати. Суть отношений вполне типологична: в их основе – «желаний томный жар»; все остальное – чтобы не мешало им, а подогревало их.




