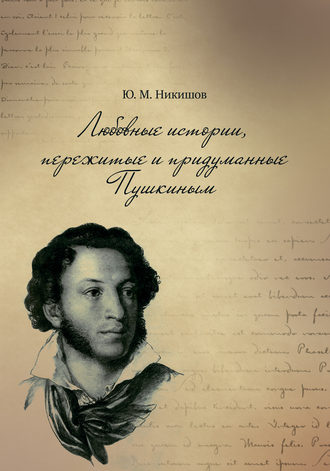
Юрий Никишов
Любовные истории, пережитые и придуманные Пушкиным
И нежная краса тебе дана,
И нравиться блестящий дар природы,
И быстрый ум, и верный, милый нрав;
Ты сотворен для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забав.
Они пришли, твои златые годы,
Огня любви прелестная пора.
Спеши любить и, счастливый вчера,
Сегодня вновь будь счастлив осторожно;
Амур велит – и завтра, если можно,
Вновь миртами красавицу венчай…
О, скольких слез, предвижу, ты виновник!
Измены друг и ветреный любовник,
Будь верен всем – пленяйся и пленяй.
Собственная жизнь поэта воспринимается наполненной преимущественно утратами и лишениями: это основной мотив «кризисной» лирики.
Часы идут, за ними дни проходят,
Но горестям отрады не приводят
И не несут забвения фиал.
Разлука
Но мне в унылой жизни нет
Отрады тайных наслаждений;
Увял надежды ранний цвет:
Цвет жизни сохнет от мучений!
Элегия («Счастлив, кто в страсти сам себе…»)
Веселие paссталося с душой.
Отверженный судьбиною ревнивой,
Улыбку, смех, и резвость, и покой –
Я всё забыл; печали молчаливой
Покров лежит над юною главой…
Элегия («Опять я ваш, о юные друзья!»)
Жизнь поэта (какою он сам представляет ее в стихах) настолько оскудела радостями, настолько поэт свыкся с мучениями, что мир духовных ценностей опрокидывается вверх дном: в ранг положительных ценностей переходит то, что недавно было их антонимами.
Я слезы лью; мне слезы утешенье;
Моя душа, плененная тоской,
В них горькое находит наслажденье.
Желание
Здесь все построено на оксюморонах. Наслаждение, опорное слово эпикурейства, сопровождено эпитетом «горькое». Душа привыкла стремиться к наслаждению – и ценит его, хотя, за неимением иного, оно стало горьким. В финале: «Мне дорого любви моей мученье…» Как так – дорого мученье? Впрочем, слова выпускать нельзя: дорого не мученье, дорога любовь; но уж такая судьба, что любовь несет не радость, а муку. И выбор возникает такой: либо мука вместе с любовью, либо жизнь без муки, но и без любви.
В «Желании» дано итоговое решение. Но в стихах Пушкина встречаем и сам процесс раздумий, набор вариантов, выбор между которыми сделать мучительно трудно.
Амур, уж я не твой,
Отдай мне радости, отдай мне мой покой…
Брось одного меня в бесчувственной природе
Иль дай еще летать надежды на крылах,
Позволь еще заснуть и в тягостных цепях
Мечтать о сладостной свободе.
Элегия («Я думал, что любовь погасла навсегда…»)
Да, это не тот выбор, когда категорично отбрасывается одно и не менее решительно утверждается другое. Тут каждое решение далеко от оптимального, каждое имеет лишь относительные достоинства и сопровождается чувствительным побочным отрицательным эффектом. Давайте оценим, какого рода задачи ставит перед собой юноша Пушкин. Совсем не важно, на каком материале они возникают. Неважно, что переживания аффектированы и литературно заострены. Но очень важен эффект самовоспитания, сам уровень мышления, решимость распутывать столь тугой узел противоречий.
Именно потому, что круг утверждаемых ценностей (применительно к личному опыту) резко сузился, мир на радости оскудел, представляет интерес, что для поэта сохранило хотя бы относительную привлекательность. Обратимся к принципиальному в этом плане стихотворению «Элегия» («Я видел смерть…»): здесь три последние «прости» – выделено самое дорогое. Исключим пока, оставив для отдельного разговора, третье, итоговое «прости», адресованное предмету роковой любви. Трудно комментировать первое – в силу его слишком широкой обобщенности: «Прости, печальный мир…» Второе «прости» неожиданное:
Прости, светило дня, прости, небес завеса,
Немая ночи мгла, денницы сладкий час,
Знакомые холмы, ручья пустынный глас,
Безмолвие таинственного леса,
И всё… прости в последний раз.
Задушевное обращение к природе неожиданно: обращение Пушкина к изображению природы до сих пор было эпично, служило преимущественно знаком времени и пространства; «лирически», как предмет непосредственного созерцания, природа практически не волновала поэта. Не происходит расширения зоны данного лирического мотива и в стихах рассматриваемого периода. «Осеннее утро», с которого уместно начать отсчет кризисного этапа, – исключение; кстати, это единственное стихотворение периода с «пейзажным» названием. Поэт старается оправдать название; правда, вначале картина утра не выходит за рамки типовой схемы, включающей пейзаж как знак времени:
Поднялся шум; свирелью полевой
Оглашено мое уединенье…
‹…›
С небес уже скатилась ночи тень,
Взошла заря, блистает бледный день…
Характерные осенние детали появляются лишь в конце:
Уж осени холодною рукою
Главы берез и лип обнажены,
Она шумит в дубравах опустелых;
Там день и ночь кружится желтый лист,
Стоит туман на волнах охладелых,
И слышится мгновенный ветра свист.
Здесь на короткое время произошло вычленение и обособление пейзажной картины; но в целом для стихотворения более значимо совмещение изображения природы и выражения состояния поэта: перед нами психологизированный пейзаж:
Уж нет ее… я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный;
На берегу, на зелени лугов
Я не нашел чуть видимых следов,
Оставленных ногой ее прекрасной.
Задумчиво бродя в глуши лесов,
Произносил я имя несравненной;
Я звал ее – и глас уединенный
Пустых долин назвал ее в дали.
К ручью пришел, мечтами привлеченный;
Его струи медлительно текли,
Не трепетал в них образ незабвенный.
Уж нет ее!.. До сладостной весны
Простился я с блаженством и с душою.
‹…›
Поля, холмы, знакомые дубравы!
Хранители священной тишины!
Свидетели моей тоски, забавы!
Забыты вы… до сладостной весны!
Этот редкий, в своем роде уникальный фрагмент в поэзии молодого Пушкина позволяет поставить вопрос объективно широкого содержания. Стихи поражают исключительной непосредственностью, будто бы лирический дневник, по счастливому озарению, еще и набело, еще и в стихотворной форме, моментально фиксирует все переливы сиюминутных и впечатлений, и переживаний. Правда, стремительный полет мысли скрадывает, делает неприметным (и неутомительным) немалое расстояние, которое надо было бы одолеть пешим ходом: побывать у берегов (пруда? озера? реки?), в глухом лесу, у ручья. Но дело в том, что ощущение непосредственности – это побочный результат высокой эмоциональности авторского переживания.
Осенние ассоциации наиболее устойчивы в элегическом цикле. Другие времена года не прописываются. Зима обозначена косвенной деталью; в стихотворении «Пробуждение» заглавный акт (по тексту это очевидно) происходит утром, не средь ночи, но помечено: поэт пробужден «во тьме глубокой». Это – достоверная, реальная примета зимнего короткого светового дня.
Большинство произведений Пушкина – обдуманные, выношенные произведения. Но происходило чудо: в акте творчества темперамент поэта возрождал давно пережитое, делал его переживаемым заново. В жизни Пушкин, конечно же, выделялся индивидуально, но это были человеческие отличия, не было на нем Аполлоновой печати. Но ведя, пусть с поправкой на темперамент, обычную для людей своего круга жизнь, Пушкин обладал исключительным, если так определить, боковым зрением. Не делая этого специально, он жадно впитывал впечатления бытия; когда надо было, они восстанавливались и возрождали непосредственность переживания.
Вот так получилось, что впечатления от общения с природой, кроме «Осеннего утра», еще остались невостребованными; но понадобилось вообразить последнее «прости» – и пришли на ум пока еще не оставившие формы клише знаки природы как символы значимого в мире. Допускаю побочное обстоятельство: мир поредел на духовные ценности, и в новой иерархии дорогим стало то, что раньше не поднималось на такую высокую ступень, когда-то занятую другими ценностями, ныне значение потерявшими.
Впрочем, не исключено ситуативное, настроенческое, эпизодическое высветление устремлений к природе. Вслед за тем в «Элегию» («Я думал, что любовь погасла навсегда…») проникает резкий эпитет: «в бесчувственной природе» (и это тогда, когда именно в сочувствии поэт остро нуждался!). Да, таков Пушкин: даже из утверждаемых ценностей он не творит кумира.
Диалектичность мышления поэта можно наблюдать и на обозначившемся уже в ранней лирике мотиве воспоминаний. Изначально этот мотив сопровождался светлой поэтической дымкой, он гармонировал с общим жизнерадостным тоном поэзии. Теперь набегают воспоминания неоднозначные. Порой они затрагивают мучительную область переживаний и вызывают душевный протест:
Зачем из облака выходишь,
Уединенная луна,
И на подушки, сквозь окна,
Сиянье тусклое наводишь?
Явленьем пасмурным своим
Ты будишь грустные мечтанья,
Любви напрасные страданья
И строгим разумом моим
Чуть усыпленные желанья.
Летите прочь, воспоминанья!
Засни, несчастная любовь!
Уж не бывать той ночи вновь.
Месяц
Итак, мотив осложняется, как и все в жизни и в лирике Пушкина. Но не отвергается, напротив, в новых условиях еще резче подчеркивается мотив светлых воспоминаний. Об этом в частности дневниковая запись «В альбом»:
Пройдет любовь, умрут желанья;
Разлучит нас холодный свет;
Кто вспомнит тайные свиданья,
Мечты, восторги прежних лет?..
Позволь в листах воспоминанья
Оставить им свой легкий след.
Как раз на фоне быстролетности жизненных переживаний, неизбежной смены ценностей воспоминаниям отводится роль константы. Но поэт не утяжеляет мысль: «легкий след» – не решение, а сама проблема; судьба воспоминаний уравнивается с судьбой самих переживаний – легкий след может исчезнуть, но может и не исчезнуть!
О том же – размышление «В альбом Пущину»:
Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,
Исписанный когда-то мною,
На время улети в лицейский уголок
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,
Неволю мирную, шесть лет соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья, –
Что было и не будет вновь…
Но акценты здесь расставлены резче. Жизнь неумолима: что было – не будет вновь. Но полет воспоминаний всесилен, они побеждают жестокое время.
Сознание Пушкина фиксирует и такое важное обстоятельство, что память способна производить переоценку ценностей.
Вся жизнь моя – печальный мрак ненастья.
Две-три весны, младенцем, может быть,
Я счастлив был, не понимая счастья;
Они прошли, но можно ль их забыть.
Князю А. М. Горчакову
Здесь глубоко схвачено: был счастлив – не понимая счастья. Но то, что не понималось когда-то, может быть понято потом. И выясняется, что собственную жизнь можно проживать не единожды, а многократно; в ней ничего нельзя поправить фактически, но мысленно ее можно пробегать в любом направлении, иначе расставляя акценты. И обнаруживаются потенциальные возможности найти опору в пережитом, чтобы увереннее идти в будущее. Воспоминания играют позитивную роль на путях преодоления Пушкиным первого кризиса.
В «кризисной» лирике находит подтверждение и развитие уже вполне сформировавшееся представление о цикличности жизни. Такие размышления получают чеканность формулы:
Всё чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг,
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный…
К Каверину
Это убеждение для Пушкина в сущности непререкаемо – и поэтому служит аргументом в принятии жизненных решений, в уточнении нравственно-этических оценок.
Мой век невидимо проходит,
Из круга смехов и харит
Уж время скрыться мне велит
И за руку меня выводит.
Пред ним смириться должно нам.
Кто применяться не умеет
Своим пременчивым годам,
Тот горесть их одну имеет.
Стансы (Из Вольтера)
Любопытно: и в послании «К Каверину» берутся как антитеза лишь полюса человеческой жизни (юноша – старик), и в «Стансах»:
Ты мне велишь пылать душою:
Отдай же мне минувши дни,
И мой рассвет соедини
С моей вечернею зарею!
Причем «каверинская» антитеза не исключает связующих звеньев («полудня» жизни); видимо, они подразумеваются, но опускаются за временной неактуальностью. Но в «Стансах» среднее звено нарочито отбрасывается, начало с концом связывается напрямую. В этом приходится усматривать отражение определенной аномалии, которая характеризует мечтательную жизнь поэта: совсем молодой человек, он лишен радости и веселья. Возникает чувствительное противоречие: молодой человек вынужден жить не по законам природы. В концовке «Элегии» («Опять я ваш, о милые друзья!») поэт констатирует: «И вяну я на темном утре дней». Ненормально, что утро «темное» (соответственно, приходится «вянуть», а не расцветать), но утро как указание на этап цикла жизни именуется своим словом. Однако ранее утверждалось:
…невидимой стезей
Ушла пора веселости беспечной,
Ушла навек, и жизни скоротечной
Луч утренний бледнеет надо мной.
Луч «утренний» бледнеет, пора веселости (= юности) ушла навек: но это если брать содержание жизни, а формально утру уходить рано. В типовую схему жизнь вносит вот такие неожиданные поправки.
Даже отмечая индивидуальную аномалию своей жизни, поэт все равно воспринимает ее в типологических градациях:
Печально младость улетит,
Услышу старости угрозы,
Но я, любовью позабыт,
Моей любви забуду ль слезы!
Элегия («Счастлив, кто в страсти сам себе…»)
Однако на данном этапе индивидуальное подавляет типовое, поскольку соответствует типовому лишь формально, зато противоречит по существу.
В ранней лирике не проводилась грань между воззрениями поэта и его друзей; теперь судьбы недавних друзей дифференцируются.
Твоя заря – заря весны прекрасной;
Моя ж, мой друг, – осенняя заря.
Князю А. М. Горчакову
Насколько усложнилось восприятие жизни! Прежде для Пушкина антитеза молодость/старость (в метафорическом выражении – рассвет/закат) была самодостаточна.
Но вот сопоставляются не предметы-антонимы, берется один предмет (заря), но в нем самом усматриваются контрастные признаки (весенняя – осенняя) – и сразу появляются новые оттенки, их много, их взаимодействие очень серьезно меняет прежний лик предметов.
Как объяснить противоречие? В послании «К Каверину» поэт утверждал, что смешон «юноша степенный». Но ведь, живя не по общему уставу, оставаясь молодым, однако утрачивая жизнерадостность юности, поэт и представал сам степенным юношей. Что есть, то и есть, только уточняется: степенный юноша смешон при взгляде на него извне, когда взгляд изнутри – совсем не до смеха.
Выпадение среднего звена и непосредственное соединение начального звена жизни с конечным («утреннего» с «вечерним» и «весеннего» с «осенним») – самое заметное изображение состояния, которое Пушкин несколько позже назовет «преждевременной старостью души».
3
Пушкин начинал широко и щедро. Для начинающего, причем совсем юного поэта круг его интересов удивительно разнообразен, особенно если принять во внимание, что в разработке основных мотивов – изобилие вариантов. Жадность на впечатления, нетерпение, побуждающее упреждающим образом духовно прочувствовать еще запредельный опыт, – все это черты складывающейся поэтической натуры, жизнерадостной и своевольной. И вдруг – как гром средь ясного дня.
О милая, повсюду ты со мною,
Но я уныл и втайне я грущу.
Блеснет ли день за синею горою,
Взойдет ли ночь с осеннею луною –
Я всё тебя, прелестный друг, ищу;
Засну ли я, лишь о тебе мечтаю,
Одну тебя в неверном вижу сне;
Задумаюсь – невольно призываю,
Заслушаюсь – твой голос слышен мне.
Разлука
Нет, жизнь не остановилась. Но поэт потрясенным сознанием ощущает: жизнь идетНадпись на обычным потоком, не переменилась, но он, поэт, какой-то силой выброшен из этого потока. Он одинок среди дружеского братства. Свет настолько ярок, что слепит, предметы теряют очертания. Широкий мир вдруг сгустился в одну точку: непрестанно болящее сердце. Только его голос слышит поэт. Конечно, когда голос сердца начинает перевоплощаться в поэтические звуки, возникает непроизвольная инерция движения, в орбиту разговора хотя бы сопоставительно втягиваются иные темы, концентрированный мир раздвигается. Все равно звучит доминирующая нота, и имя ей – Любовь.
Мы наблюдали некоторые обломки рухнувшего прежнего мира, которые оказались вовлечены в орбиту главной песни тоскующей любви. Поэт делал попытки найти хоть что-то, что в какой-то степени могло любви противостоять: поэзия, дружба, природа, покой. Но оппозиция не состоялась: любовь как духовная ценность не имеет альтернативы, она господствует властно и безраздельно. Во многих стихотворениях любовь понимается синонимом самое жизни, а катастрофа любви осознается равнозначной смерти.
Переменим ракурс, посмотрим на все изнутри, из центра; это и ближе к главному нерву пушкинской поэзии периода.
Сопоставим два маленьких этюда, которые объединяет «диагностический» медицинский характер:
Вот здесь лежит больной студент;
Его судьба неумолима,
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима!
Надпись на стене больницы
В нем радости мои; когда померкну я,
Пускай оно груди бесчувственной коснется:
Быть может, милые друзья,
Быть может, сердце вновь забьется.
К письму
Результат контрастный, напрямую связанный с чудесной возможностью немедицинского препарата.
Нет ни малейшего желания сличать рассматриваемые поэтические медитации Пушкина с лежащими в их основе биографическими переживаниями юноши автора – с целью установить степень биографичности и степень художественного вымысла. Впрочем, материалы, с которыми можно сопоставить настроения лирических медитаций, довольно скупы. Сохранилось очень мало писем поэта соответствующего периода. При этом одно из них, С. С. Фролову от 4 апреля 1817 года, – всего лишь в две строки с половиной, с обещанием написать две страницы с половиной; документ тем не менее замечателен подписью: «Егоза Пушкин». Второе – предновогоднее (1816) письмо дядюшке в стихах и прозе, насквозь пронизанное юмором. С юмором написана записка Жуковскому (декабрь 1816 года). Можно прибавить, что запись в альбом Е. А. Энгельгардта содержит благодарность директору, которому Пушкин с друзьями считает обязанным «счастливейшим годом жизни». Наконец, в записках Пущина нет даже намека на меланхолию друга в последний год лицейской жизни, хотя именно Пущин сообщает текст «Надписи на стене больницы». Приведенные факты своим настроением прямо контрастны лирическому состоянию поэта; их достаточно для заключения, что кризисные страдания Пушкина выражены, по меньшей мере, слишком экзальтированно. Но я считаю само намерение «разоблачить» Пушкина в сочинении страстей, «поймать» поэта на преувеличении в изображении страстей просто недостойным серьезного исследования. Для работ биографического плана представит интерес, чтó реально чувствовал поэт накануне выпуска из Лицея. Для нас же интересно то, каким поэт видит себя, воспроизводит себя, каким останавливает мгновение, какой, закрепляя в поэтическом слове, изливает в стихах свою душу. Давайте попробуем видеть Пушкина таким, каким он сам пожелал увидеть себя.
Да, в жизни поэта была (точнее – промелькнула перед его взором) Екатерина Бакунина. Это важно: воображение художника, как и в воображаемом романе с Сушковой, отталкивается от предельно условного, и все-таки прототипа; так воображению легче. Суть переживаемой драмы не в том, что с подругой осложнились отношения, а в том, что подругу нестерпимо хочется иметь, а ее просто нет. Берется самый факт: поэт с любимой в разлуке; причина разлуки не конкретизируется. Получается так: Пушкин ведет обычный образ жизни, а возвращается в свой 14-й нумер – и рекой текут элегии…
Существует другая исследовательская версия – о безыменной (утаенной) любви Пушкина. Ю. Н. Тынянов полагает, что Пушкин был безнадежно влюблен в Е. А. Карамзину, жену писателя и историка. Ей ученый адресует пушкинскую «Элегию» («Счастлив, кто в страсти сам себе…»). «В какой же страсти Пушкин-лицеист не мог без ужаса признаться сам себе, каких слез не мог забыть?»[12] – задает вопрос Ю. Н. Тынянов. Что ж, любовь к женщине, жене знаменитого человека, могла бы восприниматься ужасной, соответственно, аргумент исследователя мог бы быть признан сильным, если бы не два обстоятельства. Во-первых, является ли тыняновское объяснение ужаса пушкинского чувства единственно возможным? Думаю, иное объяснение найти можно (чуть позже я предложу его). Во-вторых, недопустимо указанную элегию вырывать из определенного контекста: «страсти» поэта посвящено не это одно, а добрых два десятка стихотворений. Фактически перед нами целый роман в стихотворениях, и при всем разнообразии оттенков настроений это целостное описание одного чувства. Взятый в целом, элегический цикл никак не может быть отнесен к Е. А. Карамзиной, равно как и ни к какому иному реальному лицу.
Итак, на определенное время мир для поэта сузился до объема сердца, но и сердце в состоянии шока; прислушиваясь к его нарушенным ритмам, поэт слышит прежде всего ритмы любви. Природная широта натуры Пушкина проявляет себя даже и в чрезвычайно неблагоприятных обстоятельствах: даже сейчас в изложении поэтической темы нет монотонности. Поэт предупреждает друзей: «Уж я не тот…» – что в основном верно, но хоть частицей он тот же.
В качестве рудимента сохраняются отголоски ранней эротической темы с игривостью и шутливостью, броскими свойствами ранней музы Пушкина; эти черты, пусть на периферии, оказались неискоренимы. В стихотворениях «Послание Лиде», «К молодой вдове», «Письмо к Лиде» проповедуются любовные утехи, восторги сладострастия; стихи продиктованы инерцией ранней музы. В этом плане интересно обратиться к первоначальной редакции послания «Шишкову». Пушкин иронично оценивает все свои литературные опыты, в том числе он выделяет и мотивы прикрытой эротики:
И даже – каюсь я – пустынник согрешил, –
Я первой пел любви невинное начало,
Но так таинственно, с таким разбором слов,
С такою скромностью стыдливой,
Что, не краснея боязливо,
Меня бы выслушал и девственный Козлов.
Перерастая детское желание экивоком коснуться пикантных положений, Пушкин умеряет, но не пресекает для себя такой интерес, и в той же ранней редакции «Шишкову» Пушкин поощряет друга к писанию подобных стихов, фактически давая свой их образец:
Бряцай, о трубадур, на арфе сладострастной
Мечтанье раннее любви,
Пой сердца юного кипящее желанье,
Красавицы твоей упорство, трепетанье,
Со груди сорванный завистливый покров,
Стыдливости последнее роптанье
И страсти торжество на ложе из цветов…
Пушкин позволяет себе изредка как бы вспомнить былое, но не дает себе этим увлекаться; ему трудно забыть нынешнее состояние.
Опыт элегической поэзии настолько значим для Пушкина, что проникает в стихи с эротическими мотивами, одухотворяя их. Так, в «Надписи к беседке» любовное свидание осознается как грандиозное событие жизни:
С благоговейною душой
Приближься, путник молодой,
Любви к пустынному приюту.
Здесь ею счастлив был я раз –
В восторге сладостном погас,
И время самое для нас
Остановилось на минуту.
Семистишие «Надписи к беседке» стоит особняком среди стихотворений Пушкина этого периода. Оно контрастно элегическим стихам, светится пленительным счастьем. Оно выпадает и из ряда стихотворений игривой эротики, потому что эротику возводит в ранг высокой поэзии. У меня нет фактических данных, чтобы определить, идет ли здесь речь о реальном биографическом эпизоде, или, по привычке, это эпизод литературно воображаемый. Если верно первое, «Надпись…» – свидетельство первого обладания женщиной, а тем самым выявляет литературность элегического цикла (что не умаляет значения последнего для духовной жизни поэта). Если верно второе, воображение поэта в пока еще не известной ему фаустовской ситуации определения счастливого мгновенья, достойного заклинания остановиться, находит свой выход: у него умное время само принимает искомое решение. Можно видеть разнообразие воображения поэта, но и явную непропорциональность его распределения: счастливый момент мелькнул исключением, унылое состояние доминирует.
Пушкин настолько поглощен болью сердца, что неохотно платит дань эротике даже в эпических формах, где личностное начало внешне может быть отстранено; такие пробы есть, но их всего две – «Амур и Гименей» и «Фиал Анакреона».
Эротические мотивы в лирике Пушкина осенью 1816 – в начале 1817 года инерционны и второстепенны, на первое место выходит лирика исповедальная.
Образ возлюбленной не прописывается, не конкретизируется, он даже не всегда предметно обозначается. Тут можно заметить такую тенденцию. С относительной определенностью образ подруги обозначен лишь в первом стихотворении обозреваемого этапа («Осеннее утро»). Даже здесь образ заменен формулами: поэт ищет, не находя, следы, оставленные «ногой ее прекрасной», произносит «имя несравненной», желал бы видеть в струях ручья «образ незабвенный». Линия проведена последовательно: даже первая деталь (следы ноги прекрасной), относительно предметная, фактически лишена предметности. Тон задает субстантивированное «несравненная»; в сущности, в таком же смысле хотелось бы ряд продолжить: прекрасная, незабвенная.
Установка не на изображение, а самое общее обозначение образа возлюбленной оказывается значимой и развивается. Эстафету принимает «Разлука». Хотя воспроизводится конкретное событие (эпизод прощания), нет никаких зарисовок подруги, есть лишь обращения: ты, прелестный друг. В стихотворении «Месяц» вспоминается счастливое свидание; немного и здесь предметности: сияние лучей луны «бледно, бледно озаряло / Красу любовницы моей». Вот призыв к Морфею:
Пускай увижу милый взор,
Пускай услышу голос милый.
К Морфею
Не правда ли: из этих сведений, даже если их собрать вместе, совершенно невозможно составить какое-либо определенное представление о той, кто смутил покой поэта. Причем в последующих стихотворениях даже таких деталей становится все меньше, а под конец они исчезают совсем.
Однако в максимальной сдержанности нельзя видеть недостаток художественного изображения, признак неопытности поэта. Напротив: здесь проявился удивительный художественный вкус и такт. Слишком возвышенный, предельно одухотворенный образ намечен; прекрасную, несравненную, незабвенную не захотелось рисовать грубым человеческим словом. Поэтому образ даже не намечен, он лишь указан – и оставлен в таинственной дымке. Ему просто противопоказано явственнее обнажать свой лик, что означало бы для несравненной (!) оказаться сравниваемой в одном поле зрения с Доридами, Хлоями и другими героинями эротических стихов. Добавлю, что сам поэтический взгляд направлен не вовне, а внутрь: объект изображения – не внешний, то, что происходит в сердце поэта.
Элегический цикл лицеиста Пушкина занимает этапное положение в формировании нравственного идеала поэта. Предпосылки были намечены чуть раньше – в пусть еще робкой тенденции смещения акцента от воспевания восторгов сладострастья в сторону духовности в любовных отношениях. Теперь можно говорить не просто о развитии этой тенденции, но о ее победе. Об этом свидетельствует высветленный облик возлюбленной. Но можно сослаться на не оставляющие никакой возможности для кривотолков размышления поэта:
Что вы, восторги сладострастья,
Пред тайной прелестью отрад
Прямой любви, прямого счастья?
Месяц
Школа целомудрия, раскрытость к духовному содержанию любви – не последнее слово в поисках Пушкина. Очень скоро этим обретениям предстоит подвергнуться и искушениям, и испытаниям. Но выход в эту область духовных исканий сделан – и не пропадет. В пушкиноведении на последующем, более четком материале будет сделано наблюдение, что в лирике Пушкина складываются два типа героинь: «вакханка», «демоница» – и «смиренница», Мадона. Но корни этого явления уходят глубоко, в лицейскую лирику. Уже здесь обозначились два полюса, крайние, широко раскинутые в пространстве точки – и наметилось движение, когда сердце поэта поворачивается и в одну, и в другую сторону; возможности развития тут огромны.
В Лицее два женских типа носят другие определения (прелестница и несравненная), но суть их выявилась уже вполне четко. К типу прелестницы отношение Пушкина колеблется, что замечено самим поэтом: «мечтательных Дорид и славил, и бранил…» («Шишкову»). Отношение к образу несравненной устойчиво возвышенное. В кризисный период образ духовной героини доминирует. Позже в соперничестве с прелестницей она то, побеждая, выходит на первый план, то оттесняется в тень.
Незаурядное мужество проявлено Пушкиным при формировании облика несравненной. Все было бы логичнее, если бы импульсом служила счастливая, разделенная любовь. Но на таковую даже нет надежды. Поэт в разлуке с любимой. Только раз (и в первом стихотворении, «Осеннем утре») мелькнул некий срок разлуки («до сладостной весны»). Вскоре взгляд в будущее оборачивается вопросами сугубо риторическими:
Когда ж весельем окриленный
Настанет счастья быстрый миг?
Когда в сиянье возгорится
Светильник тусклый юных дней
И мрачный путь мой озарится
Улыбкой спутницы моей?
Наслаждение
А далее и риторические вопросы угасают. Вернее сказать, короткое время в сердце поэта происходит борьба между надеждой и безнадежностью. К Морфею поэт обращается с призывом:
Сокрой от памяти унылой
Разлуки страшный приговор!
К Морфею
Разлука все устойчивее осознается бессрочной, навсегда – до смерти. Подтверждением этому служит быстро возникший и повторяющийся мотив реакции возлюбленной на смерть поклонника. Впервые эта мысль вложена в уста певца («Наездники»):
Эльвина смерти весть услышит
И не вздохнет об нем она…
Вскоре та же мысль перейдет в лирический мотив:
А вы, друзья, когда лишенный сил,
Едва дыша, в болезненном боренье,
Скажу я вам: «О други! я любил!..»
И тихий дух умрет в изнеможенье,
Друзья мои, – тогда подите к ней;
Скажите: взят он вечной тьмою…
И, может быть, об участи моей
Она вздохнет над урной гробовою.
Элегия («Я видел смерть…»)
В эпическом варианте Пушкин избирает более драматическую ситуацию. Надобно предполагать, что между певцом и его Эльвиной возник разлад с инициативой героини, которая остается жестокой даже после смерти героя. В своем сознании Пушкин проигрывает другой вариант, все-таки оставляя за героиней (правда, лишь с предположительной интонацией) право на последний жест великодушия. Пушкин предпочитает этот более мягкий вариант, где гуманизмом смягчены даже конфликтные отношения, где горький финал все-таки скрашен взаимным благородством; поэт готов уйти из жизни один, до последней черты не желая (заимствуя позднейшее слово) «печалить» предмет своих страданий, но рассчитывает и на ответное сочувствие.
Но пусть мечты на этом отрезке отраднее действительности: Пушкин не может позволить себе «вечным жить обманом» и не страшится смотреть в лицо самой суровой реальности. В послании «Князю А. М. Горчакову» (это стихотворение и в целом одно из предельно мрачных) исключаются какие-либо иллюзии и проигрываются самые безнадежные предположения:
Душа полна невольной, грустной думой;
Мне кажется: на жизненном пиру
Один с тоской явлюсь я, гость угрюмый,
Явлюсь на час – и одинок умру.
И не придет друг сердца незабвенный
В последний миг мой томный взор сомкнуть,
И не придет на холм уединенный
В последний раз любовию вздохнуть!
Я потому и заговорил о мужестве поэта, что стихи о любви пишутся в безнадежной ситуации. Как легко было здесь сорваться и впасть в осудительный пафос, обрушить упреки на покинувшую! Но Пушкин берет всю тяжесть страдания на себя. Кого тут винить? Разве что судьбу – и поэт не удержался от таких искушений, только быстро спохватывается. Но нет ни малейшего упрека в «ее» адрес, напротив – возрождается совсем было утраченная формула («друг сердца незабвенный»). Невыразимо горько утратить надежду даже на последний гуманный жест; в послании «Князю А. М. Горчакову»




