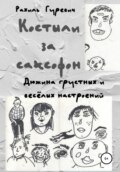Рахиль Гуревич
Адгезийская комедия
Я реально чуть не сказала вслух, что надо бы вытяжки привинтить. Вот так, вот, мы стояли.
− Ты молчишь, − сказал он мне в голову – ну он реально и был высокий и, по-моему, стал ещё выше, или я с этим ремонтом и без трень стала расти вниз.
− Так и ты молчишь…
Тогда он с силой повернул моё лицо, взял за скулы одной (!) ладонью. Ну и поцеловал. Мы стали, понятное дело, целоваться, пока дядя Вася в домофон не позвонил.
Дальше я мыла пол. Это просто невыносимо − всё, что здесь происходит. В следующий раз я Сене не поддамся, если… если он сейчас плохо повесит шторы. Но Сеня решил исправиться после того как я сказала, чтобы он шёл отсюда навсегда и дальнейшей нежнятины. И ещё думала: что теперь я скажу Улыбиной? Что я скажу Лобановым? Асколова специально припрётся на утреннюю, чтобы: а – посмотреть на мои бритые волосы и б – поспрашать насчёт Сени. А Кирилл? − мучила я себя. «А что Кирилл? – отвечал кто-то за меня. – Что такое Кирилл? Неприступная скала! Да я назло пройду под руку с Сеней прямо по бортику, на глазах у всех. Я отомщу Кириллу за все унижения! Ему обязательно кто-нибудь из наших принесёт на хвосте».
Сеня вошёл в комнату с обоями-щупальцами, положил линейку на стол.
− Не сюда, всё складывай в мешок! – я развернула рулон пакетов.
– Замечала, − улыбался Сеня. − Такие мешки стоят везде, в них зачем-то складывают по осени листья, как будто листья не могут сгнить.
− В такие мешки трупы хорошо складывать. Я сбросила в такой волосы со вшами и абсолютно спокойна: они там околеют.
− Не факт, − Сеня вёл себя, как ни в чём не бывало. Также вёл себя и Киря после горы…
− Ну: всё по линейке померил? Это называется «шаг».
− Померил. Нудно.
− Зачем?
− Назло! – и Сеня снова мило улыбнулся, счастливо. Кирилл никогда так не улыбался, и зубы у него были как у хищника, с вампирскими резцами. У Сени улыбка голливудская, как я этого не замечала раньше? Или он никогда не улыбался раньше? − Устал, руки прям трясутся. Как после ста подтягиваний.
− Да ладно врать-то, ты с захватом только можешь, и то под полтос.
− А ты считаешь?
− Ну. А ты думал, не считаю?
Сеня молчал, но я знала, он хотел сказать в своём репертуаре: я думал, что ты всё о Кире своём мечтаешь, он мне часто так говорил, чтобы подколоть. Но сейчас он это не сказал.
− Ты стал мастером по навешиванию штор, можешь на кухне за мной перевесить.
Сеня, верите?, кинулся на кухню.
− Да я пошутила. Дядя Вася! Остановите его!
− И я пошутил, − Сеня вернулся.
− Я тебе скажу, что ты зря бесился. Когда мама всё сошьёт, а заказчик например похудеет. И всё пороть. Вот это нудно. Или сначала клиент говорит такую длину рукава, а потом другую. Вот это нудно. А ещё если ткань тонкая, так «нудно» отходит на второе место.
− А что на первое? – Спросил дядя Вася. Он уже переоделся, и сразу помолодел в толстовке и серых спортивных штанах по моде.
− На первое место выходит перекрой.
− Почему?
− Шёлк пороть нельзя, как и кожу. Если не получилось – на выброс, реально надо всё заново перекроить…
Мда, почесал дядя Вася затылок – наверное, он вспомнил Валюшкино платье и то, как рисковала мама, не имея времени на ошибку.
− У меня тоже не было права на ошибку, когда мойку врезал. Это жиза, как говорит моя дочь. – дядя Вася поморщился. − Всё, Сень. Оттаскиваем.
Дядя Вася и Сеня стали перетаскивать вещи. Вещей оказалось вдесятеро меньше, чем я привезла, но всё равно четыре мешка набралось.
Наконец заскреблись вечером жильцы. Они открыли дверь, сопровождая своим бесячим «тук-тук-тук».
− Заходите, мы не голые, − крикнул с кухни дядя Вася. Кирилл и дядя Вася пили чай на удивительной кухне, облицованной, чистой, новой, если не знать, что там за шкафчиками дыра как в одном фильме про побег. Дальше дядя Вася и Сеня отдыхали молча на балконе, пока я подписывала с жильцами договор и всё объясняла. Они думали о жизни – так потом объяснил Сеня.
Жильцы стали восхищаться занавесками.
− А тут, вот, советский тюль, − сказала я с гордостью. Мне казалось, что винтаж – это самое прекрасное на свете, тем более тюль был очень дорогой, я нашла его на балконе в шкафу, когда залезла в него с головой и с ногами – шкаф был очень глубокий и приземистый. – Я отстирала на кипячении. Смотрите: какие розочки, и натуральный хлопок, кружево!
Но девушка-музыкант произнесла как-то упаднически:
− У нас тоже есть тюль. Мы могли бы свой повесить.
И я поняла, что музыканты, наверное, совсем не разбираются в интерьере. Ну ничего, поживут, а в своей квартире установят синтетический хай-тек. Но если обычно я просто прекращала разговор, то ту стала объяснять:
− Вы не думайте, что ткань старая. Винтаж, и раритет, и очень ценная, на белом такие розочки, я так радовалась когда с третьей попытки на кипячении он стал белым, а был беж, а розочки – посмотрите! − пылают! Вот открываем форточку и дверь балкона, Сень, открой. Видите? Фалды, сборки спускаются и качаются как корабль при дуновении ветра, чуть касаясь паркета.
Жильцы вежливо поблагодарили, а Сеня с дядей Васей стояли как зачарованные:
− Ну красота же!
Но жильцам было не до того.
Глава четырнадцатая. Отъезд
Мы вышли из подъезда. Сеня толкал свой байк. Двое рабочих, толстый и тонкий, стояли у подъезда и одобрительно кивнули на велосипед. Я поздоровалось с ними, как с давнишними приятелями, даже перекинулась парой ничего не значащих фраз.
− Уезжаете? – спросили они. – Отмучились?
− Отмучилась. А вы?
− А нам-то что, девушк. Новые тропинки, натягивать новую нитку, песок, а плитки маленькие. Лучше, чем бетон мешать. Переходим отсюда завтра, не сегодня.
− А скажите: тут не гуляет два человека. У одного маленькая такая рыжая собачка, а у другого побольше чёрная. Люди в шортах.
− Тут много гуляет, девушк. В соседнем доме пёс сбежал, дикий, бешеный. Так хозяйка померла от горя. Дверь входную вскрывали и чёрный мешок.
− Ну чёрный мешок всех нас ждёт, не уберечься, − испуганно заметила я. Неужели Инна Иннокентьевна умерла? Эх, так недавно общались, четвёртого дня слышала её голос по радио, или – не слышала? Может, мне всё приснилось, привиделось от перенапряжения и цейтнота?..
Машина дяди Васи жалась на обочине бульвара − во дворе, перед подъездом, как обычно припарковаться вообще негде. Темнело. Во мраке шёл нам на встречу Смерч. Он страшно укал и что-то явно пытался мне объяснить, но я ничего не понимала.
− Ты понимаешь его, Сень?
− Нет, − сказал он. – Даже не верится, что я с ним разговаривал о тебе. Может у него просветление случилось, а сейчас атавизм, как у собачки из фильма?
− Просветление – это у шизиков, у безумных − авторитетно заявил дядя Вася. – У слабоумных – бесполезное дело, не бывает у них просветлений, они в своём мире и им там неплохо.
Дядя Вася сейчас мне напомнил строителей из нашего дома. Они не знали сомнений, они всё знали точно, а по ночам, возвращаясь с объектов, заказывали пиццу.
Из подъезда вышла и побежала мама Смерча:
− Мальвина! Это что-то невероятное. С работы, из магазина, сбежал. На лавку свою любимую не присел, негодует, Мальвина. – Мама Смерча понизила голос: − Он что-то чувствует. Инна Иннокентьевна умерла, её в морг увезли. Я забила тревогу, два дня её не видела, она всегда за хлебом в девять утра выходила через день. Мальчик мой чувствует. А ты уезжаешь?
− Да. Сдала.
− Я знаю-знаю. Музыканты из школы. Все теперь музыканты. Все понаехали в наш Веретенец. Всё музицируют. Ну когда метро в таком расцвете, можно и помузицировать.
− В смысле?
− Ну так, не знаешь разве? Завод расширяется. Всем нужны наши буры. Метро строят рекордными темпами повсюду.
− Но лёгкое же…
− Не совсем, − мама Смерча странно так подмигнула, мне захотелось ей что-то подарить, как в детстве Смерчу. Я сняла бандану:
− Возьмите. Передайте это Славику от меня. Больше ничего нету.
Мама Смерча взяла в руки бандану. Она даже не обратила внимание, что я − бритая, она смотрела, не отрываясь, на свои ладони, покрытые банданой:
− Ой. Мальвочка! Малахитовые запонки! Какое счастье. У твоего дедушки были похожие. Но не такие. Какая красота! У бабушки нашла? На антресолях? Когда ломала? Я говорила всегда, что не могла Зина всё украсть.
Ничего себе − адгезийцы не покинули меня. Ни за что не отдала бы запонки, если бы нашла. Ну… Хотя, кто знает.
− Славик так обрадуется, Мальвиночка. У него есть костюм, и рубашка изумрудная выходная. Он только изумрудную признаёт. И вот к ней как раз, как под заказ. Сейчас модно. Мой мальчик самый лучший, просто он тяжёлый. Ну а кто из нас простой? Кстати, где он? – мама Смерча светилась каждой морщинкой от счастья. – Снова сбежал? Неуёмный! Вот так неуёмный!
Смерч укал с дядей Васей рядом с машиной, призывая меня своей жирной клешнёй.
Мы подошли к обочине бульвара. Редкие машины проезжали, а не проносились – все знали Смерча и опасались его олигофренической непредсказуемости. Смерч вырвал из рук матери мою бандану, натянул на лицо как маску.
− Так сейчас носят, − подмигнул Смерчу дядя Вася. – Поздравляю, Мальва! У нас украли два мешка из багажника. Пока я нёс два, другие два выкрали. Я багажник не закрыл, не думал же.
− Ой! – расстроился Сеня. – Надо было мне вам помочь, а я с Мальвой.
− Но ты же с велосипедом! Велосипедист пешему не помощник, извини, Арсентий.
Я расстроилась, испугалась, но виду не показала:
− Да плевать, дядя Вася. Один остался и хорошо. – Я покопалась в мешке. – Тут всё мои вещи. Вещи не тронули.
− А в остальных?
− Так вы собирали. В основном шпатели, остатки краски, книги по ремонту – они мне больше, надеюсь, не понадобятся никогда. Лампа, кажется, линейки, ножницы… Болгарка, дрель, топорик, молотки, отвёртки, вёдра, коробочки жестяные с разными штучками, там гайки, дюбеля, хотела в угол поставить. У нас в доме такой угол, что осталось после ремонта, все всё туда оттаскивают. А ножницы с линейками у мамы ещё есть.
− Вот Смерч и хотел и предупредить. – сказал Сеня расстроено. – И как же вы не закрыли?
− Сам не знаю, вроде бы закрывал. Устал. Да и не молоденький, видно старость. Канистры с бензином не тронули, а мешки забрали. Поздно. Поехали! Вот люди… Время полукриминала. Ну кому это надо-то?
Мы попрощались с Сеней взглядом. Я не стала при Смерче его обнимать, да и наверняка пялится в окно много народу – пусть и далековато от подъезда, но верхние этажи-то обязательно, соседи уж точно видят, что я лысая. Я обняла Смерча и его маму, она рыдала и целовала меня за себя, за Инну Иннокентьевну (не поняла, почему именно меня) и за бабушку. Смерч не рыдал, он всё пытался мне что-то объяснить, брызгая слюной, но я ничего не понимала.
Я прижалась к смерчу, обнимая и шепнула:
− Славик! Никогда больше мне тебя не понять, никогда!
Сеня ехал по обочине бульвара, а я выцеливала прохожих. Сумерки, но ни одного хвостатого! Я попросила остановиться, забежала в магазин, прикупила дыню и вино маме. Вино в магазине стоило совсем недорого, не то что у нас в Москве. Я обернулась, рассматривая людей на бульваре: идут себе пары с комнатными собачками, гуляют пожилые и молодые, дряхлых и пьяных, как назло, ни одного. С противоположной стороны машут мне Сеня с дядей Васей. И с той стороны бульвара хвостов нет! Белая собака, ту которую любили мы со Смерчем обнюхала, повиляла хвостом, как старая знакомая – узнала. Ничего необычного на бульваре. Ясно. Всё остаётся в воспоминаниях. Сеня ещё долго успевал за нами, а перед мостом он свернул в другую сторону. Всё. Завтра сдам тест на ковид. Послезавтра уже бассейн. Прочь! Прочь навсегда!
Глава пятнадцатая. Бабушка
Первым делом, когда приехала, я забрала у мамы письмо бабушки. Уселась, даже не сняв в прихожей кроссовки. Мне казалось, если я увижу на бумаге, потрогаю, прочувствую тактильность, то и решение как-нибудь отыщется. Сидя на удобном привычном своём диване (а не веретенецком диванчике), читала знакомое наставление, написанное размашистым бабушкиным неразборчивым почерком, дальше − лист с буквами, парящими в невесомости и закручивающимися в воронку, наконец, − лист с детскими картинками, какие-то лесенки-стремянки и непонятными закорючками в строке, а под картинками – две мишени в виде лежащей восьмёрки или бесконечности: и цифра «16» по центру, а дальше по окружностям – цифры в обратном порядке от десяти до единицы, после нулевой окружности, шло самое широкое кольцо. Что-то связанное с восьмым марта? Нет, глупость. Может пустое кольцо восьмёрки – это намёк на бабушкину жизнь, точнее жизнь после жизни, а ещё точнее – небытиё. Концентрические окружности с цифрами с цифрами – это мои флэшбеки, те, которые припомнили адгезийцы… Но у меня их было десять, напоминаний-то, а здесь – цифра «16» в центре.
Картинки… Под утро мне снились жуткие сны. У домика барона я срываю чуть надломленную ветку с сочными грушами. Но груши висят гроздьями, как бананы и отламываются от ветки, падают с неё мне в руки – веточки их перезрели. Тут же под деревом с невиданными плодами − бабушка, Кроль, Киря – всё вперемежку. Смерч с запонками и в бадане-маске. Девочка у кувшинок, её мама-скульптор. Рано утром я поняла, что дико соскучилась по Веретенцу и что в суматохе забыла договор на подоконнике.
Маме я сказала, что еду за договором. Тогда мама оторвалась от пола – она там что-то кроила огромно-воздушное, наверное, снова свадебное платье нежного цвета фуксии.
− Но ведь жильцы… Они спят… Воскресение.
− Мама! Они сегодня вечером заедут сами, они всё вещи переносят, у них там синтезатор, пианино…
− Мальва! А где наши-то вещи?
Я объяснила, что украли из багажника часть вещей.
− А пылесосы где?
− Ой, мам! Забыла.
− Или тоже украли?
− Нет-нет. Я в мешки пылесос не клала. Просто забыла в квартире, привыкла как к шкафам этим, купе, что они мебель. Я поеду, мам, съезжу.
− А пробежка, Мальва?
Какая пробежка, дорогие адгезийцы?! Я вообще забыла, что умею бегать. Я забыла, как плавать. Я можно сказать замуровала себя в этом ремонте и в разных событиях. Тут не до пробежек. Хотя до автовокзала я конечно так потрусила побыстрее, ноги меня плохо слушались, ослабли, с досадой подумала я − я ж всё руками орудовала в Веретенце-то…
Воскресение утро. В автобусе свободно, на дороге пустынно. Небо как только что залитая ванна бассейна, в которую не вбухали ещё хлорамин. Тучки как пятна в глазах, когда ты делаешь сальто-поворот на спине. Тучки-грёзы, тучки-глюки, тучки-вспышки… шоссе пустынно, хоть и девятый час. Люди все по дачам, а кто не на дачах: ту-ту! − уехал отдыхать по России с кешбэком. Воскресное утро прекрасно, даже Кроль, мигающий на небе своим полупрозрачным силуэтом не интересен мне, я на него обижена, но я мысленно машу ему рукой – он же читает все мои мысли. Иногда мне кажется, что бабушка сидит рядом со мной. Стыдобища! Я ни разу не съездила на кладбище, всё дела, дела…
На бульваре Бардина пусто, клёны шелестят, тянут ко мне ветки в приветствии. Адгезийцы, я с вами! – мысленно обращаюсь я к деревьям, я верю, что Адгезия вырастила такие деревья в рекордно-короткие сроки. Смерч уже топает с мамой в магазин. Торчит изумрудный воротничок. Малахитовые запонки, я уверена, на его манжетах, у него сегодня даже маска изумрудная. Смерч − ходячий свидетель адгезийцев. Он видит всё и всегда. Он знает больше всех на нашем бульваре. Уверена, адгезийцы развлекают его, чтобы он не очень скучал, на это они мастера. Воскресение. Покупателей будет много. Значит, он должен будет всех, кто без масок, пугать. Я вспомнила, как в зале он привязался за одной мамой с коляской. Кажется, что все на свете мамы с колясками переехали в Веретенец. Она ему говорит: что вы увязались, столько людей без масок, а вы за мной увязались? Он что-то укал в ответ. Он одним своим видом пугал людей… Его задача: привязываться к тем, кто не соблюдает правила и к тому же занимает много места своими колясками или сумками на колёсиках.
Автобус остановился на светофоре. Смерч оборачивается, машет. Неужели он видит, что я стою в автобусе у дверей? Он показывает скрещенные руки, мотает головой. Я воспринимаю знак как «стоп» и не выхожу на своей остановке. Следующая остановка – больница на окраине старого города. Можно сказать, что город заканчивается и начинается лес. В больницу бабушка возила меня два раза. Первый раз − когда клеща доставали, другой раз − когда нога попала в цепь велосипеда и бабушка думала, что у меня перелом. За больницей стоял рынок, ещё дальше крематорий – небольшое жёлтое здание с трубой, и кладбище. Я запаниковала, когда вышла у больнички: а как я найду место бабушки на кладбище? Маме я не могу звонить, она спит, и так всю ночь не спала, чертила, кроила. Спокойно. Пойду прогуляюсь, кривая может и выведет к бабушке. А вдруг увижу этого, в ботфортах, видели же его здесь когда-то давно, в позапрошлом веке…
Старое кладбище отличалось от нового кардинально. На старом высились валуны, необработанные камни в крапинку с почти незаметными буквами. Около одного камня стояла женщина и жёлтым карандашом красила бороздки букв:
− Чтобы видно было. И так два раза в год, − объяснила она мне, хотя я ничего не спрашивала.
Я к ней подошла не вплотную и встала у дерева. Я поняла, в чём отличие: новое кладбище всё состояло из прямоугольников оградок, каждый дорожил своим местом, старое кладбище, совсем небольшое, дало крен – поэтому там и не хоронили. Камни все были наклонены в одну сторону, как будто подул ветер небывалой силы, всё смёл, а камни удалось ему лишь накренить.
Как только я задумалась, произошло странное, почти невероятное, вспышка памяти или новый флэшбек: я вспомнила, что на шестнадцатой линии должна быть бабушкина могила. Я припомнила бабушкин ребус-воронку, просмотренную вчера, цифра «16» стояла по центру. В этом не было ничего удивительного, дедушка уже был похоронен, а бабушка в ребусе просто обыграла цифру с бесконечностью. Неужели она есть, существует?
− Тут по весне всегда подснежники, удивительное место, волшебное, − продолжала женщина, разговаривая, кажется, вовсе не со мной, а сама с собой. И тут она повернулась и чётко обратилась именно ко мне: − Вы могилку найти не можете?
− Н-нет, то есть да. Шестнадцатая линия, а номер не знаю.
− Шестнадцатая – это вы не дошли. Саму могилу помните?
− Не очень.
− Плита? Камень?
− Не помню, хоть убейте.
− Оградка?
− Была.
− С узорами или просто?
Я молчала. Нет, бабушка не могла заказать оградку с узорами, бабушка любила строгость и простоту. Я мучилась, аж голова заболела, но оградку я тоже вспомнить не смогла.
− Умереть всегда успеем. Думаю, вряд ли, найдёте. Если только каждую могилу обойти…
− Спасибо. Обойду, − поблагодарила я и решила не искать вообще.
− От большого креста начинается новое кладбище. – Женщина показала себе за спину.
− Спасибо!
Я нашла шестнадцатый участок. И вспомнила некоторые могилы с памятниками. Памятник известному рабочему, который первый предложил какую-то новую модель бура. Он высился над всеми как памятник Лермонтову у Красных ворот, мы туда ездили в спортдиспансер.
Но были и маленькие памятники на вершинах могильных камней: ангел в халате с крыльями, Харон в лодочке – он пустился в путь к царству мёртвых. Кое у кого на плитах сидели каменные птицы, как Чижик-Пыжик в Петербурге.
Меня удивило, что совсем не растёт под ногами трава, так – скудные вихры, клочки, а на старом кладбище камни все были в траве. Я прогуливалась по дороге, с указателем «16 линия». Ничего себе линия. В одном месте между могилами была бетонная приступочка, я разглядела, что вокруг оградок, теснящихся друг к другу, есть тропинки на ширину кроссовки, я пошла, блуждая между могилами. На одной из них сидел кот, обыкновенный кот, полосатый, если бы он был собакой, его бы назвали дворняжкой. Таких котов миллион. Он прыгнул в сторону, заметив меня. Кто-то сказал:
− Не дворовый, а европейский короткошёрстный.
Я подошла к могиле… Ну конечно же – бабушка и дедушка! Вот и куст чёрной смородины, ягоды на веточке были нарисованы в ребусе. Как я могла забыть, что мы с мамой посадили этот куст?! Он вымахал, и ягодки опали, напоминая капли запёкшейся крови. Вот и лавка, мы с мамой на ней сидели. Ограду надо будет покрасить, подумала я, и стала собирать листья – трава вообще не росла. Могила была запущена, блёклые искусственные цветы и… свежий горшок с какими-то тихими могильными цветами. Горшочек кто-то поставил здесь совсем недавно, цветы в нём не росли – бушевали. Странно, что кот не тронул цветы, они же все цветы в горшках едят… В ребусе были нарисованы полоски и кисть. Да уж: на разгадку бабушкиных ребусов, мы с мамой потратили много часов, а всё совсем просто, невероятно просто. Как в детской книге, где вместо слов – картинки. Но причём тут лестница? Неужели приступка, одна ступенька? И как бабушка могла предугадать, что на её могиле будет сидеть помоечный кот, сорри − европейский полосатый, сорри − серо-буро-полосатый. Я собрала листья, сколько смогла, они тоже были указаны в ребусе-картинке. Нет! Нужен пакет. Я сняла пакет с могильной плиты неподалёку – наверное там недавно выбили надпись и прикрыли от непогоды. Ничего, надо прошлогодние листья собрать, прошлогодние, позапрошлогодние, поза-поза. Получился целый пакет. Интересно: а где же похоронена Инна Иннокентьевна, её наверное хоронила мама Смерча, а может быть Алексей Алексеевич и активисты наших двух домов?.. Да уж, пойду я отсюда.
Я сходила к мусорному контейнеру у гранитной мастерской, где стояли в рекламных целях разные надгробия и памятники. Я вытрясла пакет в мусорный бак, сходила помыть руки к умывальнику у гранитной мастерской – цивильное кладбище, абсолютно отдельный от остального мир. Я вернулась с пакетом к участку, напялила его снова на соседнюю могильную плиту… Вечная смерть, и все мы в её ожидании – прочитала изречение на камне. Очень приятно с утра пораньше. Нет уж. Вы лежите, а мы ещё поживём. Но что же это за странность: одно и то же повсюду: не растёт трава там, где она должна расти-то!
Я побежала к дороге − на остановке, после развилки шоссе, стояла маршрутка. Я бежала, а он всё стояла – конечная же. Самое обидное, когда несёшься к автобусу, мучаясь и задыхаясь, а после он не отправляется ещё минут дцать… Но эта маршрутка закрыла свои двери, как только я в неё поднялась – неужели ждала меня?
Наши два дома три по бульвару Бардина стояли как мёртвые. По бульвару ковыляли бабушки с авоськами, но всё было так же, как во время моего заезда – у подъезда пустынно. Я чётко чувствовала, на меня так же, как полтора месяца назад, кто-то пялится. День сурка, если хотите, с той только разницей, что сейчас десять утра, а тогда дядя Вася привёз нас намного раньше.
Быстро поднялась в квартиру. В комнате полумрак от занавесок, уютно, запах чистоты. Вошла в ванную – до сих пор нет горячей воды. Кран побухтел, снова поздоровался со мной, покашлял и плюнул коричневый кипяток. Алексей Алексеевич закончил профилактику труб, не иначе, мы договорились, что он зайдёт и поставит на капающую батарею хомут.
В комнате абсолютно по-домашнему, хотя вещи чужие и не убраны. Я ходила по сумрачной комнате и вдыхала детство – окна непривычно занавешены, идеально распределены по ширине окна шторы, через них пробивался холодный августовский свет. От ненависти к адгезийцам за их шутки и нервного трясуна не осталась и следа. Я схватила с подоконника договор и сунула в рюкзак, прошла на балкон, нашла зажигалку, она тут, на подоконнике у двери – дядя Вася забыл и вспомнил уже в машине. Я сунула зажигалку себе в карман. Всё! Можно уходить. Я вспомнила, как вчера жильцы восхищалась кухней. А на стене спокойненько так висел шкафчик, мы не стали ничего говорить-объяснять – сами увидят, когда приглядятся, если … приглядятся.
Я прощаюсь с прихожей, на стене которой Сеня установил полки для шляп и крючки для одежды, я прощаюсь с кухней, на которой провела, наверное, половину всего времени − стены, потом плитка. Злополучный шкафчик висит довольный, определённо ему понравилось летать. Я любуюсь керамической мойкой. Какой хороший дядя Вася, как здорово он всё сделал. Я любуюсь шторами на кухне, они такие в мелкую розочку, а рядом вкомнате тюль ещё бабушкин − я помнила его по детству, но жильцы не оценили. Зайду-ка, попрощаюсь и с тюлем… Тихо. Просто тишина…
Стоп. А пылесосы? Чуть о них не забыла!
Маленький пылесос − в прихожей, во встроенном шкафу, он с запасными мешками и насадкой стоял там, я его не собиралась забирать. Но где большой? Я побежала за пылесосом на балкон, но там было чище, чем вчера, просто стерильность. Я оббежала всю квартиру, но пылесоса не было. Может Сеня с дядей Васей сунули его в мешок? Но нет! Кто ж пылесос в мешок снуёт?
− Его украли, Мальвиночка, − тихий спокойный голос из бабушкиной комнаты, такой родной, такой знакомый. Слёзы потекли у меня, защемило сердце.
− Бабушка! Я кинулась обратно в комнату с щупальцами. На диване сидела бабушка. Моя бабушка. Полумрак. Ну правильно: если на кухне солнце, то комнаты уже без солнца, балконная дверь была приоткрыта, но свет с балкона не попадал в комнату.
Я кинулась к бабушке, я стала её обнимать. Она была сухая, но вполне себе телесная. Половину лица закрывала маска, но совсем не такая, как сегодняшние, маска из шёлка, как шарф, как маска тролля из фильма про принцессу. Неужели бабушка не хотела меня пугать своим лицом? Глаза были родные, только сухие. Сухая она, хоть и стала больше… Изменилась.
Бабушка ставила мне в детстве сказки и фильмы про животных и принцесс − про русалок-то, увы, совсем мало было снято. И вот сказка. И там тролль. Человек-тролль. В маске! Как только объявили пандемию и началась эта байда с масками я вспомнила этого тролля. Вот уж мем для сети. Но никто не вспомнил о нём. Я вообще поняла: в инете все только постят одно и то же. А если какой новый сделаешь мемасик, никогда его не раскрутишь. Я с троллем из фильма хотела картинку запостить, а потом думаю: всё равно никто не заценит, никто ж этот фильм и не смотрел, это ж не сериал про разных мультяшных уродов. Ненавижу эти мультсериалы, там всё какое-то чересчур простое, чересчур тупое, чересчур яркое и чересчур мелькающее.
У тролля в фильме вот была маска что надо. И такие грустные глаза… я сначала вот глаза запомнила из всего фильма, мне бабушка этот фильм в три года поставила. Глаза полные безнадёги и тоски. У мамы случалось такое выражение в моём детстве, но без такой уж совсем безнадёги, проблески надежды присутствовали. А тут тролль в вечности и в полной безнадёге в вечной непрекращающейся безнадёге. Маску носит не от болезней, а закрывая свой уродливый нос. Его любит роковая красавица, принцесса. Но всё кончается хорошо, принц выслеживает принцессу, бьётся с троллем и побеждает его, тролль срывает маску перед лицом неминуемой смерти, но его принц пощадил. Потом он идёт отгадывать загадки к принцессе. И отгадывает, что она загадала голову тролля. Чары после его отгадки рассеиваются – тролль снова становится человеком и тоже принцем, а принцесса из злой превращается в добрую. Я понимаю эту красавицу, если бы Киря был уродом я бы его всё равно любила… наверное… мы как то с Кролем об этом спорили. Он кстати доказывал, что я бы тогда не влюбилась в него, а я доказывала, что всё равно полюбила бы, лицо не главное, фигура для пацана важнее. А может бабушка – мой тролль и есть? Может она им и прикидывалась и не бросала меня вообще? И тогда у окна была она? Ну, сразу после смерти?..
− Бабушка! Ты поправилась! – я решила как-то ободрить бабушку.
− Я не поправилась, Мальвинушка. Нет, это кажется. Просто я изменилась. Если хочешь, я такая разбухшая мумия.
− Бабушка! Ну что ты говоришь? – я целовала бабушку, но бабушка отстранилась от козырька моей бейсболки:
− Мальвинушка!
Я повернула бейсболку козырьком назад, как герой очень крутой книги, которую я нашла у мамы в ящике под кроватью, но так и не дочитала, что-то меня отвлекло…
− Не обижайся, что я не плачу. Я давно не могу плакать!
− Бабушка, я…– я стояла перед ней на коленях.
Чёрная длинная юбка у бабушки, кажется натуральный шёлк.
− Это старинный тяжёлый шёлк, ты права, Мальвина. Мы там все в шелках. В тяжёлых шелках… − Бабушка, как и все адгезийцы, читала мысли.
− В чёрных?
− Ну почему же? Цвет зависит от восприятия.
− А у вас там восприятие?
− Ну конечно. Тактильность, туше и все прочие заморочки, как ты любишь говорить.
− Бабушка…
− Не плач, Мальвина! Ты же не плакала никогда!
− Бабушка! Я чувствовала, что ты в Адгезии! Я так по тебе скучаю! Ты не представляешь! Каждый день!
− Ну уж… каждый день, − махнула рукой бабушка, на каждом пальце у неё сверкали перстни или кольца, а на груди была приколота брошка – стрекоза. Я подозрительно посмотрела на бабушкины руки – на них были надеты тончайшие кружевные перчатки, а у ж поверх все эти камни…
− Не волнуйся. Я – не он. Ты, смотрю, запуталась. В Адгезии, душка, любят пошутить… Но какая ты стала красавица. Вылитая я, вылитый папа…
− Бабушка! Меня так обижали. Я боюсь спросить… Это с твоего разрешения?
На самом деле, я хотела узнать у бабушки о сокровищах и её конце, но не решилась, не посмела. Не то чтобы не могла, как случалось во времена адгезийского радио, просто мне было стыдно спрашивать бабушку о каких-то камнях.
− Пылесос Алексей Алексеевич унёс под утро. Он узнал, что музыканты переедут сегодня вечером, вот и зашёл по старой памяти. Видишь: и хомутик поставил на трубу. Удобно: сначала садануть палкой, чтобы подкапывало, а потом хомутики ставить.
− Бабушка! Так это он тут рыскал?
− А что: очень дорогой пылесос?
− Ничего бабушка, он старый. Жаль, к нему мешки остались.
− Он и мешки унёс, нашёл их. Ты много чего забыла. Его рабочие из багажника мешки утащили с инструментом, пока вы с Вячеславом-премудрым, нашим подопечным, общались.
− Бабушка! Но зачем? Такие милые рабочие. Один толстый, другой тонкий. Вот гады!
− Ищут. Люди всё время ищут. А какой был хороший сантехник в нашем жэке, всё делал, трубы сколько лет стоят и всё как новые, а, Мальвинушка?
− Н-не знаю.
− Но стоило адгезийцам наказать старого вора-председателя, как Алексей Алексеевич тоже стал … искать… Ну доискался, никто не убежит от… нас… то есть, судьбы.
− Бабушка! А Инна Иннокентьевна, твоя сослуживица?
− Инфаркт, душка.
− Это вы её наказали?
− Ну что ты, душка. Время пришло. Я уж тянула её как могла, собаку пристроила, чтоб Инночка подпитывалась молодым собачьим жизнелюбием. Уходят все наши.
− Значит, ты здесь за всеми присматриваешь, бабушка?
− Ну что ты, Мальвинушка, не совсем. Вот ради встречи с тобой вырвалась. Господин барон расположен к тебе, всё-таки гены. Он так и сказал, когда здесь ищейки все эти жили: вы с мамой − авантюристки, он таких любит.