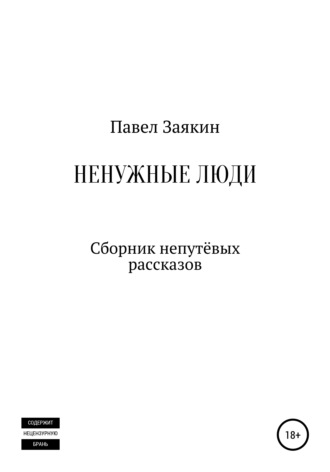
Павел Дмитриевич Заякин
Ненужные люди. Сборник непутевых рассказов
Круглолицая симпатичная Таня Марьясова («Я не Таня, я Тая, но называйте Таней, я уже привыкла») изображала парикмахера, это было легко, она же радостно ткнула пальчиком в дочку Тамары Петровны Соню: «Это твоё желание, я знаю!», и угадала. Соня долго и мучительно делала вид, что пишет у доски, поправляла воображаемые очки и опять писала, отходила, осматривала критично воображаемые записи, потом, повернувшись к нам, задирала бровки домиком: мол, что это? «Учительница?» «Писатель?» Но Соня упрямо крутила головой: «Нет!», и снова поправляла воображаемые очки и чиркала по доске воображаемым мелом. «Учёный?» – неуверенно предположил татуированный Алексей, отставляя в сторону гитару. «Да!» – закричала радостно Соня, кидаясь на шею опешившему Алексею. – Я думала, вы никогда не догадаетесь. Только вот… Я не знаю, кто это загадал». «Это я! – поднял руку маленький Костик Бенедиктов. – Учёным быть хорошо. Я закончу школу и пойду на учёного учиться. Буду жить в Москве, в большом доме, где вода в кране и туалет в доме, и буду всё-всё знать!» Все засмеялись, и Костик смутился, а я поспешил ему на помощь: «Что вы смеётесь? Если человек хочет, ставит цели, то так и будет. Бог даст, и станет Костик учёным. А что у тебя, Костя? Изображай!»
Общими усилиями и артистическими способностями мы узнали, что Надя Бенедиктова хочет стать художницей, Таня-Тая – балериной, вторая Таня, Сулекова, – врачом, Васёк Шахрай и Коля Руликс, конечно же, священниками, Лора хотела иметь большой дом («чтоб всех детей своих собрать вместе – да, Лёша?»), а маленькая Маша – водить грузовик. Та же Маша очень убедительно изобразила пьяную, а потом скрестила на груди руки и помотала головой: мол, нет, и ткнула пальчиком в покрасневшую маму Марьяну, а та, взяв со стола листок и прочитав, задумалась, а потом жалобно сказала: «Я не знаю, как это показать… Я даже не понимаю…» «Это я написала, – сказала от окна молчаливая Лена. – Там написано, что я хочу стать человеком. И это очень даже понятно». «Но, – растерялась Марьяна, – разве ты не человек?» «Нет, не человек. Чтобы стать человеком, нужно умереть и воскреснуть. Как червячок: сначала он становится мёртвой куколкой, а потом – бабочкой. И Иисус так тоже сделал – умер и стал человеком. И нам тоже надо так, а иначе его не победить, нет». Все молчали, поражённые, а Лена, высокая, худая и мрачная, смотрела на нас от окна через свои толстые стёкла очков острыми уменьшенными зрачками, будто колола булавками. «Ну всё, нам точно пора», – опять завозилась, вставая со стула, бабушка Полина. И увела вяло сопротивляющуюся Лену, оставив привкус отсроченной беды. Потом стали собираться в дорогу и мы.
5.
Почти четыре года я ездил в Ошколь каждое воскресенье, отслужив в Шахтах, и нигде больше не видел я таких внимательных и доверчивых глаз. Даже мрачная Лена, казалось, оттаяла и перестала пугать людей странными фразами, а алкоголичка Марьяна стала находить в себе силы не напиваться по воскресеньям перед службами. Дети незаметно росли, девочки расцветали непонятной им самим первой красотой, мальчики начинали басить и вытягиваться в длину, курить за школьным углом и за магазином.
Через полгода нас выставили из школы. Тамара Петровна, виновато скосив глаза, оправдывалась распоряжением из районо, но можно было не объясняться: в районе уже вовсю шло шельмование «зловредных сектантов», и выселения общины из школы следовало ожидать. Коля Бенедиктов – тот, что постарше – получил от Озёрского сельсовета покосившуюся пустую избёнку на окраине деревни и позвал нас к себе. Мы перебрались, и теперь я служил по воскресеньям за шатким колченогим столиком и, скрипя разномастными половицами, молился, чтоб не опрокинулась чаша на импровизированном алтаре. А дети обживали и это пространство, скучивались на Колиной кровати, на лавках, на фуфайках, брошенных на пол. Иногда я привозил проектор, и мы смотрели мультики: «Суперкнигу» и другие, на библейские темы, и все, взрослые и дети, замирали, наблюдая за цветными картинками, двигающимися по относительно белой простыне, повешенной на кривой стене Колиного дома.
Община жила как-то вопреки логике всеобщего деревенского повального пьянства и распада, и я по временам ощущал себя в ней этаким гамельнским крысоловом, по воскресеньям заводящим на своей дудке песни, что помогали этой горстке детей и взрослых хоть на немного «расколдоваться», сбросить с себя морок неодолимого мрачного будущего и просто жить. Временами, спускаясь на своём уазике с горы в деревню, я, как и в первый раз, чувствовал какую-то недобрую силу, мрачный взгляд надтреснутых очков, упругое сопротивление среды, которое приходилось чуть ли не физически продавливать железом машины, энтузиазмом проповеди, расположенностью и открытостью к этим брошенным людям, жившим здесь, как на острове.
Года через два закрылась отторгнувшая нас школа и стояла теперь посреди деревни: чёрная, большая, нелепая, будто брошенная баба, растопырив на улицу побитые глаза-стёкла, будто спрашивала: «Зачем?» Тамара Петровна перебралась в Озёрный, к сыну, ещё несколько семей переехали: кто в Озёрный же, кто в Сыры, и всё больше домов пустовало. Ночами их посещали «гости», и наутро, когда бледный свет озарял лиственницы на склоне горы, можно было увидеть выпиленные куски стен, разбираемых на дрова, поваленные пролёты заборов, обнажавшие заброшенные огороды и являвшие «мерзость запустения» и сорняки.
…А потом я перебрался в Абалаково из Шахт, и навалилось: новая община, миссия в Саянске, детский клуб… Я бывал иногда в Шахтах среди недели, служил там вместе с новым настоятелем, отцом Филиппом, знал, что он продолжает ездить в Ошколь – правда, уже через воскресенье, чаще с Алексеем, но уже без Миланы и Лоры. Однажды я приехал в Шахты с ночёвкой, и мы, взяв бутылочку вина, засиделись на кухне за разговорами. Тогда я и узнал о смерти бабушки Полины. «Схоронил её по осени, да. А я тебе не говорил? Так её же дочь задушила ночью подушкой. Елена, да. Нашли её, уже когда до соседнего дома запах дошёл. И я, главное, приезжал в эти дни служить: не было её, а дочь приходила. Мама, говорила, спит, не может прийти. Я говорю: может, мне самому прийти к вам, на дому причастить, а она: нет, мол, не надо, мама просила не беспокоить. И он тоже просил». Я вздрогнул: «Он? Кто он?» «Вот и я не понял, – вздохнул отец Филипп, – подумал, что она про кого-то, кто с ними живёт, кто к ним приехал, родственники там. А через две недели приезжаю, а мне такое выкладывают. Елену, дочку-то, увезли уже: сначала в ментовку, а потом сюда к нам, в психушку, в Шахтинский индом, на обследование. А у неё шизофрения, оказывается, была; подтвердили и отпустили. Вернулась она в деревню». Мы помолчали. Я был ошеломлён и совершенно не знал, что сказать. Поднял пустую бутылку, взвесил в руке… «Погоди, сейчас! – отец Филипп метнулся к кухонному шкафчику, извлёк бутылку мутноватой жижи. – Будешь? Только самогонка, прости…»
Наутро, направляясь домой в Абалаково, я в последний момент свернул на озёрское направление. Пробежался по асфальту, проехал село, ставшее несколько лет назад оздоровительным центром усилиями предприимчивой местной жительницы Матрёны, и попылил по просёлку, в сторону Ошколя. Уже на спуске притормозил на обочине, вышел, посмотрел на село, расстелившееся внизу, под горой. Тех домов, что стояли когда-то заброшенными и полуразобранными, уже не было, их место занимали пустыри. Те, что были когда-то живы, покосились совсем и жилыми не выглядели. Ни одного человека не было видно. И никакого ощущения взгляда, словно я смотрел на труп. Я спустился вниз на машине и подрулил к школе. Её начали разбирать, будто откусывать: то справа, то слева, крыша по центру просела и прохудилась, и я представил, что происходит внутри, когда идёт дождь. Из соседнего домика выскочил хромой хакас, поковылял к моей машине: «Здоров будь, мил человек! Интересуешься, купить хочешь? Могу свести с хозяевами. Тут можно гостиницу построить, отдыхающих возить». «Здравствуйте, дядя Аяс…» Тот всмотрелся, поднял седые клочки бровей, обнажил в улыбке жёлтые кривые зубы: «Ээ… Священник? Чалахай кюнненг1! Сколько лет, сколько зим! По делам к нам, или как? А я вот охраняю эту развалину до сих пор. Вишь, хитят по ночам на дрова, стекло всё порастащили, шифер прут… Частник купил, нанял меня, а сейчас не знает, как избавиться. Хотел гостиницу сделать здесь, да, видать, проклятые тут места». «Да я так, проездом тут, дядя Аяс. Смотрю, домов всё меньше». «Дак, а с чего им больше быть? Бухает народ, мрёт понемногу. Вон бабка Марья, что спиртом торговала, полдеревни потравила этим, как его? Метилом, во! И сама послепла, штоб её, и тоже померла. А сейчас Марьяна гонит самогонку, всех нас кормит, но там – чистый продукт!» Я вздохнул, хлопнул Аяса по плечу засаленного ватника: «Ладно, дядя Аяс, поеду я, навещу кое-кого». «Ну бывай, отец!» И похромал обратно к себе в дом, заросший лебедой по самую крышу. А я завёл машину и поехал к домику бабушки Полины.
Ворота во двор были настежь, из разбитого окна торчало одеяло. Я взбежал на шаткое крылечко, стукнулся в двери сенок, потом в дом: «Можно? Есть кто дома?» Невольно принюхался: пахло старостью, сыростью и грибами. Дребезжащий голос отозвался из дальней комнаты: «Заходите, люди добрые, коль не шутите!» По спине пробежал холодок: «Бабушка Полина? Не может быть!» Тронул рукой ветхую полотняную шторку, отодвинул её в сторону, шагнул в полумрак. Большую часть комнаты занимала кровать, там кто-то спал. А в кресле у окна, с вязанием в руках сидела… «Баба Надя?» Та подслеповато вгляделась в меня, охнула, привстала не с первого раза: «Отец Александр! Изеннер2! Как вы здесь?» Я обнял её осторожно за хрупкие плечи, усадил обратно, сам устроился на краю кровати, кивнул на ком под одеялом: «Елена?» «Она. Спит, бедняжка. Совсем исхудала в больнице, ничего не кушает, ну я ей и ношу. Что сама ем, то и ей. Живу тут рядом, мне не трудно». «Как она?» «Да как, совсем хомай, плохо, то есть. Лекарства не пьет, да и где денег брать на лекарства? Совсем с ума сходит. Умереть, говорит, хочу. К маме хочу. Человеком стать хочу». Под одеялом завозилась Лена, зашарила в изголовье, нацепила свои толстые очки: «А, отец Александр пожаловали! Отпеть меня пришли?» «Да что ты, что ты, Леночка! Какое отпевание? Спи, родная! Вот, выпей и спи», – баба Надя ловко подхватила с пола бутылку, набулькала в кружку, протянула Лене. Та схватила, припала к краю кружки, по комнате поплыл запах самогона. «Только так её и успокаиваю, – виновато сказала баба Надя, звякая бутылкой об пол. – А иначе вред себе причинить хочет. Или меня просит, чтоб я ей… помогла». Лена допила, откинулась на подушки, баба Надя забрала у неё кружку, поставила на пол, подошла ко мне, взяла сухонькой сморщенной рукой мою руку. «Помолитесь за неё, отец Александр. Да и за всех нас. Мало нас совсем осталось тут, в церкви. Дети выросли, уехали: кто в Сыры, как моя внучка Тая, кто в Озёрск, кто в Абалаково. Учатся, работают. И слава Богу, что так – хомай орын, плохое это место. Мы уже тут останемся, людьми становиться будем, – она усмехнулась, кивнув на кровать, – а молодым надо уезжать подальше». Я погладил морщинистую старушечью руку, встал: «Я не знаю, что можно сделать с Еленой. Из индома её выписали, родственников не нашли. Только присматривать и остаётся. И молиться». «Молись, молись, святоша, – раздался вдруг с подушек хриплый смех. – А он придёт и за тобой тоже. Если не станешь человеком раньше – придёт и заберёт тебя. Маму он чуть не забрал, но я успела, отбила её. А тебя кто отобьёт?» Я обнял бабу Надю и вышел на воздух. Завёл машину, взглянул ещё раз на дом. Тот словно кричал о смерти, будто пророк посреди этой страшной деревни. Я тряхнул головой и отъехал, попылил по главной улице, мимо запертого магазина, мимо просевшей школы…
Уже на выезде свернул к дому Бенедиктовых, куда заглядывал ещё в тот, первый раз. Издали окинул взглядом, ожидая увидеть ещё большую разруху, но всё было по-прежнему – всё те же кривые стены построек, щербатая крыша, заколоченные окна. За весёлым зигзагом забора кто-то копошился в огороде. Я подошёл, свистнул: «Здорово, Костик! Как жизнь?» Крепкий парень-подросток, кудрявый, с приплюснутым носом, засветился щербатой улыбкой, принялся вытирать руки о штаны: «Дядя Саша! Вы как тут, проездом? Да заходите в дом, попьём чаю!»
В доме пахло травами. Пучки висели по стенам, стояли вязанками, топорщились изо всех углов, и этот неожиданный сильный запах будто нокаутировал меня. «О! Откуда столько… всего? Я даже не разберусь, что тут и от чего!» «Да от всего, – махнул рукой Костя, хлопотавший у стола. – Надюха сейчас у Матрёны работает, на заготовках: готовит разные сборы для фитобочек, ну знаете – в оздоровительном центре лечат этим делом. Так что у нас этого добра всё лето и всю осень полно. Вот и чай у нас такой, травяной, заварю вам с чабрецом, будете?» Я кивнул, опустился на скрипучий стул. «А мама с отчимом где?» – «Мамку тоже к Матрёне пристроила Надюха, а дядь Ваня на заработках, в Ужуре. Сушки будете? А то у нас не особо без Нади и мамки с продуктами, они привозят с Озёрска, после смены». Он виновато развёл руками, а потом вдруг охнул и выскочил в сенки. «Мёд же есть! – Костя торжествующе поднял на вытянутых руках литровую банку. – Хороший, свой. Колёк пасекой обзавёлся, уже год как мы с мёдом. Вкусный!»
Мёд был действительно божественный, таял во рту, отдавая чуть заметной горчинкой. И душистый чай из богородской травы был в самый раз и к этому мёду, и к каменным сушкам, и к этому кривобокому домику с его щербатыми и курносыми некрасивыми обитателями. Обломанной сушкой я цеплял тёмный густеющий мёд из банки и будто причащался жизни этих людей, выцарапывающихся из мертвящего бытия села Ошколь, будто чувствовал их напряжение, направление их воли. Вспомнил про Костиково желание стать учёным, спросил его: «А помнишь?..» Костик усмехнулся, шевельнул на столе большими мосластыми руками: «Буду учёным трактористом. Собираюсь через год в шарагу Сыринскую поступать. Там есть и общага, и жизнь повеселее. А тут же скука смертная. Если б не церковь, спился бы давно уже. Вон, полсела недавно потравились палёной водкой, мамку я откачал кое-как, очки ей прописали сильные, не пьёт пока, боится».
Я отложил сушку, поставил пустую чашку на деревянный самодельный стол, встал: «Ладно, поеду я. Мёд просто обалденный, как и чай, спасибо, что угостил. Привет передавай своим. И на службы ходи к отцу Филиппу». Костик тоже поднялся, протянул руку: «Вам спасибо, что не забываете. А на службы я хожу. Почти постоянно…»
«Спасибо, что не забываете…» Я поднимался на машине в гору от Ошкольской долины и думал: а за что это спасибо? Что я, а потом отец Филипп, могли дать этим людям, кроме редкой гуманитарки и подарков детям на Рождество? Просто могли быть рядом с ними иногда. Остальное они получали сами, когда над этим гиблым местом будто бы открылась дверь наверх. Мы не морализировали, не учили их жить, не обличали грехи и пороки, которые и так были очевидны. Просто были рядом. Держали дверь открытой…
На взгорке я снова тормознул и обернулся. Обычная деревня, каких тысячи по Сибири: умирающая, но живущая до последнего человека. Сражающаяся с фантомами, когда есть за что сражаться. Как там сказала Елена? «Он придёт и за тобой, если не станешь человеком»? Это правда: сумасшедшие замечают иногда очень точные вещи. Деревни умирают, да. Спиваются и деградируют люди. Даже общины – такие, как здесь, в Ошколе – обречены на исчезновение. Но те, кто стали людьми, останутся ими, куда бы их не забросило. Пока над ними открыто небо.
14.03.2020
ГВОЗДЬ
А есть ли он в жизни, праздник-то?
В.М. Шукшин «Калина красная»
1.
Отцу Алексею опять начала сниться зона, впервые за много лет. А сегодня приснилась ему тюрьма в Енисейске – длинный коридор, двери справа и слева, гудение люминесцентных ламп над головой, шарканье ботинок дубака3 за спиной. «Стоять! Лицом к стене!»
Он привычно поворачивается к серо-зелёной бетонной стенке, утыкается в неё матрасом, который он держит в руках. Под матрасом по коленкам его лупит пакет, висящий на правом запястье, он морщится. Камуфляжный «цирик»4 скрипит глазком, заглядывая в камеру, орёт, чтобы отошли от двери. Звенят ключи, скрежещет замок, скрипит железная дверь. «Пошёл!»
Он входит, дверь за ним с грохотом захлопывается. Десятка полтора зэков пялятся на него, кто от стола, кто со шконок. Юркий и улыбчивый, совсем молодой пацан соскакивает с «вертолёта», кидает ему под ноги полотенце, картинно кланяется: «Добро пожаловать!»
Разговоры в хате затихают, все чего-то ждут, и он, Лёха, знает, чего: он каторжанин бывалый. Встаёт на белую вафельную ткань ботинками без шнурков, демонстративно шоркает подошвами и отправляет полотенце пинком в сторону параши. Подходит к улыбчивому пацану и, глядя сквозь него, обращается ко всем: «Вечер в хату – часик в радость, братва!»
Камера одобрительно гудит: «И тебе, коль не шутишь», а у улыбчивого сползает с лица всё веселье – кина не будет сегодня, прописка отменяется. «Что, бродяга, кто здесь у вас смотрящий?»
Он поднимает взгляд, утыкаясь в нагловатые глазки-вишенки, которые сразу шарахаются вниз и в сторону, и поскучневший молодой кивает в дальний угол.
«Подержи!» – Лёха суёт ему в руки скрученный матрас, и оторопелый молодой его берёт автоматически и семенит за ним растерянно, не очень понимая, что сейчас произошло: его унизили только что на глазах у всей камеры, или он помог авторитетному сидельцу, только шагнувшему на кичу, что не западло. А Лёха идёт между шконками и столом, огибая потные спины разрисованных шахматистов, и они молча отодвигаются, пропускают его туда, в угол, где шевелится уже занавешенный простынёй шконарь, появляются худые жилистые ноги с восьмиконечными звёздами на коленках, и сердце Лёхино обмирает: вот сейчас он встанет со своей лёжки, подойдёт, обнимет, пристукнет по стриженой голове ладонью с синими перстнями, скажет тихо: «Ну, здорово, Гвоздь! Не ждали мы тебя, а ты нарисовался».
Тут он проснулся с колотящимся сердцем, мокрый от пота, будто уже провёл неделю в той душной хате, а рядом заворочалась во сне жена, и он замер, дожидаясь, когда она снова уснёт покрепче и засопит у себя на подушке. Потом он потихоньку встал, вышел в кухню, по пути заглянув в зал, где спали Ильюша и Васька, на кухне налил себе воды из-под крана, жадно выпил, сел за стол. Часы показывали четыре ночи, сон прошёл, оставив после себя яркое, как запах камеры, воспоминание и затухающую смесь ощущений: обиды на ментов – мол, за что, опять-то – облегчения, как будто вернулся домой, и радости от встречи с Хмурым, которая вот-вот состоится…
Свет он не включал, сидел на кухне в темноте, и эта привычка – ориентироваться впотьмах – тоже досталась ему ещё оттуда, с зоны. Когда выветрились остатки сна, быстро и тихо оделся, щёлкнул замком и сбежал по тускло освещённой лестнице, пахнущей кошками и подвальной сыростью, вышел на крыльцо подъезда пятиэтажки, широкими ноздрями жадно втянул в себя свежий морозный воздух. Кое-где светились оконца в «пятине» напротив, но они не могли притушить звёзд на небе, богато рассыпанных, будто кто-то большой, там, наверху, задумавшись, опрокинул большую консервную банку-пепельницу, а ветер разнёс и раздул угольками недогашенные «бычки» …
Отец Алексей побрёл, огибая невидимые ямки, по темной и скользкой дороге – мимо магазина, рынка, школы – привычным маршрутом, к церкви. На крыльце сдёрнул шапку, перекрестился, отпер дверь, разделся, шагнул к печке. Котёл догорал, и он досыпал в его пасть пару вёдер угля, пошебуршал там кочергой и отправился в «пасторскую», превращённую им в мастерскую. Достал с полки резачки, смахнул рукавом со стола стружку, уставился на зажатую в тисках заготовку, из которой проглядывала жилистая рука с обломанными ногтями. Сладковато пахло кедром. Он выбрал резак, чиркнул большим пальцем по острию, ойкнул, слизнул красную каплю: «Не затупился…» Потом снял тонкую стружку, сразу же спирально свернувшуюся и упавшую к его ногам. Потом ещё и ещё. Мысли улетели и руки сразу пошли работать веселее, будто сами знали, что им делать – хоть глаза закрывай. Он и закрыл, и сразу выплыл сегодняшний сон: СИЗО, обитатели «хаты» и дальний угол у окна…
2.
Первая ходка у Лёхи была в восемнадцать, когда они с пацанами «подломили» шахтинский продмаг. Взяли их через пару дней, когда они ещё и не схавали всё украденное. Водку даже не выпили, пол-ящика оставались заныканными в гараже Толяныча, где они собирались с местными шмарами, курили дурь и бухали. В этой «блат-хате» их и забрали шахтинские менты во главе с начальником, капитаном Васиным, прозванным в посёлке Чапаем. Тот носил скрипучие сапоги из мягкой кожи, начищенные до блеска, был обладателем густых прокуренных усов и здоровенных кулачищ, которыми лично выбивал из каждого дурь, вплоть до чистосердечного. Лёха был соседом Чапая по бараку, где жил тогда с матерью и тремя младшими братами, мента не уважал и чистосердечного не подписал, хоть ссался кровью потом еще неделю. Чапай пошёл другим путём и решил Лёху сломать на корешках – те под Чапаеву диктовку написали, что Лёха, мол, и был организатором и вдохновителем преступного деяния, хотя по правде идея была Толяныча, а его взяли «на слабо». Когда на третий день Лёху сотоварищи перевели из КПЗ в Сыринское СИЗО, Чапай пообещал ему минимум пятерик по сто сорок четвёртой групповой, и следак с прокурором так и вели, всю душу вынули за почти полгода следствия. Пацаны, Серый с Толянычем, уже и отказную написали по совету адвоката – мол, оговорили из-за жестокого обращения и угроз, а так, мол, они не при делах. Договорились, чтобы Лёха держал твёрдо показания, что был один, а консервы и водку просто попросил Толяныча похранить в гараже – в общем, пошёл «за паровоза», как не имевший до этого ходок. Так чудом с групповой соскочили, пацанам назначили укрывательство и по полгоду уже отсиженных на сыринской киче, а ему, по первоходу, дали полтора года на общем под Енисейском. Мать рыдала, конечно, и жалко её было, но Лёха горд был, что и пацанов отмазал, и со срока большого соскочил – спасибо адвокату Юрику Кобижаеву, судом назначенному, но не пальцем деланному. Пацаны на радостях собрали ему гонорар, а матери Лёха запретил платить, сказал, чтоб даже не думала.
Там же, на предвариловке, сумел он поставить себя в хате, сошелся с авторитетными людьми, те всё ему объяснили, как и что на общем режиме, кого держаться, от кого шарахаться, обещали отписать, когда с этапа придёт в лагерь. Кликуха «Миха» – по фамилии Михайлов – вроде как прилипла сама, и слава Богу, а то навидался он в СИЗО, как тюрьма имена даёт новичкам. Так стал он «Михой» ещё до зоны, куда он наконец-то добрался к осени, автозаками да столыпинским душным-набитым вагоном.
Уже там, на зоновском карантине, почуял Лёха вдруг тоску, что браслетом-наручником давит сердце независимо от срока, хоть и предстояло сидеть всего ничего – год с хвостиком. И чтобы избыть эту тоску по воле, по матери и братьям и по черноглазой крутобёдрой пэтэушнице Инне, что писала ему письма – типа, будет ждать и любит, несмотря на статью и гаражных шмар – он, Лёха, решил жить весело и привольно. И когда его определили наконец в третий отряд – после кошмаров карантина, где «пупкари»5 по очереди с «шерстяными»6 прессовали его, требуя вступить в актив и соблазняя условно-досрочным, – он влетел в барак на кураже и сразу попал на компанию блатных, что приняли его правильно, устроив рядом, налили дегтярно-чёрного чифиря, дали дёрнуть косяк и растолковали за понятия в этой хате. Сыринская малява подоспела, в общем.
От работы он ушёл в отказ, словил ШИЗО несколько раз подряд от кума, но к «мужикам» не пошёл, а потом Корень – смотрящий в их зоне – дал отмашку, и его перестали трепать, и он, как и большая часть правильных бродяг, стал выезжать на лесоповал, где сидел в бытовке или у костерка, или грелся на солнышке, когда оно грело. Там же, в бытовке, под вой бензопил и гул трелёвочников, волокущих брёвна, открылись его таланты кольщика. Рисовал Лёха и до этого, мог любую фотку скопировать и поправить жизнь на ней в лучшую сторону. Мамку Лору еще в СИЗО нарисовал по памяти на тетрадном листочке и таскал с собой везде, а письма Инне так и писал – десять строчек с признаниями и мечтами и два листа рисунков – цветочков в колючей проволоке, вышек с вертухаями и прочей лагерной романтики. Кто-то из пацанов заприметил его художества и шепнул Корню, а тот приставил его к Петровичу – каторжанину старому, сидевшему ещё при лысом Хрущёве, а может, и того раньше. Петрович – когда-то вокзальный вор, как тут говорили: «держащий бан» и «бегающий по майданам», – был капризный и ворчливый, но бил красиво, научил, как сделать машинку из шариковой ручки, моторчика от магнитофона и батарейки «крона», как забодяжить «жжёнку» из подошвы от старых ботинок или сапог, как перевести рисунок на кожу, если он большой, как растушевать тени – в общем, прошёл Лёха у Петровича целую академию. Причём тайную, поскольку менты пасли новые татухи, да и «дятлы» отрядников и кума стучали, что телеграф, и если от отрядников можно было откупиться (обычно картинами), то кумовские7 шмоны8 обычно кончались карцером. Поэтому ныкал Лёха свою первую машинку там же, где и смастерил, – возле той же бытовки, и колол сначала своим, всё больше тюремное – перстни, кресты, всякие оскаленные пасти, блатные надписи. Заодно – спасибо Петровичу – «наблатыкался» в тюремной криптографии, и в бане, когда мылись, достаточно было ему только взглядом мазнуть – и вся жизнь соседа была ему открыта: сколько сидел, за что и кто он по жизни.
Уже потом, когда Петрович на больничку загремел, стал бить в бараке, а народу там было человек сто. Нычку9 под машинку выдолбил в стене в «ленинской комнате», под штукатуркой, подошёл к делу находчиво, ни на одном шмоне тайник не нащупали. А надо-то было всего в нужное место вкрутить саморез и потянуть, а потом, когда обратно складывал, замазать трещину, да пылью «состарить». Там же, в «ленинке», и набивал ночами, под говорок порядочных сидельцев и попивал чифирок, смастыренный в банке самопальным кипятильником, который тоже где-то в бараке ныкали его хозяева. Балабол Витя Писатель, которому Лёха набивал на плече ангела с мечом, рассказывал, что в прежние времена, когда воровская власть в этой колонии была посильнее, а менты – попокладистее, банку с чифиром прятали в этой комнате прямо под ленинским бюстом. Рассчитывались с Лёхой сигаретами и чаем, половину он отдавал на «общак», а половину менял у лагерных барыг на жорчик, что доставали с воли или мастерили тут же, в местной столовке.
Так и текла Лёхина приблатнённая жизнь: рисовал да сидельцев расписывал, пока после нового, девяностого года, не приехала Инна, которой на днях стукнуло восемнадцать. Свиданку ей не давали, несмотря на то, что она называла себя Лёхиной невестой, и она заслала ему весточку: мол, хочешь увидеться – проси, чтобы расписали нас, как мужа и жену. Корень поворчал что-то про понятия, но согласился, и Лёхе дали три дня в гостинице при зоне. Пришла какая-то тётка из ЗАГСа, пробубнила положенное, они расписались в книге, похожей на амбарную, и их оставили одних. А когда зарёванная Инна уехала, а отъевшийся и опустошённый Лёха вернулся в барак, понял он, что оставшиеся пять месяцев будут для него мукой, несмотря на занятость рук. Тоска вернулась и заполнила мозг чифирной теменью, только без «прихода», и тогда он начал читать. Глотал он фантастику, авантюрные романы – типа «Капитана Блада» – всё, что попадалось под руку и разгоняло тошнотную муть ожидания свободы, даже осилил классику тюремного жанра, «Записки из мёртвого дома» тяжеловесного Фёдора Михайловича.
Накануне звонка10, примерно за полтора месяца, когда текли уже весенние ручьи и невыносимо было видеть небо за забором и выезжать в лес, заполненный птицами, он получил от Инны письмо, что скрывать беременность она уже не может, и на аборт идти поздно, так что готовься, Лёшенька, быть отцом. Лёха тогда напился самогонки, что подогнали ему через нужных барыг, нагрубил отряднику11 и угодил «на яму», в ШИЗО, откуда вышел тихий и просветлённый. Оставшиеся дни просидел так же тихо, без залётов, передал «нычку» с машинкой корефану Серёге Балабасу, на звонок проставился братве дачкой12 маминой с воли и получил лично от Корня пинок под зад с пожеланием больше не возвращаться. «Пацан ты порядочный, хоть и первоход, но лучше тебе в эту жизнь не лезть. Живи с семьей на воле правильно, а сюда не приходи». С этим напутствием Лёха и откинулся.
3.
Свадьбу сыграли в общаге, которую Инна получила незадолго до этого как будущая мать и нужный работник – она тогда секретарила в Шахтинской администрации и через год собиралась учиться заочно, «как с ребёнком освоимся». Глава посёлка расщедрился аж на две комнаты, там и гуляли – на третьем этаже, человек двадцать. Мама Лора наварила-напекла всякого, Серый с Толянычем, чувствуя вину за отсиженный Лёхой срок, накупили всякого-разного бухла и разносолов и вообще суетились много. Живот у Инны уже выпирал из-под белого платья, и лицо иногда шло красными пятнами, и, когда они с Лёхой танцевали, она, прижимаясь к нему, шептала на ухо: «Лёшенька, ты же не пойдёшь опять в тюрьму?», а захмелевший Лёха гладил её спину вспотевшей рукой и, улыбаясь глупо, мотал головой – мол, нет, никогда больше. А потом, оставшись одни, они лежали прямо на полу, на брошенном в угол пружинном матрасе, и, остывая от страсти, смотрели в светлеющее за распахнутым окном июньское небо; он курил, а Инна мечтала о будущей счастливой жизни, о поездках на море раз в году и своём доме, который Лёха с Инниным отцом достроит на подаренном им участке…
Хлопотами того же Инниного отца, Петра Борисыча, пристроили Лёху в то лето в «горячий цех» на Шахтинский завод цветных металлов. Лёха весь день тянул на прокате латунный провод и пруток, домой приходил уставший вусмерть и падал на матрас, засыпая сразу после ужина. С зарплатой было никак – обещали сначала заплатить за два месяца, а потом, в августе, и вовсе скроили всем работягам кукиш и пообещали выдать заработанное фольгой и проволокой – мол, продавайте, кому хотите сами. Советский Союз, скрипя, разваливался, отвалились за весну и лето Прибалтика, Молдавия, Белоруссия и Украина, к концу лета посыпались южные республики; все наработанные связи у завода распадались, начались перебои с поставками и с отправками, и в сентябре, когда у Лёхи и Инны родилась Людочка, их цех отправили в неоплачиваемый отпуск на неопределённое время, так и не выплатив зарплату за лето. Рабочие завода бурлили и митинговали, даже побили стёкла у заводской управы, да что толку? Из ничего ничего и получишь. Выручали огороды мамы Лоры и Инниных родителей: картошки насадили в этом году много, и был шанс зиму протянуть на толчёнке и драниках, но у Инны пропало молоко от всех треволнений, и нужны были смеси и детское питание, а оно стоило.


